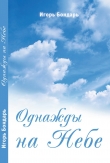Текст книги "Поэтика ранневизантийской литературы"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Здесь утрачена мистическая диалектика Нового Завета: «Мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, то, что отчасти, прекратится». Для фидеистического рационализма средних веков временами исчезало всякое «отчасти»: все разъяснено, все расписано с самого начала, как текст некоего священного действа, никто не собьется со своей роли. Фидеистический рационализм враждебен не только духу научности; в известных пределах он враждебен религиозному переживанию тайны. Абсолютное будущее слишком определенно, чтобы быть абсолютным, и, пожалуй, слишком определенно, чтобы быть будущим. Из бездны света оно превращается в массивный золотой иконостас. «Имперфект» человеческой истории, да и библейской «священной истории», не столько «прошедшее», сколько проходящее время, заменяется снятым и готовым «перфектом» извечного Божьего решения, заменяется стоящим настоящим литургии, но также имперской идеологии, которая готова отнести апокалиптические пророчества о тысячелетнем царстве мира к сбывшейся, осуществившейся еще при Константине христианской государственности 61. Настоящее остановлено; будущее – уже не совсем будущее, ибо оно в некоем идеальном плане дано готовым сейчас, но и прошедшее – не совсем прошедшее, ибо оно, как предполагается, обладало смысловым
содержанием настоящего и будущего. В самом деле, если новозаветные авторы не устают подчеркивать новизну своей веры и своей «вести», то Евсевий энергично утверждает, что в христианстве нет «ничего нового и ничего странного» 2, что в некотором смысле оно существовало от начала мира". И здесь мы имеем дело с мыслительными мотивами, которые, вообще говоря, не исключают друг друга. И Новому Завету (тем более апологетам) не чужда мысль об идеальном предсуществовании христианской веры, и Евсевий не может не считаться с конкретностью ее возникновения во времени. Но весь вопрос в том, на чем ставится акцент; и мы имеем право и обязанность отметить, что акцент переместился – с «нового» на «предвечное».
Фидеистический рационализм присущ не только византийской культуре; он характерен для всего средневековья. Чтобы христианство могло стать идеологической санкцией раннесредневековой монархии, а затем – позднесредневе-кового феодализма, его динамические идейные структуры должны были в пределах возможного быть заменены статичными. Но на Западе, где империя была слабой и обреченной, где ей предстояло перейти из мира реальностей в мир желательностей, для мистического историзма оставалось больше места. Именно там мистический историзм и был возведен на новую, философскую ступень, став основой широкого интеллектуального синтеза. Результат этого синтеза – труд Августина «О граде Божием». История человечества представлена в нем как противоборство двух человеческих сообществ («градов» в античном смысле города-государства, города-общины): мирской государственности и духовной общности в Боге. «Град земной» основан «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу», «град Божий» – «на любви к Богу, доведенной до презрения к себе». Граждане «града Божия» хранят верность небесному отечеству и остаются «странниками» в земном отечестве. Напряжение между двумя полюсами истории мыслится не снятым и после Константина. История – это драма, разделенная на шесть актов (сообразно шести дням творения): 1-й период– от Адама до гибели первого человечества в
волнах потопа, 2-й – до Авраама, заключившего «завет» с Богом, 3-й – до священного царства Давида, 4-й – до крушения этого царства и Вавилонского плена, 5-й – до рождества Христова; 6-й период все еще длится, а 7-й даст трансцендирование истории в эсхатологическое время.
Vвек дал всему средневековью две книги, каждая из которых выразила в предельно обобщенном виде идеологические основания огромной эпохи. Но одна из них написана по-латыни, другая – по-гречески, и различие между ними как бы символизирует различие между латинским миром и ранневизантийской культурой. Тема трактата «О граде Божием» – мир как история, причем история (разумеется, «священная история») понята как острый спор противоположностей и как путь, ведущий от одной диалектической ступени к другой. Временное начало принято у Августина по-настоящему всерьез. Тема корпуса так называемых «Ареопагитик» (сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита) – мир как «космос», как структура, как законосообразное соподчинение чувственного и сверхчувственного, как иерархия, неизменно пребывающая во вневременной вечности. И Августин, и Псевдо-Ареопагит идут от идеи церкви. Но для Августина церковь – это «странствующий по земле», бездомный и страннический «град», находящийся в драматическом противоречии с «земным градом» и в драматическом нетождестве себе самому (потому что многие его враги внешне принадлежат к нему). Для Псевдо-Дионисия церковь– это иерархия ангелов и непосредственно продолжающая ее иерархия людей, это отражение чистого света в чистых зеркалах, это стройный распорядок «таинств»; о драматизме, о проблемах не приходится и говорить.
Августиновская философия истории имела на Западе таких наследников, как Отгон Фрейзингский, написавший в XII в. свою «Хронику, или Историю о двух Градах». Начавшись ортодоксальным историзмом Августина, культура западного средневековья завершает свой путь еретическим историзмом Иоахима Флорского, учившего о диалектике трех «мировых состояний» (эры Отца, эры Сына, эры Святого Духа) и вдохновлявшего ереси предвозрожденческой
поры. Но даже историософская доктрина Августина сохранила известную привлекательность для гуманистов Ренессанса; недаром Эразм издал трактат «О граде Божием», а Вивес его комментировал 64. Псевдо-Дионисиева философия мирового строя тоже имела наследников внутри породившей ее византийской культуры – от Максима Исповедника до Григория Паламы. Но не только на византийском Востоке ее идеи вошли в плоть и кровь цивилизации. Корпус Псевдо-Дионисиевых трактатов рано подвергся переводу на латинский язык, и к этим трактатам писали комментарии ведущие мыслители средневековья и Возрождения – в их числе Фома Аквинский и Марсилио Фичино. Без влияния «Ареопагитик» были бы невозможны философские построения Иоанна Скота Эриугены и Николая Кузанского, эстетика света и символа, выраженная у Суге-ра65 и Витело66 и воплощенная как в готическом искусстве, так и в поэзии Данте 67. Иное дело – труд Августина. Его двадцать две книги практически остались неизвестны ученым теологам грекоязычного мира68. Его идеи не могли быть восприняты официальным ромейским правоверием.
Недостаточно констатировать, что ранневизантийскому образу мира свойственна приглушенность динамики мистического историзма и эсхатологизма. Даже та мера интереса к движению «священной истории», которая присутствует в составе ранневизантийской культуры, от века к веку уменьшается. Наглядный тому пример – жанровая эволюция церковной поэзии. Эволюция эта открывается расцветом так называемого «кондака» – поэмы, включающей в себя повествовательные и драматизированные, диалоги-зированные части. Действующие лица такой поэмы обмениваются репликами, изливают в патетических монологах свое душевное состояние, вступают в собеседование или спор. Прославленный мастер такой поэзии– Роман Сладкопевец. Мы только что видели, что он придает «священной истории» черты драмы, как бы разыгрываемой по готовому тексту, существовавшему еще до начала времен; и все же это как-никак драма, и она, по крайней мере, действительно разыгрывается. Событие приобретает облик ритуального «действа», некоей мистерии 70; но оно изображается именно как событие. Оно имеет свое настроение, свою эмоциональную атмосферу, выраженные в речах действующих лиц или в восклицаниях «от автора», оно расцвечивается апокрифическими наглядными подробностями, и необходимый поучительный момент как-то соотносится с его конкретностью. Здесь Роман, этот выходец из Сирии, был наследником сирийских поэтов, создавших форму так называемой «сугитты» – патетического диалога между участниками библейского или житийного эпизода. Потомки отнеслись к наследству Романа необычно. Они канонизировали его и придали его имени почетное прозвище «Сладкопевец», они рассказывали о нем легенды; но они не оставили ни одной его поэмы в церковном приходе п. Там, где он предварял рассказ медитацией о его смысле, они отсекали рассказ и оставляли медитацию. Время для картинных повествований и драматических сценок прошло; наступило время для размышлений и славословий. Жанровая форма кондака вытесняется жанровой формой канона. Классиком последней был "Андрей Критский. Он написал «Великий канон», где в нескончаемой череде проходят образы Ветдого и Нового Заветов, редуцируемые к простейшим смысловым схемам. Например, Ева – это уже не Ева: это женственно-лукавое начало внутри самой души каждого человека:
Вместо Евы чувственной мысленная со мной Ева – Во плоти моей страстный помысл… п
Так мог бы, собственно, сказать и Роман; но у него это было бы басенной «моралью» к повествованию. Андрея Критского не интересует повествование, его интересует «мораль». Весь «Великий канон» – как бы свод «моралей» к десяткам отсутствующих в нем «басен». Конкретность «священной истории» перестает быть символом и становится не более как иносказанием.
Церковные поэты последующих веков – Иоанн Дамас-кин и Косьма Маюмский, Иосиф Песнопевец и Феофан Начертанный, и прочие, и прочие – это не наследники Романа; это продолжатели традиции Андрея. Структура канона
предполагает, что каждая из его девяти «песней» по своему словесно-образному составу соотнесена с одним из библейских моментов (первая – с переходом через Красное море, вторая – с грозной проповедью Моисея в пустыне, третья – с благодарением Анны, родившей Самуила, четвертая – с пророчеством Аввакума, и так далее, без всякого отступления). Это значит, что в каноне на Рождество первая песнь берет тему Рождества, так сказать, в модусе перехода через Красное море:
Ты свой народ избавил древле, Господи, Рукою чудотворною смиряя хлябь; Но так и ныне к раю путь спасительный Ты отверзаешь., Девой в мир рождаемый, Хоть человек всецело, но всецело Бог73.
Событие перестает быть событием и превращается в модус для одного и того же, все время одного и того же смысла. Победа канона над кондаком – это победа «александрийской» тенденции над «антиохийской».
Но идет ли речь о мире в пространстве или о мире во времени, образ этого мира наделен в византийском сознании некоторыми непременными свойствами. Если оставить за скобками все, что предполагалось отсутствующим в первоначальном творческом замысле Бога– недолжный выбор свободной воли падших ангелов и людей, порожденную этим выбором геенну, вообще моральное и физическое зло, – мировая полнота в целом оценивалась как нечто «благое», нечто упорядоченное, нечто целесообразное и смыслосообразное, т. е. отвечающее эсхатологическому назначению и символическому содержанию.
Для средневековой мысли, как, в общем, и для античной мысли, «благое» – это оформленное и округленное, совершенное и завершенное, а потому необходимо конечное в пространстве и времени.
Упорядоченное – это расчлененное, «членораздельное». Мир «членоразделен», как членораздельно «Слово»,
вызвавшее его к жизни. Библия описывает сотворение мира, как ряд актов «отделения» одного от другого («…и отделил Бог свет от тьмы…», «…и отделил Бог воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью…»); и она требует от человека «отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» 74. Бог «отделил» – и человек должен «отделять».
Средневековый образ мира членится во времени и в пространстве на две части, и части эти неравны по своему достоинству; их отношение иерархично.
У времени два яруса: «сей век» и превосходящий его «будущий век».
У пространства тоже два яруса: «поднебесный мир» и превосходящий его «занебесный мир».
Можно было бы сказать вышеприведенными словами «Книги Левит», что нижний ярус в каждом случае относится к верхнему, как «несвященное» относится к «священному» и как «нечистое» относится к «чистому». Это так, но это не совсем так. С христианской точки зрения все время есть «Божье» и постольку сакральное время, все пространство есть «Божье» и постольку сакральное пространство; Бог есть «благословляющий и освящающий всё». Поэтому вступает в действие оппозиция «священное – священнейшее». Эта оппозиция выражена в двуединстве христианского канона Библии: Ветхий Завет свят, однако Новый Завет более свят. Она выражена в религиозно-социологической дихотомии: и верующие миряне – освященный «народ Божий», даже в некотором смысле «царственное священство» 76, «люди, взятые в удел» 77, но только священнослужители составляют «удел» Бога (кА, тро<;– «клир») в особенном, повышенном, усугубленном смысле. Она выражена в архитектуре церкви: весь храм – священное место, но алтарь священнейшее. Она выражена в распорядке церкви: всякое богослужение– сакральный акт, но литургия принадлежит к более высокому уровню сакральности. Она выражена в двойственной системе этики: браку принадлежит «честь», но аскетическому, обетному «девству» – большая «честь» 78.
Легко усмотреть, что двухъярусность средневекового образа совмещает в себе дуальные противоположения, то дополняющие друг друга, то сливавшиеся или смешивавшиеся друг с другом, но различные по своему генезису и по своей внутренней логике.
Во-первых, это библейская, ветхозаветная оппозиция: не до конца осуществившая себя «слава Божия» в истории – ее окончательное осуществление в эсхатологическом «дне Яхве» 79.
Во-вторых, это платоновская, философски-спиритуалистическая оппозиция или, точнее, пара онтологически приравненных оппозиций: чувственный мир тел – умопостигаемый мир идей; время – вечность.
К этому надо добавить, в-третьих, в-четвертых и в-пятых, извечную культовую оппозицию житейски-профанно-го и сакрально-табуированного, столь же извечную мифологическую оппозицию настоящего времени и времени мифа, наконец, народно-сказочное противоположение области кривды и области правды. Такой ряд можно было бы продолжить. Особенно противоречивыми были отношения взаимопритяжения и взаимоотталкивания между библейским и платоническим подходами к членению всего сущего. Христианство– ни в коем случае не религия «духа»; это религия «Святого Духа», что отнюдь не одно и то же. Ее идеал – не самоодухотворение, а «покаяние», «очищение» и «святость», что опять-таки не одно и то же. С христианской точки зрения и плоть может быть «честными мощами», а дух может быть «нечистым духом» – причем, что особенно важно, нечистым вовсе не в силу контакта с материей, как представляли себе платоники, гностики и мани-хеи, но по собственной вине непослушания. Христианство учило о святом веществе евхаристических «Даров», о воскресении плоти и ее будущей славе. «Не всякая плоть – одна и та же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава у небесных, иная слава у земных, иная слава у Солнца, иная слава у Луны, иная слава у звезд;
Как предполагалось,
и звезда от звезды разнится в славе»
вся совокупность материальных вещей создана творчеством Бога и «хороша весьма» 8 |, между тем как дьявол вызвал к жизни только одну злую и притом, кстати говоря, всецело невещественную, всецело духовную вещь – грех. Грань между добром и злом идет для христианства наперерез грани между материей и духом.
Строго говоря, абсолютизированная в спиритуалистическом смысле дихотомия телесного и бестелесного, вещественного и невещественного– не христианская дихотомия. Абсолютным мыслилось только различие между Богом и «тварью». «Бестелесным и невещественным, – поясняет Иоанн Дамаскин, – называется ангел по сравнению с нами. Ибо в сравнении с Богом, который один несравним, все оказывается грубым и вещественным. Одно только божество в строгом смысле слова невещественно и бестелесно» 82. Однако и навыки мышления в формах греческого идеализма, очень устойчивые у многих представителей патристики, и практические нужды морального назидания в аскезе заставляли ранневизантийских авторов вновь и вновь говорить платоническим языком. Если нужно уговаривать мирянина или тем более монаха обуздывать свое тело и подчинять его уму, было слишком удобно сказать, что ум как бы субстанциально выше материального, «грубого», «тучного» тела.
Двухъярусное членение мира могло иметь временной, т. е. исторический, модус (когда противопоставлялись друг другу «сей век» и «будущий век» как настоящее и грядущее). Оно могло иметь пространственный, т. е. космологический, модус (когда противопоставлялись друг другу «земное» и «небесное» в буквальном, отнюдь не метафорическом смысле слова). Оно могло иметь, наконец, философский, онтологический модус (когда противопоставлялись друг другу материя и дух, время и вечность, что можно также обозначить как «земное» и «небесное», но в порядке метафоры).
Все три модуса были сопряжены в единой символической системе как взаимозаменимые смысловые эквиваленты. Перед нами как бы уравнение: духовное так относится к
телесному, как небеса относятся к земле и «будущий век» относится к «сему веку» (ряд можно продолжить – таково же отношение восточной стороны к западной стороне, правой стороны к левой стороне, и т. д.). Но этого мало. Достаточно часто приравниваются друг к другу не только отношения, но и сами члены этих отношений; взаимозаменимость как бы переносится на них.
Уже в Новом Завете речь идет о человеке, который был «восхищен до третьего неба». Автор добавляет: «в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает» 83. Если этот путь на небеса был совершен «вне тела», его надо мыслить как духовный экстаз, как переступание онтологической грани, для которого пространственные образы «небес» и «земли», «горнего» и «дольнего» могут служить только метафорой. Если же он был совершен «в теле», его надо мыслить как пространственное движение. Что же выбрать? Автор не дает нам ответа. Он говорит «не знаю».
Еще более характерный пример– ранневизантийская легенда о поваре Евфросине84. В ней повествуется о некоем священнике: «когда он спал на постеле своей, ум его был восхищен, и пресвитер очутился в саду, какого он никогда не зрел». Разумеется, этот сад – райский сад. Казалось бы, отчетливо сказано, что персонаж легенды проник на верхний ярус мирового бытия «вне тела»; ведь тело оставалось «на постеле», и «восхищен» был только «ум». Но в раю священник получает в дар три яблока; и вот оказывается, что эти яблоки он самым вещественным образом приносит с собой на землю, к своему же собственному телу. «В это время ударили в било, и, пробудившись, пресвитер подумал, что видит сон, но, когда выпростал левую руку свою из плаща и в ней въяве лежали яблоки, восхитился ум его». По логике этой легенды различие между странствием на небеса «в теле» и «вне тела», между космологической и онтологической оппозициями вообще снимается. Одно до конца приравнено к другому.
Знак, знамя, знамение
Историческим итогом античности, ее концом, ее пределом оказалась Римская империя. Она подытожила и округлила пространственное распространение греко-римской цивилизации, собрав в единую «ойкумену» земли Средиземноморья. Она сделала больше: она подытожила и обобщила идейные основания греко-римской государственности за целое тысячелетие – от смутных реминисценций древнейшей сакрально-магической монархии ' до политико-философских доктрин стоического просветительства. В пространстве рубежи империи совпадали с границами обширного культурного региона, но по идее они совпадали с границами человечества, чуть ли не с границами мироздания – того самого «Зевсова полиса», о котором говорил Марк Аврелий, глава империи и философ империи в одном лице2.
Конечным вариантом имперской философии стал неоплатонизм 3. Это был не столько неоплатонизм Плотина, сколько неоплатонизм Прокла, выведший итог всех путей греческой идеалистической мысли от мифологической архаики до аристотелианской протосхоластики. Уступая Плотину в творческой гениальности, в легкости и свободе мышления, Прокл дал то, чего не дал Плотин и что все настоятельнее требовалось эпохой: дотошное исчерпание каждой темы в строгой последовательности дефиниций и силлогизмов, эллинское предварение схоластических «сумм» – философию итога как итог философии.
Во всех этих случаях итог превращал то, итогом чего он был, в противоположность себе. «Полис», который мыслится равновеликим миру (уже Рутилий Намациан в начале V в. играл с созвучием латинских слов «urbs» – «город» и «orbis» – «мир» 4), есть радикальное отрицание настоящего полиса, которому, по суждению Аристотеля, полагалось непременно быть «обозримым» с вершины его акрополя 5. Все основные компоненты античной цивилизации нашли
себе место внутри конечного синтеза, но каждый раз на правах метафоры, аллегории, символа, нетождественного собственному значению.
Последней формой конкретно-чувственной «обозримости» полиса становится абстрактная «обозримость» империи, ресурсы которой исчислены фиском: «Рим» как «мир».
Последним гарантом полисной цивилизации становится отрицание полисной свободы, воплощенное в особе римского императора: самодержец как «друг полисов» 6.
Последней санкцией «языческого» эллинского интеллектуализма в его борьбе с христианством становится вера неоплатоников в чудотворные способности своих учителей Ямвлиха и Прокла, в богооткровенный характер текстов Гомера и Платона, в первобытную мудрость ритуала и мифа: диалектика и логика как вид аскетико-магического «очищения».
Из таких реальных «аллегорий» и «катахрез» складывается жизнь, государственность и культура огромной эпохи, чрезвычайно много давшей последующему развитию. Это факт, перед лицом которого наивно жаловаться на «лицемерие» государства и «упадок» культуры, в зловещем сотрудничестве все «извративших» и выстроивших целый мир мнимостей. Тем более не стоит говорить, будто античная культура изменила себе и отреклась от себя в результате широкого восприятия влияний с Востока; в Заключении речь пойдет о диалектическом характере реальных отношений между этими влияниями и путем самой античной культуры. То, к чему в конце концов пришла античность, было именно ее, античности, закономерным итогом; и как раз потому итог этот – уже не античность.
Так или иначе, итог был выведен; затем настало время для распада и строительства новой цивилизации. Но итог отнюдь не был перечеркнут. В продолжение раннего средневековья (и даже много позднее) он стоял перед умственными взорами, как норма и как парадигма, как знак и «знамение».
Даже на Западе Римская империя перестала существовать «всего лишь» в действительности, в эмпирии – но не в идее. Окончив реальное существование, она получила взамен «семиотическое» существование. Варвар Одоакр, низложивший в 476 г. последнего западноримского императора Ромула Августула, не мог сделать одной малости: присвоить императорские инсигнш. Он отослал их в Константинополь «законному» наследнику цезарей – восточ-норимскому императору Зинону. Победитель знал, что делал. Пусть Италия – колыбель и одновременно последняя территория Западной империи; сама по себе она представляет собой только совокупность земель и по праву войны оказывается добычей варваров. Но вот знаки упраздненной власти над исчезнувшей империей – совсем иное дело; их нельзя приобщить к добыче, ибо значение этих знаков превышает сферу реальности и причастно сфере долженствования. Потому же остготский король Витигис, ведя войну с Юстинианом за реальную власть над Италией, приказывает чеканить на монетах не свое изображение, но изображение Юстиниана; знак власти непререкаемо принадлежит последнему. Знаком из знаков становится для Запада многократно разоренный варварами город Рим. Когда в 800 г. Запад впервые после падения Ромула Августула получает «вселенского» государя в лице Карла Великого, этот король франков коронуется в Риме римским императором и от руки римского папы. «Священная Римская империя германского народа» – эта позднейшая формула отлично передает сакральную знаковость имени города Рима. Это имя – драгоценная инсигния императоров и пап. Поэт XI – ХП в. Хильдеберт Лаварденский заставляет олицетворенный Рим говорить так:
Стерто все, что прошло, нет памяти в Риме о Риме,
Сам я себя позабыл в этом упадке моем. Но пораженье мое для меня драгоценней победы —
Пав, я славней, чем гордец, нищий, богаче, чем Крез. Больше дала мне хоругвь, чем орлы, апостол, чем Цезарь,
И безоружный народ – чем победительный вождь. Властвовал я, процветая, телами земных человеков —
Ныне, поверженный в прах, душами властвую их7.
«Монархия» Данте, написанная в 1312–1313 г., – свидетельство обаяния, которое было присуще римской имперской идее уже на самом исходе средних веков.
Так обстоит дело с «концом» Западной империи. Но Восточная империя и вовсе не окончилась. Непрерывное преемство римской власти на берегах Босфора недаром было в глазах того же Данте сияющим и недостижимым образцом. В начале шестой песни «Рая» поэт устами того, кто «был кесарем, теперь – Юстиниан», восхваляет имперского орла, перелетевшего при Константине на Восток и хранившего мир «в тени своих священных крыл» («sotto l'omb-ra delle sacre penne»).
С тех пор, как взмыл, послушный Константину,
Орел противу звезд, которым вслед
Он встарь парил за тем, кто взял Лавину, Господня птица двести с лишним лет
На рубеже Европы пребывала,
Близ гор, с которых облетела свет; И тень священных крыл распростирала
На мир, который был во власть ей дан,
И там, из длани в длань, к моей ниспала. Был кесарь я, теперь – Юстиниан;
Я, Первою Любовью вдохновленный,
В законах всякий устранил изъян8.
То, что было утопией для Запада, представлялось реальностью в Византии. Константинополь – это «Новый Рим» (Nea Рсоцч).
Следует отметить фундаментальную роль, которую в данном случае играет семиотическая операция переименования. Византийский мир начинает и оправдывает свое бытие при помощи ряда переименований. На месте будущего Константинополя почти тысячу лет существовал греческий город Византии, основанный выходцами из Мегары еще около 660 г. до н. э.; но его история была перечеркнута эмблематическим актом «основания» города 11 мая 330 г. – Византии должен был стать предысторией самого себя, чтобы Константинополь мог начаться. Поэтому в идее византийская столица выросла как бы на пустом месте, и если
эмпирически это было не так, идея этим только подчеркнута. Византии мыслится нетождественным себе, но зато тождественным Риму. Название «Константинополь» – не совсем официальное. По сути дела, этот город не имеет имени, а только титул – «Новый Рим». Наименование, которое ему дали наши предки как городу царей и царю городов, – «Царьград» – тоже представляет собой титул.
Греки и малоазийцы, славяне и армяне, говорившие по-гречески, не видавшие Италии, обычно не питавшие к «латиняням» особенно добрых чувств9, переименовывают себя как носителей имперской государственности в «роме-ев». Все они – «римляне». Вспомним, что в античные времена Рим отличался от греческих городов-государств тем, что с несравнимо большим тщанием разрабатывал официальную и официозную эмблематику инсигний и регалий (особые виды тоги для каждого гражданского ранга, сословия и положения, «курульное» кресло и ликторские «фасции» в строго отмеренном числе, золотое кольцо «всадников» и т. п.). Недаром церемониал римских аристократических похорон так поразил непривычного к таким вещам грека Полибия 10. Недаром наши слова «официальный» и «официозный» восходят к латинскому слову «officium», представляющему собой один из центральных терминов древнеримской этики и обозначающему «обязанность» личности перед безличным и сверхличным порядком государства и традиции. Этот римский стиль эмблематики оказал существенное воздействие на религиозную эмблематику раннесредневековой церкви; достаточно вспомнить, что церковная архитектура усвоила схему римского здания для гласного судопроизводства – так называемой базилики – с ее полукруглой апсидой и возвышением для судьи". Этот стиль эмблематики оказал еще более прямое воздействие на политическую эмблематику византийской монархии; например, столь характерное для византийской жизни резервирование пурпурных одежд и сапожков за императорской особой (по Иоанну Златоусту, «если частный человек возлагает на себя царственное пурпурное одеяние, он и его пособники бывают казнимы за крамолу» 12) восходит к распоряжению Нерона |3. Римляне долго культивировали вкус к инсигниям и титулам, и в конце концов самое имя «римлян» стало в Византии титулом и инсигнией…
Уже начало византийской государственности, выразившее себя в церемонии переноса столицы в «Новый Рим» – и, если угодно, в крещении Константина Великого незадолго до его смерти, – уже это начало отличается от событий, положивших начало другим империям, как символический акт отличается от реального. Там «в начале» были войны и завоевания, здесь– прежде всего церемония. Византийская империя и ее столица на Босфоре – словно ребенок, применительно к которому учитывается не дата рождения, а дата крещения. Поразительно, что в «этиологической легенде» о начале Константиновой империи, т. е. в рассказе Евсевия о видении Константина, речь идет не о чем ином, как о знаке, который есть знамение и знамя u: «In hoc sig-по vinces».
***
Нельзя не видеть, что тяготение к эмблематике стимулировалось политическим феноменом византийского монархизма.
Ряд аспектов связи между тем и другим сразу бросается в глаза.
Общеизвестно, что придворная жизнь и придворная эстетика времен Константина I и Юстиниана I (явившие собой, как хорошо видно из приведенного выше текста Данте, норму и образец для всего, что было в средние века «имперским») потребовали небывало прочувствованного отношения к инсигниям и регалиям |5, а также к униформам. Эстетика униформы принципиально схематизирует образ человека: получается схема и «схима» (по-гречески одно и то же слово охчЦ°0– «Схоларии», составлявшие репрезентативное окружение Юстиниана, поражали взгляд своей великолепной и притом совершенно единообразной одеждой: белая туника, золотое ожерелье, золотой щит с монограммой Иисуса Христа, золотой шлем с красным султаном и т. д. |6 На противоположном полюсе ранневизантийского общества бедная одежда монахов пустыни тоже представляет собой «схиму»: единообразную «ангельскую» униформу. Значение, которое придавалось этой униформе, подчеркнуто легендой, согласно которой бывший солдат и основатель «общежительного» монашества копт Пахомий (ум. в 346 г.) скопировал ее с одежды явившегося ему ангела 17. «Ангельскому чину» приличествует ангельская «схима». Наконец, образы «Церкви Торжествующей» на мозаиках Равенны тоже отмечены чертой униформированности: ангелы в апсиде Сан Витале, кортеж святых девственниц на северной стене Сан Аполлинаре. Ангелы – это «схоларии» небесного двора, как святые девственницы – его придворные дамы. Каждый небесный «чин» (xafyq) имеет подобающую ему «схиму». Таков закон иерархии.