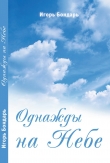Текст книги "Поэтика ранневизантийской литературы"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Мы говорили о контрасте между эллинским и ближневосточным отношением к сфере дидактики. Наряду с контрастом, однако, поспешим отметить и сходство, выявившееся в эллинистическом синтезе и предопределившее византийский синтез. Сходство это состоит прежде всего в особой предрасположенности к восторгам школы, к тому, чтобы видеть в «учении» как таковом ценность превыше всех ценностей. Перед мудростью должны отступить на задний план и воинские добродетели, и простосердечная «душевность»: как ближневосточный человек, так и эллин лелеют не «душевное», а «духовное» 23. Слов нет, мудрость, которую искали ученики Сократа, и мудрость, которую искали ученики рабби Акибы, суть вещи разные, отчасти противоположные. Но для тех и для других их «мудрость» есть предмет всепоглощающей страсти, определяющей всю их жизнь, и обладатель мудрости представляется им самым достойным, наилучше исполнившим свое назначение человеком. Так было не со всеми. Римлянину импонирует солидная взрослость делового человека, который именно чувствует себя слишком взрослым, чтобы до гробовой доски оставаться восторженным школяром, дышать школьным воздухом и забывать себя в умственной экзальтации 24. На воображение более молодых, «варварских» народов действуют образы неустрашимой храбрости, силы, широкого великодушия 25. Но в трактате «Речения отцов», возникшем на палестинской почве в позднеантичную эпоху, говорится: «Кто есть богатырь (gibbor)? Побеждающий свои чувства, ибо написано: лучше терпеливый, нежели силач, и владеющий духом своим, нежели покоритель градов» 26. При всей пропасти между восточным книжником и греческим философом, оба они – люди, которым не жаль всей жизни ради обретения умственной выучки. Греки рассказывали, как стоик Клеанф в молодости трудился ночи напролет, зарабатывая на жизнь, чтобы иметь возможность просиживать дни в школе Зенона и вникать в суть доктрины учителя. Евреи рассказывали, как жена рабби Акибы продала украшения, чтобы дать мужу денег на долгие годы учения, и потом полжизни терпеливо ждала домой заучившегося школяра. Не всякий народ вкладывает в подобные легенды так много пафоса.
Византийцы были наследниками и эллинского, и библейского культа школы. Но между ними и древним миром стояло христианство, которое придало космической универсализации образов учительства и ученичества новый смысл и новый размах.
Иначе и быть не могло. Ведь христианин – не только «почитатель» Христа (как грек классической эпохи – «почитатель» своих олимпийцев), не только его «мист» (как посвященный в таинства – «мист» своего божества27), даже не только его «верный» и «воин» (как митраист —
«верный» и «воин» Митры28); он прежде всего «ученик» Христа, питомец его «школы». Христос для него – авторитетный глава школьного предания, как Пифагор – для пифагорейца, Платон – для платоника2. Недаром рождающийся жанр церковной истории был принужден перенять формальные черты старого жанра истории философских школ30. Лукиан из Самосаты, умный и едкий сторонний наблюдатель, подметил эту черту: христиане, по его замечанию, поклоняются некоему «распятому софисту» 31. Любопытно, что это словечко Лукиана, этого «богохульника» и «злоречивца», как его называет словарь Суда, дословно повторено христианским писателем Палладием Еленополь-ским: «Иисус Христос, этот архипастырь, и архиучитель, и архисофист» 32. Непочтительный взгляд извне и благоговейный взгляд изнутри видят одно и то же: основатель христианства может быть уподоблен «софисту» 33, профессиональному учителю, и притом постольку, поскольку основанное им христианство может быть уподоблено школе этого «софиста». «Училище» (5i8ocaKocXeiov) наше», – говорит Афанасий Александрийский о церкви 34. «Все верующие суть ученики Христовы», – подтверждают так называемые «Апостольские установления», возникшие в Сирии или в Константинополе около 380 г.35 Давно отмечено, что раннехристианская иконография Христа со свитком, апостолов и других возвестителей «учения» 36 шла от привычной манеры изображать философа как учителя, как главу школы – схоларха37. Но если в кругу эллинистических понятий Христос мог восприниматься как «софист», в кругу палестинских понятий он изначально воспринимался как «рабби». Так обращаются к нему в Евангелиях Иоанновы ученики 38, Нафанаил39, фарисей Никодим 40, Петр на горе Фавор41, Иуда в момент предательства42. Конечно, он являет собой среди рабби (как, впрочем, и среди «софистов») случай исключительный, неподзаконный, ибо он учит, не пройдя учения у другого учителя, не включась в ряд школьного преемства43, и притом учит, «как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» 44. Харизматическое учительство не подчиняется школьным нормам, а полагает новые нормы новой «школы»; но это именно учительство. Евангелия чаще всего показывают Иисуса учащим: «ходил Иисус, уча в синагогах» "45, «вошел Иисус в храм и учил» 46, «по обычаю своему, он учил их» 47 – подобные слова встречаются то и дело. Синагоги, притворы Иерусалимского храма – нормальная обстановка деятельности рабби.
Для неверующего этот «рабби», этот учитель или лжеучитель – лишь один в ряду других «учителей во Израиле». Другие рабби диспутируют с ним, как со своим коллегой и конкурентом 49. Есть ученики у него, и есть ученики у других учителей, и можно спорить, чьим учеником быть лучше. Но для верующего Христос – единственный учитель, по отношению к которому все люди должны соединиться в братстве учеников. «Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос; вы же все – братья» я. Пределы такой «школы», совпадают с пределами вселенной, если не в реальности, то в идее. Афанасий вводит образ «священного училища богопознания, явленного всей вселенной» 52.
Если вселенная – школа, то история, и прежде всего «священная история», – педагогический процесс. Эта мысль намечалась уже в Ветхом Завете: «Бог учит тебя, как человек», – обращается Второзаконие к народу в целом, напоминая его былые судьбы 53. Она подхвачена ранневи-зантийскими теологами. Десять заповедей для Григория Нисского – «божественные уроки» 54, проповедь Христа для Феодорита Киррского – «владычные уроки» 55. В контексте подобных представлений с новозаветных времен интерпретировалось соотношение между иудейством и христианством: иудейский «Закон» – это «дядька» («педагог» в античном смысле этого слова, т. е. раб, отводивший малого ребенка в школу 5б), чья власть кончается на пороге Христовой школы57. На этом основана мистическая диалектика истории. Бог, как воспитатель, ведет воспитуемое человечество от несовершеннолетия к совершеннолетию (стоит заметить, что слово кг>рю<;, прилагаемое к Богу и Христу и по традиции переводимое как «Господь», по-гречески означает не господина, властвующего над рабом, а опекуна, имеющего авторитет по отношению к малолетнему). Цель воспитания – совершеннолетие. «Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что неполно, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, оставил младенческое. Теперь мы видим как бы через зеркало в гадании, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю» 58. Разные возрасты человечества сменяют друг друга. Но внутри церкви как «училища» разные духовные возрасты сосуществуют, и педагогика церкви по отношению к каждому из них должна быть особой. «Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» 59.
Итак, мир во времени и пространстве поставлен под знак школы. Время, и притом как историческое время, так и биографическое время отдельной человеческой жизни, имеет смысл постольку, поскольку это есть время педагогической переделки человека. Пространство ойкумены – место для всемирной школы.
Колоритное выражение этого взгляда на мир – сирийский трактат «Причина основания школ» 60, относящийся к рубежу VI и VII в., принадлежащий епископу Халвана по имени Бархадбешабба Арабайа и рассматриваемый в одной из работ Н. В. Пигулевской61. Трактат этот начинается вводным эпистемологическим рассуждением; затем следует интерпретация ветхозаветной истории как истории сменявших друг друга в преемстве «школ» Ноя, Авраама, Моисея, премудрого Соломона, пророков62. Бог сам был учителем в каждой их этих «школ». Когда Бархадбешабба говорит о сорокалетних скитаниях «сынов Израиля» во главе с Моисеем по пустыне как о «школе», это развитие мысли, намеченной во «Второзаконии»63. Наряду с этими школами упомянуты «собрания, устроенные сынами заблуждения»: Платонова Академия, школы Пифагора, Демокрита, Эпикура, но также зороастрийская религиозная община «школа
мага Зарадушта»). Христос – «великий учитель», и пришел он для того, чтобы тоже основать школу, или, точнее, обновить «первоначальную школу Отца своего». Итак, мир Нового Завета – не что иное, как школа, и главные персонажи Нового Завета занимают в этой школе штатные должности, полагавшиеся в сирийской школе тех времен. Так, главный учитель– Христос, толкователь Писания (maqrjana ubadoqa) – Иоанн Предтеча м, управитель школы – апостол Петр65. Ни одна должность, таким образом, не остается вакантной. И тотчас вслед за этим на той же интонации ведется рассказ о школах в самом конкретном, отнюдь не метафорическом смысле слова, – Александрийской, Антио-хийской, Нисивийской, Эдесской. Труды и судьбы школьных знаменитостей, будни школьного быта с правильным чередованием занятий и каникул67, вопросы благонравия школяров – все эти прозаические вещи поставлены в ряд, идущий от учительства Христа и ученичества апостолов, увидены, как непосредственное продолжение «священной истории».
Наряду с миром истории человеку дан мир природы. Если история – педагогический процесс, то природа – набор дидактических пособий для наглядного обучения.
Один из уроков, которые были извлекаемы византийцами из созерцания природы, и притом едва ли не самый важный, самый философский из этих уроков, уже рассматривался выше, в главе «»; речь идет о пифагорейско-платоническом мотиве законосообразности мироздания. Смотри, человек: звезды не отклоняются от своих путей, времена года не нарушают своей череды, и только ты с твоим беззаконным своеволием ставишь себя вне космической гармонии.
Такая мысль имеет все преимущества высокой поэзии. В той или иной мере она сохраняет притягательность для самых различных эпох. Мы еще способны принимать ее всерьез, и тем более способны были принимать ее всерьез современники Климента Римского, Григория Нисского, Псевдо-Дионисия Ареопагита. Но для простых умов, для «человека с улицы», приходившего в церковь слушать проповедника, она была, пожалуй, чересчур абстрактной. Для того, чтобы сколько-нибудь длительное время сосредоточивать воображение на идее мировой гармонии, нужно иметь незаурядную культуру духа, серьезные запросы. Большинству нужно было чего-нибудь покрасочнее, понаивнее, по-нагляднее. Еще раз: в «училище» церкви есть и дети, которых нужно учить, как детей.
Греческий ребенок и греческий простолюдин с незапамятных времен получал развлекательную науку и поучительную забаву из одного источника: из басен Эзопа. В последние века античности басня выходит из детской в большую литературу, басенные сюжеты обрастают у Бабрия тонко разработанными деталями, им на службу ставится риторическая техника; наивная назидательность и хитроумная картинность вступают в сочетание, во многом предвосхищающее самую суть ранневизантийской духовной атмосферы 68. Еще важнее другое: басенный подход проникает туда, куда он прежде не мог бы проникнуть – в наукообразную популярно-философскую литературу. Уже не няньки и дядьки, увещевающие дитя, но интеллигентные моралисты, блистающие умом перед взрослыми, рассказывают небылицы про умных и целомудренных зверей и стыдят человека их примером. Особенно много занимался этим в начале III в. Клавдий Элиан. В своем пространном сочинении «О животных» он перемешивает не слишком достоверные, но красочные сведения по занимательной биологии с нехитрыми моральными выводами: смотри, как ведут себя добровольно бессловесные животные – между тем как ты, наделенный разумом человек, нуждаешься в законах и запретах, чтобы удержаться от зла. Например, рыбы некоей породы якобы выручают друг друга из сетей, – и Элиан спешит добавить: «О люди, так поступают существа, которым чувство дружбы не привито, а врождено!» Лакедемонянам Ликург велел почитать старших– но слоны неукоснительно делают это без всякого Ликурга7. Человек не ведает смертного часа и притом страшится его; напротив, лебедь предчувствует смерть и встречает ее песнью, являя философское отношение к кончине71. Другие животные, напротив, коварны, злорадны, изобретательно мстят врагу, и человеку стоит задуматься над своим сходством с ними. Весь животный мир – это галерея наглядных эмблем морального добра и морального зла.
Стоит попутно отметить, что привычка видеть в животном человека принуждала в человеке увидеть животное – конечно, басенное животное. Позднеантичная и ранневи-зантийская физиогномика – яркое тому свидетельство. Облик человека и облик животного в принципе приравнены, как овеществление «нрава» и «природы». Как писал около 330 г. некто Адамантий, «большие зрачки изобличают простеца, а маленькие – лукавца, как и среди других живых существ змеи, ихневмоны, обезьяны, лисы и прочие лукавые твари имеют узкие зрачки, а овцы, коровы и прочие простоумные твари – широкие зрачки» 72. Хитрость человека здесь единоприродна хитрости ихневмона или лисы,»его простодушие тождественно простодушию овцы или коровы. Физиогномика приучила ранневизантийское сознание к тому, чтобы связывать телесную конституцию человека с его психологическим типом так же жестко, как порода зверя связана с повадками зверя. Поэтому Прокопий Кесарий-ский так многозначительно, с таким нажимом сообщает, что Юстиниан складом тела и чертами лица похож на статую Домициана73; подразумевается, что оба деспота – животные одной породы и, следовательно, одинакового нрава. Для физиогномического мышления «этос» явлен так же наглядно и неизменно, как «эйдос», как пропорции тела или форма носа; басенная лиса не может перестать быть хитрой, басенная змея – злокозненной.
Корректив вносился уже философским морализмом, предполагавшим, что человек волен перевоспитать себя74. Другой корректив вносился христианским догматом, согласно которому человеческая воля свободна, «самовластна» (a)Te^o<) Идея смотреть на явления живой природы как на учебные пособия по курсу нравственности, вовсе не чуждая, как мы видели, позднеантичному язычнику вроде Элиана, была для христианина еще более неизбежной, и притом по двум причинам. Во-первых, она стимулировалась верой в то, что видимый мир в целом и любая его самомалейшая часть суть творения того же Бога, который даровал заповеди Ветхого и Нового Заветов; законы природы и законы морали имеют, таким образом, единый источник, и почему бы природе не пояснять собою мораль82? Во-вторых, она попадала в контекст тех представлений о божественной педагогике, о которых шла речь выше. Толкования Василия Кесарийского на «Шестоднев», т. е. на раздел ветхозаветной Книги Бытия, трактующий о шести днях сотворения мира, – историко-культурный документ первостепенной важности. Отправляясь от точного учета запросов публики, идя навстречу потребностям тех наивных, но в то же время любопытствующих людей, которые сходились слушать эти толкования, Василий переработал пестрый материал позднеантичной популярной учености в христианском духе и положил начало многовековой традиции «Шестодневов». Занимательные рассказы о животных, то достоверные, то фантастические, должны служить поощряющими примерами добродетелей и отпугивающими примерами пороков. Чем больше моральных доводов удается извлечь, тем лучше. Василий, человек острого и глубокого ума, осознает собственную установку совершенно отчетливо и обыгрывает ее не без иронии. Скажем, так: занимательное естествознание тех времен уверяло, будто ехидна сходится для «брака» с муреной, предварительно извергнув яд. Как это можно повернуть? Во-первых, мурена, не избегающая ядовитого «супруга», – благой пример тем женам, которым приходится терпеть мужей буйных и грубых. Во-вторых, ехидна, извергающая свой яд, – благой пример для мужей, которые обязаны щадить своих жен и не делать их жертвами своего дурного, строптивого нрава. Ехидна и мурена как идеал христианского брака – это уже игра ума, стоящая на грани шутки. Но затем выясняется, что, в-третьих, означенные животные, принадлежащие к разным породам, должны быть уподоблены вовсе не супругам, а прелюбодеям. «Да вразумятся же те, кто посягает на чужое брачное ложе: с каким пресмыкающимся делаются они схожи?» 83 Ничего, что последняя «басня», разыгрываемая ехидной и муреной, как будто бы исключает первые две. «У меня одна цель – все обращать в назидание Церкви. Да укротятся страсти невоздержных, обуздываемые примерами, взятыми и с суши, и с моря!» 84. Поток примеров неудержим. Большие рыбы пожирают маленьких: не лучше богачи, угнетающие бедняков85. Полип принимает цвет камня, к которому пристает; ему подобны те, кто «угождает всякой возобладавшей власти» 8б и кто заодно сравнивается со змеей и с волками в овечьей шкуре. Обстоятельно расписываются подробности устройства пчелиных сот как образец для трудолюбца88. Муравей, собирающий пищу на зиму, должен научить христианина в этой жизни заботиться о том, что будет за гробом 89. Мораль откровенно предпочитается конкретному образу: если льстецы – это сразу и полипы, и змеи, и волки, это означает, что каждый образ сам по себе может быть заменен на другой и лишен всякой необходимости. Поэтика дидактической аллегории обнажается здесь не менее знаменательно, чем в случае с ехидной и муреной, где, напротив, один образ эксплуатировался для трех различных моральных тезисов. Василий вовсе не берет на себя ответственности за «естественнонаучное» содержание своих рассказов. «Рассказывают о горлице, что она в разлуке с супругом не терпит уже общения с другим, а ведет безбрачную жизнь в память о прежнем супруге и отказывается от нового союза»; так «рассказывают», и не важно, верен ли этот образ. Вывод, во всяком случае, сомнений не вызывает: «Пусть послушают женщины, как честное вдовство у неразумных животных предпочитается неприличному многобрачию» 90. Не раз может показаться, что мы слышим Элиана. Однако традиция позднеантичной беллетристики– не единственная традиция, стоящая за Василием; наряду с ней должен быть назван тысячелетний опыт ближневосточной дидактики, отложившийся в Ветхом Завете. Еще раз процитируем «Книгу притчей Соломоновых». Пойди к муравью, ленивец, посмотри на дела его и вразумись! Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни повелителя, – но он с лета готовит хлеб свой, собирает в пору жатвы корм свой!91 …Вот четыре малых на земле, но они мудрые мудрецы: муравьи – не сильный народ, но с лета готовят себе корм; горные мыши – слабый народ, но ставят домы свои на скале; саранча не имеет царя, но выступает вся, как боевой строй; лапками цепляется геккон, но обитает в чертогах царей92. Умные животные похвалены за трудолюбие, дисциплинированность и хитрую сообразительность – добродетели примерного ученика или усердного, осторожного писца. Так и Василий Кесарийский не забывает похвалить своих «бессловесных» персонажей за находчивость. «Никто да не сетует на свою нищету, хотя бы и ничего не оставалось у него в доме, и да не отчаивается в своей жизни, смотря на изобретательность ласточки» 93. Но христианская дидактика имеет один мотив, который не знала ни языческая, ни ветхозаветная дидактика. Речь идет об особом смысле ядовитых животных. Думая о них, человек не только проникается отвращением к «ядовитому» нраву; он обязан устыдиться своего маловерия. Ведь Христос обещал, что люди, имеющие веру, «будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им» 94; это «знамение», по которому познается уверовавший. Тот, кому опасны змеи и скорпионы, не может явить подобного «знамения» и должен видеть в самой мысли о них укор себе. Евангельская этика требует от человека того, чего еще никто не требовал, – жить по законам чуда, и Василий, трактуя о назначении ядовитых гадов, не зыбывает выставить этот императив со всей определенностью95. Мы снова стоим перед той же загадкой, с которой имели дело в начале главы: казалось бы, требование чудотворства, как к нему ни относиться, во всяком случае, принадлежит другому уровню вещей, чем «обывательские» заповеди житейского благоразумия, – но нет, проповедующий голос, как ни в чем не бывало, продолжает в том же тоне. Обязательный, с нашей точки зрения, интонационный контраст, который отметил бы дистанцию между «низменным» и «возвышенным», между обыденной рассудительностью и высоким безумием, ничуть не нужен ни для автора, ни для его слушателей и читателей. Одна заповедь – скажем, не сходиться с чужой женой или выбиваться из нужды честным трудом, и другая заповедь – жить по законам чуда, могут быть противопоставлены чисто теологически, как «закон» и «благодать» 96; они не подлежат противопоставлению по эстетическому признаку, как «прозаическое» и «поэтическое». Проповеди Василия Кесарийского о днях творения были знамением времени. Они отмечают собой наступление очень долгой эпохи. И все же сам Василий еще не до конца принадлежит тому миру средневековой дидактики, в который вводит своими естественнонаучными экскурсами. Оставаясь аристократом духа, он относится к тем, кого зовет на «пир слова» 7, как взрослый к детям – конечно, без высокомерия, но с изрядной дозой снисходительности. Басенная образность – для него орудие, которым он пользуется в нужных случаях, а не дом, в котором живет его душа. Игра его ума подтверждает его свободу по отношению к этой образности. Куда простодушнее автор знаменитого «Фисиолога» («Естествослова») – продукта низовой словесности, возникшего в наиболее раннем из доступных нам изводов едва ли не близко к временам Василия98, приписанного Епифанию Кипрскому и положившего начало неистощимому варьированию мотивов животной и растительной аллегорезы, наполнившему собою все средневековье". Здесь между жанровой формой и авторской установкой не остается никакого «зазора». Если весь мир– школа, кто в этом мире человек? Прежде всего школяр, с детской доверчивостью и детской старательностью принимающий уроки своего Учителя, а порой и терпящий удары розги; сверх того, он и сам может соучаствовать в учительстве Бога, представая перед людьми в ореоле старческой мудрости. Каков бы ни был его реальный возраст, душою он всегда дитя, а порой – дитя и старец одновременно. Дитя и старец – фигуры, полные таинственного значения для мифологической архаики |0°. Но античную классику нормально интересует муж, воин и гражданин, находящийся в поре «акмэ», в возрасте, когда совершают «деяния». Место стариков, почитаемых за прежние «деяния» и накопленный в этих «деяниях» опыт, – на периферии мира мужей. Старик – уже не воин, как ребенок – еще не воин. Об этом поют старцы у Эсхила: На бесславный покой обрекли нас года И, на посох склонив, повелели влачить Одряхлевшую плоть, Возвратили нам давнее детство. Ведь младенец – он старцу подобен. Еще Не вселился Арес В неповинное сердце, и сок молодой Не успел забродить. А на старых дубах Иссыхает листва… "" Но если классическая греческая поэзия все же предлагает целую галерею старческих образов, наделенных неоспоримой значительностью, то детство оставалось вне ее кругозора. Ребенок мал, ребенок слаб, ребенок боязлив и трогателен; он не «героичен» и не «трагичен». Его место в бытии– не деятельное, а страдательное. Только с распадом классического образа человека наступает время для того влечения к сентиментальному и забавному, колоритному и незначительному, которое характерно для эллинизма. Старушка Гекала из эпиллия Каллимаха, не по летам догадливый маленький Зопирион из XV идиллии Феокрита – образы, порожденные этим влечением. Все это картинки быта, не символы бытия. Слово «идиллия» и значит по-гречески «картинка». Совсем иной смысл придает фигуре дитяти христианская этика, эстетика, символика. Наше восприятие притуплено двухтысячелетней привычкой, и нам нелегко восчувствовать неслыханность евангельских слов о детях. «В то время ученики приступили к Иисусу и спросили: "кто больше в царстве небесном?" Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: "истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в царстве небесном"» 102. Все привычные ценности перевернуты: единственный путь к тому, чтобы стать большим, – сделаться маленьким. Не ребенок должен учиться у взрослых– взрослые должны учиться у детей, уподобиться детям, «обратиться», повернуться к тому, от чего они отвернулись, выходя из детства. Образ дитяти– норма человеческого существования как такового. Не презрительное «величие души») ррду (цу В церкви, в христианской общине каждый человек – послушное, поучающееся дитя: это представление, развиваемое во множестве метафор «Педагога» Климента Александрийского. Особую роль играет метафорический образ молока, уже упомянутый выше в связи с Павловыми посланиями. Целая глава «Педагога», можно сказать, плавает в этом молоке 104; питательность молока, его непорочная белизна, невинность и незлобие вскармливаемых им младенцев– все эти представления сливаются в единый образ. Комментарием к этому образу могут служить новозаветные слова: «итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко» 105. Учение– молоко для тех, кто впитывает его в детской простоте: эта метафора господствует и над гимном, которым завершается «Педагог». …О млеко небес От сладких сосцов Девы красот, Твою источающих мудрость, Твоих немудрых детей собери, Чтоб свято хвалить, бесхитростно петь Устами незлобными Водителя чад, Христа |06. Итак, христианин видит себя младенцем. Важно, что и Христос, этот «педагог», сам предстает как младенец – в евангельских рассказах о его рождении, в песнопениях на ) рождественские сюжеты, в легендах о его явлениях верующим, в памятниках изобразительного искусства. Но этот младенец – предвечный Логос, существовавший до начала времен, а потому как бы старец («Ветхий днями», как именует Бога ветхозаветная Книга Даниила): он древнее неба и земли. «Чадо младое, предвечный Бог», – гласит рефрен кондака Романа Сладкопевца на Рождество 107. Но выразительнее всего таинственное тождество младенчества и старчества сформулировано в гекзаметрической строке неизвестного поэта: