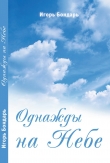Текст книги "Поэтика ранневизантийской литературы"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Порядок космоса и порядок истории
И для древнегреческой, и для византийской культуры представление о мировом бытии в пространстве и времени было связано прежде всего с идеей порядка. Само слово «космос» означает «порядок». Изначально оно прилагалось либо к воинскому строю, либо к государственному устройству, либо к убранству «приведшей себя в порядок» женщины и было перенесено на мироздание Пифагором, искателем музыкально-математической гармонии сфер '. В философской литературе слово это выступает в контексте целого синонимического ряда– «диакосмесис», «таксис» и так далее, – объединенного идеей стройности и законосообразности 2.
Представление, о мировом порядке можно было связывать с представлением о божественном начале. Для античной культуры в этом не было ничего нового. Но язычество в мифологических, а затем философских проявлениях обожествляло самый космос: по характерному выражению Платона, космос есть «чувственно воспринимаемый Бог» 3. Древнегреческий идеализм мог отделить источник мирового порядка от материи, но не от мирового бытия в самом широком смысле. Не идя слишком далеко в социологических параллелях, скажем, что как закон полиса был имманентным полису, так закон космоса мыслился имманентным космосу. Он был свойством самозамкнутого, самодовлеющего, «сферически» завершенного в себе и равного себе мира.
Средневековое сознание усвоило идею всеобъемлющей и осмысленной упорядоченности вещей и пережило ее, если это возможно, с еще большей остротой, чем она была пережита в древности. Но в составе христианского учения идея эта переосмыслялась. Теперь порядок приходит от абсолютно трансцендентного, абсолютно всемирного Бога,
стоящего не только по ту сторону материальных пределов космоса, но и по ту сторону его идеальных пределов. К этому личному Богу космос может иметь только личное отношение – а именно отношение покорности. Законосообразность мировых процессов понята как послушание небесных сфер и четырех стихий, как их монашеское смирение, их отказ от своеволия, их аскеза.
Вот как раннехристианский автор описывает мир, повинующийся Богу:
«Небеса, его управлением движимы, в мире ему покоряются. День и ночь совершают они бег, им предназначенный, нимало не чиня друг другу препятствий. Солнце, и Луна, и хоры звезд по велению его в согласии, без всякого отступления шествуют по кругу в положенном им пределе. Земля, понеся во чреве своем, по воле его во время свое преизобильно пропитание подает людям, и зверям, и всем сущим в ней живым тварям, не разномысля и не отклоняясь от определенного о ней. Бездн неисследимые хляби и недр неизъяснимые струи теми же сдерживаются велениями. Беспредельное море во всем пространстве своем, по устроению его собранное вместе, не преступает положенных ему препон, но как он указал, так и действует, ибо он изрек: "Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел горделивым волнам твоим"4. Океан, для человеков непереплывае-мый, и миры об-он-пол Океана сущие теми же установлениями Владыки правимы. Сроки весны, и лета, и осени, и зимы в мире друг друга сменяют; ветров порывы, каждый во время свое, исполняют дело свое неотпустительно. Веч-нотекущие источники, на здравие всем пьющим от них сотворенные, сосцы свои неиссякающие жизни ради человеков предлагают. Малейшие между живыми созданиями в мире и единомыслии сходки свои правят. Всему сему великий Создатель и Владыка сущего совершаться повелел в мире и единомыслии, всем благотворя…» 5.
Если Солнце – уже не бог Гелиос язычников, это вовсе не значит, как настаивает Ориген, будто оно «ничто» 6 или, по Анаксагору, безжизненный и бездушный «огнистый ком» 7; нет, все небесные светила – служители Бога, способные ему молиться и осмысленно покоряться 8. Они движутся отнюдь не слепо, однако и не по собственной воле, не от себя и не для себя, но для Бога. Григорий Назианзин обращается в одном из своих стихотворений к Христу:
Ради тебя сияньем своим сокрывает созвездья Скоробегущий Титан, огненный круг проходя.
Ради тебя то живет, то меркнет полночное око Мены, и снова горит полною славой лучей…9
«Поразмысли же теперь, – обращается к читателю Ориген, – нельзя ли к этим существам [т. е. светилам], покорившимся суете не по своей воле, но по воле Покорившего, и пребывающим в надежде обетования, приложить Павловы слова: "Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше" 10. По крайней мере мне представляется, что подобным же образом могло бы сказать и Солнце: "Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше". Но Павел прибавляет еще: "А оставаться в плоти нужнее для вас" п. И Солнце, поистине, может сказать: "Оставаться же мне в небесном этом и светозарном теле нужнее ради откровения сынов Божиих". То же самое должно мыслить и говорить также о Луне и о звездах…» 12.
Итак, движение, сияние и самое бытие небесных тел – их монашеское послушание, со скорбью, но и с терпением принимаемое от Бога и на пользу людям. Им хотелось бы «разрешиться и быть со Христом», выйдя из-под ига «суеты» – космической маяты «неразрешенной» твари; но они предпочитают усилие своего подвига своему собственному духовному порыву.
При таком понимании космологический принцип оказывается аналогом церковной дисциплины, а церковь – своего рода моделью космоса, или «космосом космоса», как выражается тот же Ориген |3. Это уже очень далеко от античной космологии – хотя, может быть, не так далеко, как это кажется: ведь именно те направления античного идеализма, которые были особенно увлечены идеей звездного порядка, гармонии сфер, как пифагорейство и платонизм,
больше всего тяготели к идеалу безусловного повиновения сверхличному авторитету и ближе всего подошли к принципу монашества. Пифагорейцы на практике создали некий «орден», связанный строгой дисциплиной, и соблюдали множество ритуально-уставных предписаний. Платон конструировал ту же жизненную установку в утопической теории государства. «Тут даже не аристократия, – замечает А. Ф. Лосев, – а скорее теократия, монастырское игуменство» 14. «Монашество и старчество – диалектически необходимый момент в Платоновом понимании социального бытия» 15. Афонские монахи, еще в XV в. сосредоточенно смотревшие по ночам, как звезды из чистого хрустального неба смотрят на грешную землю, и поучавшиеся ненарушимой стройности их движения, были поздними наследниками Пифагора и Платона 16.
Уже в платонизме напряженный интерес к порядку космоса с самого начала связан с ощущением угрозы другому порядку – порядку полиса. В ранневизантийской идеологии этот интерес окрашивается в новые тона в связи с гибелью того, что еще оставалось от порядка полиса. «Удобо-превратность» земных законов стала еще очевиднее, непре-ложность небесных законов – еще желаннее. Люди должны учиться слушаться у звезд – такова ранневизантийская; транскрипция евангельской молитвы «да будет воля Твоя, ) яко на небеси, и на земли». Соотнесенность космологических мотивов с социальными проблемами ощутима в словах Григория Назианзина: «Да не нарушается закон подчинения, которым держится земное и небесное, дабы через многоначалие не дойти до безначалия» 17. Каждое слово о реальности мирового порядка превращается в притчу и аллегорию о желательности порядка человеческого, общественного 18, причем последний мыслится в формах иерархии («закон подчинения» – авторитарный принцип). Неумолимая, жесткая симметрия образов ранневизантийского имперского искусства, повинующихся эстетике придворного церемониала и военного парада 19, – зрительное соответствие такой космологии. Платон мог только мечтать о столь высоком уровне формализации художественного канона20 и государственного обихода2 | – одного в нерасторжимом единстве с другим; но теперь это до некоторой степени стало реальностью. А в мире идей космологическое умозрение и социальная этика получили такое соединительное звено, которого они не могли иметь во времена Платона. Звеном этим был библейский креационизм, т. е. учение о Боге как творце стихий и законодателе людей.
Однако идет ли речь о языческом космосе, имеющем свою собственную меру, или о христианском космосе, получающем свою меру от Бога, это все еще космос – всегда привлекавший к себе эллинскую мысль пространственный мир, который сам по себе не имеет истории.
Нельзя, конечно, утверждать, будто античная греческая философия абсолютно чужда историзму. Человеческая сущность так неразрывно связана с динамикой истории, что человеческая мысль едва ли может миновать проблему, поставленную этой динамикой. И все же классическая культура Греции оттесняла начало историзма далеко на задний план. «Поскольку в качестве идеала трактовалось круговое движение, лучше всего представленное в движениях небесного свода, постольку движения человека и человеческой истории в идеальном плане тоже мыслились как круговые. Это значит, что человек и его история все время трактовались как находящиеся в движении, но это движение всегда возвращалось к исходной точке. Таким образом, вся человеческая жизнь как бы топталась на месте… Этому удивляться нечего уже потому, что исконно проповедуемое в античности круговращение вещества и перевоплощение душ, то ниспадающих с неба на землю, то восходящих с земли на небо, также есть циклический процесс» 23.
Древняя история восточного Средиземноморья выявила и другую мыслительную возможность, резко контрастирующую с эллинским умонастроением. Эта возможность воплощена в библейской традиции мистического историзма.
Если мир греческой философии и греческой поэзии – это «космос», т. е. законосообразная и симметричная пространственная структура, то мир Библии – это «олам», т. е. поток временного свершения, несущий в себе все вещи, или мир как история. Внутри «космоса» даже время дано в модусе пространственноести в самом деле, учение о вечном возврате, явно или неявно присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологических, так и философских, отнимает у времени столь характерное для него свойство необратимости и придает ему мыслимое лишь в пространстве свойство симметрии. Внутри «олама» даже пространство дано в модусе временной динамики – как «вместилище» необратимых событий. Греческий бог Зевс – это «Олимпиец», т. е. существо, характеризующееся своим местом в мировом пространстве. Библейский Бог Яхве – это «Сотворивший небо и землю», т. е. Господин неотменяемого мгновения, с которого началась история, и через это – Господин истории, Господин времени.
Структуру можно созерцать, но в истории приходится участвовать. Поэтому мир как «космос» оказывается адекватно схваченным через незаинтересованное статичное описание, через литературный «экфрасис» в античном вкусе, а мир как «олам», напротив, – через направленное во времени повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: «а что дальше?»
Последний итог античной мудрости, как правило, состоит в том, чтобы доверять не времени, а пространству, не будущему, а настоящему, и олимпийцы не могут лучше обласкать своего любимца, как подарив ему сегодняшний день в обмен на завтрашний. Так поступают гомеровские боги, удовлетворяя капризы Ахилла потому именно, что тот все равно обречен на краткую жизнь и лишен завтрашнего дня; но еще Гораций учит: «Лови день, менее всего доверяя следующему!» 25. Напротив, сквозной мотив Библии – обетование, на которое не только позволительно, но безусловно необходимо без колебания променять наличные блага. Новозаветный автор «Послания к Евреям» так суммирует судьбу ветхозаветных «патриархов»: «Верою Авраам повиновался повелению идти в страну, которую имел получить в наследие, – и он пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования… Все они умерли в вере, не получив обещанного, а только издали видели его, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле… Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава…» 6. В самом деле, будущее– то, во что верят персонажи Библии. Многократно повторяемые в повествовании Пятикнижия благословения и обещания, которые вновь и вновь дарит Бог Аврааму и его потомкам, создают ощущение неуклонно возрастающей суммы божественных залогов грядущего счастья. В кризисную эпоху пророков этот эсхатологический оптимизм, умозаключающий от бедственности настоящего к благополучию будущего27 («Ибо Я пролью воды на жаждущее и потоки на иссохшее», – обещает Яхве в «Книге Исайи» 28), приобретает вполне сложившийся облик, с которым ему предстоит перейти в христианство.
Еще раз сравним царя на греческом Олимпе и царя на библейских небесах. Зевс– господин настоящего: прошлое принадлежало Урану и Крону, будущее – неизвестному сопернику, который в силу определения рока отнимет у Зевса власть. Яхве – господин прошедшего и настоящего, но полностью его власть осуществится и его слава воссияет лишь в будущем, с наступлением того «дня Яхве», о котором говорят пророки.
Итак, греческий «космос» покоится в пространстве, обнаруживая присущую ему меру; библейский «олам» движется во времени, устремляясь к переходящему его пределы смыслу. (Не так ли развязка повествования переходит пределы повествования, или «мораль» притчи переходит пределы притчи?) Вот почему поэтика Библии – это поэтика притчи, не оставляющая места ни для чего, похожего на эллинскую «пластичность»: природа и вещи должны упоминаться лишь по ходу действия и по связи со смыслом действия, никогда не становясь объектами самоцельного описания, выражающего бескорыстно-отрешенную радость глаз; люди же предстают не как объекты художнического наблюдения, но как субъекты выбора и действия.
Ближневосточный мистический историзм нашел в Библии свое классическое выражение и в основном именно через Библию вошел в духовный кругозор византийского средневековья. Однако он был свойствен отнюдь не только библейской традиции, но и другим религиозно-культурным традициям Ближнего Востока. Уже ранний эллинизм обеспечил его встречу с греческим типом отношения к истории. Вавилонянин Беросс (или Берос), жрец Бела, принадлежал к поколению, еще видевшему времена Александра Великого29; он успел написать для Антиоха1 Сотера (281/0– 262/1 гг. до н. э.) труд на греческом языке в трех книгах – «Вавилонскую историю». Предания своего древнего народа он излагал в формах всемирной хроники, отлично известных по Ветхому Завету, но совершенно чуждых классической Греции: первая книга трактовала о событиях от начала времен до потопа, вторая доводила рассказ до Набонассара, третья– до прихода македонян. Огромную роль играли разного рода реальные и фантастические выкладки по хронологии: весь временной универсум истории, исчисляемый Бероссом в сотни тысячелетий, был представлен как единое целое и расчленен на массивные ярусы эпох. Греческая историография Геродота и Фукидида не знала этой хронологической архитектоники, оперирующей с тысячелетиями. «Все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени, – говорил греку представитель памятливой мудрости Востока еще в «Тимее» Платона» °. «И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не ведая о том, что было в древние времена или у вас самих» 3 |.
Можно, конечно, посмеяться над дутыми сроками вавилонского историка, как это делал в свое время Ф. Ф. Зелинский, привыкший к роли адвоката классической древности в ее тяжбе с Азией: «Берос был щедр на нули. По своему научному содержанию халдейская астрономия была Не такова, чтобы особенно поразить греческих ученых… нужно было поэтому раздавить их возражения под тяжестью цифр». Дело, однако, обстоит не так просто. Если грек классической эпохи ощущал как нечто реально для не-jfoналичное лишь настоящее и недавнее прошедшее, это оберегало его от наукообразного шарлатанства хронологических экстазов, но одновременно закрывало для него возможность пережить и перечувствовать открытую перспективу, широкий простор времени, монументальный ритм сменяющихся мировых периодов. Гениальный Фукидид не предпринял даже минимальных усилий, чтобы сделать свою хронологию унифицированной, а тем самым мировое время – просматриваемым, зримо явленным для ума. Здесь эллин был беднее восточного книжника, и Платон сумел увидеть это с большей проницательностью, нежели красноречивый филолог XX в. Если бы форма восточной всемирной хроники (именно как содержательная форма) не была насущно нужна греко-римскому миру, она, очевидно, не была бы им воспринята с такой жадностью. В самом деле, без ее влияния оказалась бы невозможной уже универсалистская историография Посидония и его последователей вроде Диодора, не говоря уже о тех основанных на Библии хронологических сводах от сотворения праотца Адама, которые со времен Юлия Африкана составляют доподлинную манию любителей учености из числа христианских писателей 4. Семя, брошенное Бероссом, упало на благодарную почву.
Новый Завет продолжил и усилил традицию библейского мистического историзма. Это сказалось уже в его названии. У ветхозаветного пророка Иеремии шла речь о том, что в эсхатологические времена Бог заключит с людьми новый «завет», т. е. новый «союз» 35. «Новым Заветом» именовали себя члены Кумранской общины, чаявшие «грядущего века» 36. Христианство выступило с притязанием на то, что Бог уже заключил новый «завет» с «новыми людь-ми», «ходящими в обновленной жизни». Книги Нового Завета обещают «новое небо и новую землю» 39. «Древнее прошло, теперь все новое» 40. Евангелие (ebayyeXiov) – это «благая весть», т. е. как бы «хорошая новость», которую надо «возвещать» («керигма»), как возвещают только новость. Содержание новозаветной веры – не вневременной миф и не вневременная религиозно-философская концепция; оно связано со стихией времени и требует внимания к времени, к «знамениям времени». «Лицемеры! различать лицо неба вы умеете, а знамений времени не можете». Взаимоотношения Бога и человека получили временное измерение; как подчеркивает новозаветный автор, Моисеев «закон», будучи истинным установлением Бога, возник во времени и во времени же «упраздняется» 42. Надо «оставить то, что позади», надо «устремляться вперед» 43. Для традиционной религиозности слово «новый» могло быть наделено только негативным смыслом – здесь официальный иудаизм и греко-римское язычество были едины: критик христианства Келье хвалит иудеев за то, что они, в противоположность христианам, «соблюдая богослужение, унаследованное от отцов, поступают подобно прочим людям» 44. Молодое христианство ввело слово «новый» в обозначение своего «завета» и своего «Писания», вложив в это слово свои высшие надежды, окрашенные пафосом эсхатологического историзма45.
Когда религия «Нового Завета» и «хороших новостей» столкнулась с циклическими концепциями античного мышления, она не могла не объявить им войну. Приведем характерное место из трактата Августина «О граде Божием».
«Положим, примера ради, что как в этом круге времен философ Платон говорил перед учениками в городе Афинах и в той школе, что зовется Академия, – так и снова по прошествии весьма протяженных, но твердо отмеренных промежутков во множестве кругов времен будут повторяться неисчислимые разы этот же самый Платон, этот же город, эта же школа, эти же ученики. Да не будет, говорю, чтобы мы тому поверили! Ибо единожды умер Христос за грехи наши; воскреснув же из мертвых, уже не умирает, и смерть не будет более обладать Им… По кругу блуждают нечестивцы; не потому, что по кругу, как полагают они, будет возвращаться их жизнь, но потому, что таков путь заблуждения их, сиречь ложное учение» 6.
Такова христианская точка зрения на доктрину о вечном возврате. По кругу человека водит бес; устрояемая Богом «священная история» идет по прямой линии. Она идет так потому, что у нее есть цель.
Казалось бы, победа христианства над язычеством должна была означать победу библейского способа подходить к истории над греческим. В значительной мере это так и было. И все же дело обстояло не так просто. Если мы сравним ранневизантийскую идеологию с верой Нового Завета, мы должны будем отметить известную убыль историзма, известную нейтрализацию динамического видения мира, частичное возвращение к статическим мыслительным схемам метафизики и мифа.
Как это произошло?
Во-первых, заключительная стадия библейского мистического историзма, определившая «знаковую систему» христианства, сама скрывала в себе противоречивые возможности. Мистический историзм эсхатологии – это такой историзм, которому легко перейти в. отрицание историзма. Чтобы усмотреть противоречивость эсхатологической установки, полезно присмотреться поближе к тем позднеиудей-ским авторам «откровений» о конце истории, которых принято называть апокалиптиками. Это тем более оправданно, что апокалиптики оказали чрезвычайно широкое влияние на весь ранневизантийский образ мира во времени и пространстве; влияние их было как опосредованным – через раннехристианскую литературу, – так и прямым. Их продолжали читать, и, что важнее, им не переставали подражать.
Тема апокалиптиков– взрыв истории и ее переход в метаисторию, последнее сражение добра и зла и «тот свет». Когда древние пророки говорили о народах и государствах, для них еще существовал пестрый человеческий мир с его красками; для апокалиптиков красок не осталось – только ослепительное сияние и кромешный мрак. Атмосфера их сочинений характеризуется единством двух крайностей – предельной экзальтации и предельной рассудочности. С одной стороны, перед нами экстатические визионеры; откровение о сокровеннейших тайнах «будущего века» предполагает напряженность интонации, непривычность и неимоверность образов. С другой стороны, апокалиптикам очень трудно и очень страшно представить получателями
откровения лично себя; для их совести легче взять на себяроль позднего хранителя тайных пророческих преданий, размышляющего над древним пророчеством, вычисляющего сроки его исполнения и выводящего из него всё новыеследствия. Отсюда книжный и головной характер апокалиптической литературы; отсюда же влечение апокалиптиков к анонимности и псевдонимности. Апокалиптик предпочитает скрывать себя за условными именами таинственной древности и выставлять себя в качестве безымянногоинструмента предания. Он излагает свое учение устами какого-нибудь персонажа незапамятных времен – например, устами Адама и Евы, или Еноха, или двенадцати сыновейИакова, – при этом «пророчествуя» о давно прошедшихсобытиях и пересказывая библейские саги и хроники вформах будущего времени. Перед нами не просто мистификация. По очень серьезным и содержательным причинамтакому автору нужна для осмысления истории воображаемая наблюдательная точка вне истории; эту позицию удобно локализовать либо в самом начале истории, либо в самом ее конце – но к концу прикован умственный взор апо-калиптика, а в начале он помещает своего двойника, давему имя хотя бы того же Еноха. Глазами этого своего двойника он eudumпрошедшее и настоящее как будущее, одновременно притязая на то, чтобы знать будущее с тойже непреложностью, с которой знают прошедшее инастоящее. Различие между прошедшим, настоящим и будущим, между «уже» и «еще не» в принципе снято, и черезэто снята сама история; она предстает в мистических числовых схемах и мистических аллегориях, как нечто предопределенное и постольку данное готовым. Мало определитьапокалиптику как мистику истории; в отличие от мистикиконкретного исторического процесса у библейских пророков, это мистика абсолютизированной, и потому абстрактной, и потому снятой истории. Апокалиптик очень острочувствует историю– как боль, которую нужно утолить, как недуг, который нужно вылечить, как вину, которуюнужно искупить. Здесь не место говорить об историческихпричинах, сформировавших такой психологический стерео-7»99
тип. Достаточно указать на то, что апокалиптик скорее ненавидит историю, чем любит ее, и что он больше всего хотел бы от нее избавиться; столь характерный для библейской традиции мистический историзм на пределе своей кульминации обращается против самого себя. Поэтому для апокалиптика так важна идея абсолютного конца, когда все движущееся остановится, все открытое замкнется, все нерешенное будет решено и все спорящие стороны услышат свой вечный приговор.
Во-вторых, по мере того, как христианство приобретало формы систематического философствования, оно перенимало греческие мыслительные навыки. Еще в 30—40-е годы IVстолетия за пределами Римской империи работал «персидский мудрец» Афраат, интерпретировавший содержание христианской веры вне эллинских философских схем, идя от традиции восточного историзма. «Двадцать три гомилии Афраата имеют больше библейской полно-кровности и колоритного материала по вопросам жизни Иисуса, чем все трактаты апологетов», – отмечает Э. Бар-николь 47. Все это так; но для своего времени Афраат был безнадежно отставшим провинциалом. Историческое развитие прошло мимо него, и оно не могло идти иначе. Каждый шаг навстречу более тонкой интеллектуальной культуре означал для христианства приближение к онтологии эллинского типа, к платоновскому или аристотелевскому идеализму. «Когда около 230 года Ориген создал первый опыт научно построенной теологии, это означало, что грек еще раз превратил историю в космологию. Он писал о началах, когда должен был писать о царстве Божием» 48. Значение этого факта трудно переоценить. Ориген – самый смелый, острый и универсальный мыслитель, какого имело христианство на протяжении нескольких столетий. Хотя его конкретные теологические тезисы и его личность были после долгой полемики осуждены церковью и государством в VI в., склад и уклон его мысли не переставал оказывать влияние. Вся христианская философия средневековья в значительной части покоится на фундаменте, заложенном трудами этого еретика. Продолжая традиции эллинистического толкования мифов и поэтических текстов49, основанная Оригеном александрийская школа христианского богословия разработала метод аллегорической интерпретации библейской «священной истории» 50. В практике такой интерпретации было немало курьезного; но суть ее нельзя сводить к курьезу. Это был принципиальный подход к событию, совершающемуся во времени, как к иносказанию о смысле, пребывающем вне времени. Если Библия о чем-то повествует, текст этого рассказа имеет три значения: буквальное– плотское, моральное– душевное и, наконец, мистическое – духовное. Идеальная структура снова противопоставлена конкретной истории. Если смысл события имеет вневременной характер, он может выявиться в целой цепи разновременных событий. Отсюда богословская «типология» в средневековом смысле слова, т. е. доктрина о «прообразовании» (идеально-смысловом предвосхищении) более поздних событий в более ранних. Едва ли не все эпизоды Ветхого Завета разбирались как аллегории о земной жизни Христа, но события последней в свою очередь могли иносказательно указывать на перипетии внутренних путей христианской души. Интерпретация александрийской школы как бы спешит пройти, проскочить сквозь конкретный образ события к его абстрактному значению, принимая вполне всерьез только последнее; что она почти не принимает всерьез, так это время. Прошлое симметрично отвечает настоящему, настоящее симметрично отвечает будущему; необратимость времени снова приглушена гармонией как бы пространственной симметрии. Конечно, это уже не языческий миф о вечном возврате. К. Леви-Стросс назвал миф «машиной для уничтожения времени»5. «Типология» – это «машина» не для уничтожения времени, но для нейтрализации времени.
Теология александрийской школы была таким явлением мысли, которое могло претерпевать самые различные степени популяризации, вульгаризации, бытовой материализации, удерживая свои основные черты. Все средневековье постепенно разменивает умственные конструкции александрийцев на мелкую монету общедоступного назидания.
Но у экзегезы александрийского типа был аналог и собственно в бытовой сфере церковной жизни: речь идет о неуклонно развивающейся от века к веку системе годовых праздников. «Единожды умер Христос», – восклицает Августин; но каждый год в неизменной череде Пасха сменяла Страстную Пятницу. Космическое круговращение времен года было поставлено где-то рядом с неповторимостью событий «священной истории», разумеется, как подобие этой неповторимости, как ее «икона», но психологически – как ее возможная нейтрализация. Снова человек мог ощущать себя внутри замкнутого священного круга, а не только на конечном, прямом, узком пути, имеющем цель.
Вернемся к александрийской школе – и одновременно перейдем к следующему, третьему пункту наших рассуждений. У александрийской школы был соперник и оппонент– антиохийская школа. В противоположность александрийскому аллегоризму антиохийцы культивировали интерес к буквально-историческому смыслу Библии, в противоположность платонизирующему александрийскому онтологизму и космологизму – юридически окрашенную этику свободной воли, восточную идеологию священной державы и восточноэллинистический тип историографических занятий. Здесь не место рассматривать, как тенденции ан-тиохийской и александрийской школ в наиболее крайнем своем выражении дали две «христологические» ереси – соответственно несторианство и монофизитство, открывшие выход центробежным силам культурно-этнического сепаратизма; как антиохийская этика свободной воли с ее правовым уклоном повлияла на западную, латинскую теологию; как умеренные формы александрийства и антиохий-ства вошли в синтез византийского богословия. Сейчас нас занимает иное: почему выразившаяся в деятельности анти-охийцев и вообще присущая сирийско-палестинским кругам заинтересованность в историографическом оформлении идеологии священной державы тоже могла быть путем – еще одним путем, – уводившим от новозаветного, раннехристианского историзма. Основатель и классик церковной историографии, виднейший идеолог священной державы
Евсевий Кесарийский, Этот уроженец Палестины был связан с преданием оригеновского круга, но скорее биографически; он унаследовал от Оригена разве что элементы фи-лологически-полигисторской культуры и чисто теологические воззрения проарианского характера, но не основной уклон его философского мышления. Он в достаточной мере связан с ближневосточной традицией, чтобы исполнить требование эпохи и написать фундаментальный исторический труд. «Для решения этой задачи должен был прийти сириец, обладавший достаточным вкусом к конкретности единократных событий и в то же время достаточной греческой культурой, чтобы научно излагать эти события» 52. Но перспектива истории ведет в глазах Евсевия к христианской державе Константина и до некоторой степени замыкается на ней. Эсхатологическое будущее подменено политическим настоящим. Дело не в том, чтобы назвать Евсевия «сервильным» и «льстивым» автором; если бы причина такой установки сводилась к личным недостаткам характера Евсевия, весь облик византийской культуры был бы более светлым. Перед нами не лесть; перед нами официальная идеология «благоверной» государственности, принимающая сама себя вполне всерьез. Она была, правда, оспорена Иоанном Златоустом 53. Но хотя Иоанн Златоуст стал великим святым греческой церкви, а Евсевий остался полу еретиком, наиболее общие черты ходовой византийской концепции государства были предвосхищены не Иоанном, а Евсевием. За историей оставлена конкретность, но у нее почти до конца отнята открытость – хотя бы открытость на таинственное абсолютное будущее эсхатологии. Византийское христианство сравнительно мало эсхатологично54, а византийская эсхатология почти не знает тайны. История превращена в задачу с приложенным результатом. Аналогичный уклон можно усмотреть в ранневизантийских переработках библейских сюжетов, будь то апокрифы, будь то проповеди или кондаки. В Евангелиях Христос молится в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия»55. «Если возможно» – это условная конструкция, а условная конструкция – простейшая схема исторического свершения: через нее выражено, что настоящее колеблется и открыто будущему. Конечно, и в Евангелиях есть другая тема– тема предопределенности: «впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». Однако обе темы остаются в отношении подвижного равновесия. Напротив, у ранневизантийских авторов тема предопределенности, мотив «предвечного совета», вневременного бытия всех вещей в замысле Бога, но также и в умах верующих решительно выходит на передний план, подавляя и глуша чувство «священной истории» как истории. Христос уже не говорит «если возможно»; он говорит совсем другие слова: «Это от начала Мне изволилось» 5. Он, уже не прощается с матерью как бы навсегда58; он разъясняет ей, что она узрит его первая по выходе из гроба5.