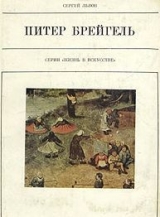
Текст книги "Питер Брейгель Старший"
Автор книги: Сергей Львов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
XIX
По-прежнему прекрасен был город, где жил и работал Брейгель. Прекрасен, богат, многолюден. По-прежнему сотни кораблей бороздили воды Шельды. Сотни лавок предлагали покупателям пышное изобилие товаров. Продолжалось строительство церквей, домов, улиц. А Брейгель уходил с шумной, заполненной людьми улицы в мастерскую и день за днем писал «Триумф смерти». Ощущение подспудного трагизма жизни водило его рукой.
Пылают здания на дальнем плане картины, уходят под воду тонущие корабли. Они гибнут без видимой причины – море спокойно, но спокойствие это призрачно и обманчиво, морская пучина враждебна людям.
Ближе к зрителям, на берегу возвышаются виселица и плаха. Смерть здесь приняла такое знакомое Нидерландам обличье палача. Еще ближе гибнут уже не единицы, а десятки и сотни: смерть надвигается на людей сомкнутыми рядами вооруженных скелетов, и крышки гробов служат им щитами.
Смерть в стократно повторенном обличье скелетов, вооруженных мечами или косами, загоняет людей в ловушки, сталкивает в глубокие рвы. Самая большая ловушка несет на себе знак креста.
Скелет, размахивающий косой, восседает на тощем красном коне, другой конь – белый – запряжен в телегу, нагруженную черепами. Копь красный и конь бледный – кони Апокалипсиса.
Тема всепобеждающей смерти, ее триумфа, ее победоносного шествия была очень распространена в искусстве того времени. И все-таки, пожалуй, ни у одного художника до Брейгеля не обрела эта тема такой всеобъемлющей трактовки.
Решившись воплотить смерть, он, как всегда, захотел исчерпать тему до конца. Чтобы добиться этого, он пошел путем, уже известным ему: совместил сцены реальной гибели с ее символами. На картине люди горят, тонут, падают с высоких скал, умирают под мечом палача, гибнут в поединках и в бою. Это подлинные бедствия и опасности времени. Но кроме них есть всеобщая, всеохватывающая гибель. Она не щадит ни обнаженную женщину, ни короля в горностаевой мантии, ни дворянина, ни молодого, ни старого, ни шута, ни епископа.
Все равны перед смертью. Это мотив многих протестантских проповедей времен Брейгеля.
На картине есть несколько образов-символов, часто повторяющихся у Брейгеля. Изуродованное, потерявшее листву и ветви, с голыми торчащими сучьями окаянное дерево возникает на картине дважды. На одном из этих деревьев висит колокол: два скелета раскачивают его. Чудится, что художнику удалось изобразить неизобразимое: рвущий душу, тревожный набат.
В правом нижнем углу – неожиданная среди всеобщего ужаса, гибели и истребления сцена: влюбленные – кавалер и дама. Веселое общество в итальянских костюмах только что сидело за круглым столом. Белая скатерть, бокалы, горсть золотых монет, разбросанные карты, флейты, лютни. Но застолье прервано. Смерть побеждает, она уже протянула костлявые руки. Смерть стоит за плечами влюбленных, а они не видят ее или делают вид, что не видят. Преданно глядя на даму, он играет на лютне и поет, а она следит за его игрой по нотной тетради.
Так в «Триумфе смерти» словно бы возникает уголок «Декамерона». Рассказчики новелл «Декамерона» скрылись от чумы, надвигавшейся на них, и думать забыли о ней. Они не помнят об опасности, для них существует только радость дружеского общения, радость беседы о превратностях любви, о рыцарских подвигах влюбленных, о забавных озорных проделках, об остроумных ответах. Читатель «Декамерона» вместе с автором забывал о смерти, угрожающей рассказчикам новелл, о том, что их свел вместе не простой случай, а угроза чумы. Смертельная опасность – лишь обрамление «Декамерона», лишь фон, от которого легко отвлечься. И герои «Декамерона», решительно отстранившие саму мысль о смерти, для его автора разумны, даже мудры. В этом произведении, которое принадлежит раннему Возрождению, торжествует жизнь.
Влюбленная музицирующая пара Брейгеля оттеснена в самый угол картины. В том, как они отвернулись от угрозы, как не видят, как не хотят видеть всепобеждающую опасность, есть что-то отчаянное и отчаянно-безумное. Сколько бы ни старался зритель сосредоточить свой взгляд на влюбленной паре, он не в состоянии забыть того, что на них надвигается, – ясный мир чувств раннего Возрождения оттиснут в угол, беззащитен и обречен.
Ряды наступающей смерти мертвяще однообразны, десятки раз повторены в ее отрядах одни и те же движения, одно и то же обличье. Но в этой картине, кроме наступающих полчищ смерти и ее жертв, есть и противоборствующее начало. Вглядимся внимательнее. Вот человек, который пытается спастись под столом. На нем шутовской колпак, он смешон и жалок в своей попытке. Но не смешны четыре воина, встречающие смерть с оружием в руках! Один из них упал, копье его поломано, но и поверженный он не сдается: он отталкивает надвигающийся на него скелет, он не выпускает из рук меча. У него мужественное лицо и могучее тело: он не сдастся до последнего. Это едва ли не самая сильная фигура на всей картине. Рядом с ним другой воин: двумя руками занес он меч над головой смерти. Он погибнет, как погибнут все, но перед тем, как пасть, он еще нанесет удар. Движение третьего более робко и растерянно, но и он не хочет просто сдаться, не сделав попытки отпора. А рядом в костюме простолюдина человек без оружия. Он поднял высоко над головой тяжелую скамью: он тоже не станет покорно ждать, покуда его убьют, и не будет просить о пощаде. Он будет драться! Скамья станет его оружием, выбьют скамью, он будет отбиваться голыми руками. И, наконец, еще один, прикрытый четырьмя сопротивляющимися. Он тоже испуган. Но перед ним еще есть небольшое свободное пространство. Он хватается за свою тонкую шпагу, он попробует отбиться и, может быть, даже защитить влюбленную пару…
Так возникают образы нескольких людей, очень отличных друг от друга, которые по-разному противостоят смертельной опасности, но все же противостоят ей. Тот, кто находится в самом отчаянном положении – он упал, но еще сражается, – написан, пожалуй, с самой большой симпатией. Он повержен, но в нем ощутима огромная сила.
И когда мы вглядимся в эту группу, перед нами вначале слабо, потом сильнее и явственнее засветится огонек догадки. Художник вошел в мастерскую. У него тяжело на душе. Ему предстоит еще один день работы, а позади и впереди еще длинные вереницы таких дней – это работа надолго. Ему нужно найти способы, средства, приемы, чтобы выразить то, что он так мучительно ощущает. Движение души должно выразиться в движении кисти. А для этого нужно все время решать сложнейшие задачи: цветовые, композиционные, ритмические, решать не умозрительно, а в напряженной работе.
Как изобразить толпу, теснимую со всех сторон, охваченную паническим страхом? Как движется человек, пытающийся отклониться от смертельной опасности? Он это видел однажды. Где это было? Когда? Повернуты испуганные головы, беспомощно подняты руки, широко раскрыты в крике рты. Мало вспомнить это, мало вызвать в своем воображении. Чтобы эти тела на картине шарахнулись в страхе, чтобы эти руки поднялись, чтобы эти рты раскрылись, у тебя есть только твои кисти и твои краски, и то, что не будет передано ими, бесполезно растолковывать словами.
Можно ли было создать такую картину спокойно, не поддаваясь настроению, выраженному ею? Но ужас, воплощенный в образы, художественно преобразованный, закрепленный навечно, уже отчасти побежден художником, преодолен им. А чтобы это произошло, нужно работать, работать, работать! Между трагическими мыслями в душе и трагическими образами на картине вставало действие, поиски линии и цвета. Да нет, это сказано слишком общо, а на самом деле на плоскость картины лег мазок, ему предшествовали сотни других, но вот он лег, и что-то изменилось не только там, куда он лег, но сдвинулось во всей картине, и не «memento mori» занимает сейчас твои мысли, а следующее движение кисти, которое должно подхватить и усилить звучание этого мазка.
Брейгель пишет свою картину. Пишет колокол, который звонит по умершим и умирающим. Он помнит и знает, что должен значить этот колокол на его картине. Но тот не будет означать решительно ничего, если он не сможет написать его так, чтоб зримой стала тяжесть его качания и его позеленевшая бронза. Брейгель пишет свою картину. Не зная, что со временем она попадет в Мадрид, что будет висеть в музее Прадо, что там ее увидит Хемингуэй и что, может быть, именно это заставит его не раз вспомнить Брейгеля в своих книгах.
Брейгель ничего не знает о будущем своей картины. О тысячах людей, которые будут спустя долгие века глядеть на нее и размышлять о ней. О том, как будут спорить, когда она написана: одни будут считать, что она создана в последние годы его жизни, другие, видя ее близость к «Падению ангелов» и «Безумной Грете», – приближать ее к ним.
Он не заглядывает вперед на века. Он твердо знает: доска, выбранная для картины, выбрана правильно и подготовлена по всем требованиям мастерства. Ничто, кроме огня, не уничтожит ее. За грунт он тоже может быть спокоен. Но ни веков – так далеко он не заглядывает, – ни лет не проживет эта картина, если он сейчас не решит, как и какой силы положить тот мазок, который он кладет сейчас, – один мазок, – если он не проживет этот миг не в мыслях о смерти, а в мыслях о работе. А за ним другой миг, и еще, и еще. Из них сложится день. Из дней неделя. Из недель месяцы. А потом наступит день, когда картина будет написана. И страх побежден.
XX
Нам приходится все время переходить от картин Брейгеля к событиям, которые происходят за стенами его мастерской, в Антверпене и за его пределами. Отвлечься от них мы не можем, так же как не мог отвлечься и он. Они напоминают о себе. Беспрестанно. Повелительно. Грозно. В эти годы в жизни, вначале робко и глухо, потом более явно и сильно, зазвучала новая важная нота. Протестантизм, в котором воедино сливаются религиозные и социальные устремления, приобретает в Нидерландах все больше сторонников, влияние его расширяется. Еще совсем недавно никто не решался выступать в поддержку и защиту преследуемых протестантов, и они сами мирились с положением безропотных жертв. С некоторых пор это изменилось. Мрачно известный инквизитор Тительманс похвалялся, что ничего не боится, что никто не посмеет ослушаться его приказаний, и скольких бы людей ни повелел он схватить, покорятся и они и окружающие. Было время, когда он безоружным появлялся среди любой толпы и жестом указывал: «Взять его» – и все покорялись. А теперь не во всяком городе хозяин гостиницы решается пустить его в дом. Теперь, стоит ему появиться в городе, как вокруг него собирается враждебная толпа. Она преследует его криками, насмешливыми песнями, позорящими кличками. За словом протеста идет дело.
В городе Мессине толпа силою освобождает из тюрьмы нескольких еретиков. В Антверпене власти вынуждены на время отказаться от преследования кальвинистов. Но дальше всего дело зашло в Валансьене. Здесь едва ли не впервые горожане осмелились оказать противодействие инквизиторам, когда те осудили на сожжение двух протестантских проповедников.
С того момента, как был произнесен приговор, жители города собирались толпами под окнами городской тюрьмы, открыто выражали свое недовольство инквизицией и свое сочувствие ее жертвам. Несколько месяцев подряд продолжались эти демонстрации. Власти не решались привести приговор в исполнение.
Кардинал Гранвелла, хорошо знавший, что Филиппу известно не только то, о чем он сам докладывает ему в своих длинных и частых письмах, но и то, о чем он умалчивает, боялся недовольства короля, вызванного этой проволочкой. Он уговаривал, требовал, приказывал, чтобы аутодафе наконец состоялось.
В теплый весенний день на главной площади города сложили костер. Осужденных в позорных одеждах вывели на площадь и подвели к нему. Летописец, рассказывающий историю этого дня, утверждает, что один из протестантских проповедников, когда его привязали к столбу, воскликнул: «Отец небесный!» Свидетельство это сомнительно. Ведь известно, что осужденным на сожжение рот затыкали кляпом или зажимали зажимом.
В описании дальнейшего хода событий все источники сходятся. Когда дрова загорелись, из толпы в костер полетел снятый с ноги башмак. Это было условным знаком. Люди, толпившиеся вокруг костра, бросились вперед, свалили ограду, воздвигнутую властями из предосторожности, разметали уже занявшиеся дрова и отвязали осужденных. Тут вмешались солдаты. Они атаковали толпу, и, растерявшись, защитники несчастных дали увести их обратно в тюрьму. Но через несколько часов народ снова собрался, и впервые в истории нидерландской инквизиции тюрьма была взята штурмом в осужденные выпущены на волю. Горожане не только освободили их, но и помогли им скрыться, а потом бежать в безопасное место. Это событие вошло в историю под названием: «День тех, кого не сожгли до конца».
Маргарита Пармская и Гранвелла, получив известие об этом, решили действовать незамедлительно и строго. Они сами боялись гнева Филиппа. Они хотели доложить ему не о бунте, но о подавлении бунта. Прошло два дня после несостоявшегося аутодафе, и в Валансьен прибыли отряды вооруженной конницы. Начался скорый суд и жестокая расправа над действительными и мнимыми участниками нападения на тюрьму. Она была кровавой и разразилась над головами правых и виноватых. Может быть, Брейгель писал свой «Триумф смерти» не до, а после событий в Валансьене?
Одним из поводов для обвинения в ереси было, как известно, чтение и самостоятельное толкование Библии, запрещенное мирянам. Нет никаких свидетельств, которые позволили бы сказать, что Брейгель был протестантом. Несомненно только, что его симпатии были всегда не на стороне преследователей, а на стороне преследуемых. Этим чувством проникнуты многие его картины более поздних лет.
Несомненно и другое. Его обращения к сюжетам, взятым из Библии, говорят о самостоятельности и смелости его размышлений над ее текстами. Это само по себе было действием почти еретическим. Библейские сказания будили в нем мысли об его собственном времени, а размышления о собственном времени влекли за собой воспоминания о библейских сказаниях.
От Брейгеля осталось так мало документальных свидетельств, что каждое, даже краткое и отрывочное, представляет большую ценность. Одно из свидетельств сохранилось на его картине, которую принято называть «Самоубийство Саула». На этой картине есть не только подпись художника и дата, 1562 год, но и ссылка на то место Библии, которым навеяна эта работа, – «Саул, XXXI глава», иначе говоря, XXXI глава первой «Книги царств», где рассказывается история израильского царя Саула, точнее, ее конец.
История Саула – одно из самых развернутых и самых драматических повествований Библии. В ней есть и неожиданное возвышение в цари простого пастуха, и его долгая борьба с соперниками, победы, предательства и поражения. Несмотря на обилие сюжетов, скрытых в этой истории, художники не часто обращались к ней. Но образ Саула, сложная его судьба нередко служили темой протестантских проповедей.
Вот те строки, с которыми, по указанию самого художника, связана его картина: «…и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял свой меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул, и три сына его, и оруженосец его, а также и все его люди вместе».
Художник снова и снова вчитывается, а быть может, вслушивается в мерные, внешне спокойные, но исполненные большого внутреннего драматизма строки. Упоминание горы Гелвуй дает толчок его воображению.
Сражение происходило в горах. Две огромные армии столкнулись, наверно, в узком горном ущелье, одна – чтобы пробиться через него в плодородные долины, другая – чтобы помешать ей. Саул командовал одной из них. Он сам был в таком месте, откуда ясно виден ход боя. Значит, на скале, возвышающейся над тесниной.
Брейгель пишет каменистое плато и на нем Саула – воина в стальных доспехах, истекающего кровью. Он бросился на меч, рукоять которого упер в землю. Брейгель пишет оруженосца – тот в красном камзоле поверх лат с ужасом глядит на своего повелителя, пронзенного мечом. Сейчас он повторит его поступок! Сейчас! Через мгновение будет поздно снизу из горной расщелины на плато поднимаются вражеские воины.
Теснина между горами заполнена двумя сражающимися армиями: сверкают латы и шлемы, вспыхивают на солнце поднятые мечи, развеваются знамена, грозно щетинится лес копий. Воинов так много, что столкновение этих полчищ как бы выжимает их из теснины на крутые горные склоны, они подобны двум встречным потокам, переполнившим русло и теперь заливающим берега.
Брейгель решил построить действие картины на двух площадках. На меньшей, ближайшей к зрителю – Саул и его оруженосец, самоубийство полководца, армия которого разгромлена. На большей, глубинной – последние минуты великого сражения.
Картина эта впоследствии, как и некоторые другие работы Брейгеля, попала в собрание Рубенса. Ее назвали здесь «Сражение турок с христианами» – не библейскую, современную историю видели в ней.
Брейгель задал себе самому трудную задачу и решил ее неожиданным образом. Он хотел передать стремительное и грозное движение огромного полчища. Казалось бы, для этого нужно большое поле картины, ее размер должен отвечать размаху замысла. Брейгель пошел от противного. Радуясь своему решению, он выбрал в мастерской едва ли не самую маленькую доску, но даже на ней большую часть занял пейзажем. Работая тонкими кистями, нанося бесчисленные мелкие мазки, создал он сверкающую. оружием и доспехами движущуюся массу войска, и оттого, что она была затиснута в узкое ущелье, и оттого, что сама картина была маленькой, полчища казались особенно огромными. Чтобы передать ощущение от бессчетного множества солдат, нужно не число, а старое слово – тьма, тьма тьмущая!
Очень хочется представить себе, как выглядела эта крошечная картина, вместившая в себя неисчислимое движущееся войско, в доме Рубенса рядом с его работами и работами его учеников, рядом с их огромными полотнами. Как должны были изумляться ученики Рубенса, глядя на картину Брейгеля, если они вообще замечали ее, изумляться и гадать, почему этот Брейгель, которого их учитель весьма почитает, решил изобразить такой величественный сюжет на такой маленькой доске. Каприз? Чудачество? Желание сберечь материал?
А может быть, ни то, ни другое, ни третье. Может быть, Брейгель, которого долго занимали и еще долго будут занимать секреты глубины пространства и секреты изображения огромных человеческих скопищ, решил проверить свое умение в самых парадоксальных условиях. Он сочетал тему, требовавшую, казалось бы, монументального решения, и очень маленький размер картины. Работал он сильными, беглыми мазками, а не выписывал тщательно каждую фигуру, как того требовала техника миниатюры.
Покуда Брейгель писал эту картину, он был во власти отодвинутых в глубину памяти, но не померкших впечатлений давнего путешествия. Крутой берег, поросший горным лесом, разделенный, словно надвое разрезанный, провалом ущелья. Глубоко внизу окаймленная зеленью широкого горного луга река. Ее противоположный берег вначале поднимается мягким круглящимся склоном, а потом переходит в обрывистый утес, на вершине которого – стены, башни и шпили горного замка – пейзаж совсем не библейский, пейзаж альпийский. Совсем далеко по обеим берегам реки раскинулся едва видный большой многобашенный город. Он словно дремлет, он не знает еще своей судьбы.
По прибрежному лугу скачут всадники – вестники проигранного сражения. Их крошечные фигурки позволяют ощутить высоту горы, ширину горного луга, протяженность пространства.
Пока Брейгель писал картину, он все время вспоминал горные долины с вьющимися по ним реками, замки на крутых утесах, дали альпийских предгорий. Он доставал свои старые наброски и подолгу вглядывался в них. Ему хотелось, чтобы на первом плане, там, где развертывается трагический финал сражения, грозной была сама природа. Горы громоздятся здесь крутыми трудноодолимыми уступами, скалы устрашающе нависают над пропастью. Здесь все напряжено и неровно, планы пересекаются, линии ломаются и дробятся, красные пятна одеяний и знамен вспыхивают в густой тени горного ущелья, как капли крови. А за тесной группой елей открывается широкая даль – там все открыто, привольно, спокойно. Туда еще не долетели звуки напряженной битвы, эхо долины еще не разбужено топотом коней и звоном оружия. Эти дремлющие дали – зеленовато-голубые под неожиданным почти желтым небом – своим спокойствием и тишиной образуют контраст к трагическому напряжению проигранного сражения и самоубийству полководца, чье войско наголову разбито.
Брейгель не умел скупиться, беречь свои наблюдения и силы. Вот и в эту работу он вложил их с нерасчетливой щедростью. Недаром многие писатели упоминают Брейгеля, когда им нужно привести пример художника, работающего с полной отдачей, не щадящего ни сил, ни здоровья, щедро вкладывающего в каждую картину все богатство своих душевных переживаний и долгих наблюдений. Об этом пишут такие разные писатели, как Сомерсет Моэм и Эрнест Хемингуэй. Бертольт Брехт, который сам работал с беспримерным упорством, с великим уважением пишет о Брейгеле. А число художников, восхищавшихся свойством великого собрата зажигаться каждой картиной и сжигать себя работой над нею, еще больше.
Вернемся к картине. Вот небольшая группа солдат, приближающихся к тому месту, где Саул и его оруженосец бросаются на свои мечи. Обрыв скалы мешает солдатам увидеть, что произошло наверху. Они поднимаются по тропинке крадучись, наклонившись вперед, втянув головы в плечи. В их походке ощутима и крутизна подъема и ожидание возможной опасности. Предводитель, опередивший остальных, уже увидел, что на плато нет никого, кроме пронзенного собственным мечом Саула и повторяющего его поступок оруженосца. Он ускорил шаг и распрямился. Мы почти слышим, как он торопит своих солдат. А ведь это только один из эпизодов картины!
Чтобы написать его так, нужно представить себе, каково подниматься по горному склону туда, где ждет невидимая опасность, нужно почувствовать себя и Саулом, и его оруженосцем, и воином, одержавшим победу, и воином войска разбитого – пережить легенду седой древности как нечто происходящее с тобой или на твоих глазах.








