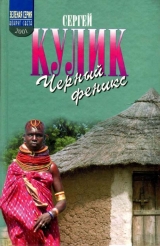
Текст книги "Черный феникс. Африканское сафари"
Автор книги: Сергей Кулик
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)
Пешком через Фазу. – Чтобы остров оставался самим собою, коров отсылают пастись на материк. – Примета суахилийской деревни – чистота и порядок. – «Нельзя опускаться ниже того уровня, который предопределен человеку природой». – «Мвалиму» значит «наставник народа». – Легенда, отраженная в современности. – Как на побережье появились мертвые города? – Оманские корабли на рейде Момбасы. – Савахил освобождается от португальцев, – Начало «золотой поры» суахилийской цивилизации
Пеший переход по Пате – очень приятная прогулка. Никакие опасности не подстерегают здесь романтически настроенного иностранца: ни «воинственных дикарей», ни свирепых хищников, ни даже ядовитых растений нет и никогда не было на острове. Тропка проложена сквозь плантации кокосовой пальмы, иногда попадаются заросли одичавших бананов, а то и небольшие островки леса, всюду легко преодолимого, без колючек и лиан. Правда, проходя мимо одной из деревень, мы повстречали мужчину с дробовиком наперевес.
– Это единственный на весь остров охотник на дикобразов, – ответил на мой вопрос бвана Абу. – Они очень вредят нашим полям. Крестьяне складываются по нескольку шиллингов в месяц и платят охотнику, который обязан систематически посещать каждую деревню. Иногда ему приходится провести на пальме несколько ночей, прежде чем разделаться с хитрым зверем.
Несколько раз тропка огибала небольшие селения, застроенные прямоугольными белыми домами из известняка. Вокруг – поля маиса, сезама, кассавы, посадки папайи, увешанной плодами-дынями, но почти лишенной листьев. Поодаль – огромные деревья манго и кажу, под кронами которых может разместиться целое селение.
Обогнавшие нас на тропе крестьяне с большими тяжелыми картонными ящиками на головах, перебросившись парой фраз с моими провожатыми, проследовали дальше.
– На рынок? – полюбопытствовал я.
– Нет, домой, с пристани. Еще вчера вечером там пришвартовалась доу с навозом. Теперь крестьяне разносят его по своим полям на удобрение.
– Самади? [33]33
Навоз (суахили).
[Закрыть]– переспросил я, так как, сколько ни ездил по Африке, не видел, чтобы крестьяне вносили органическое удобрение в почву даже в тех деревнях, где есть скот.
– Так, так, бвана, – подтвердил Абу.
– А что, своих коров у островитян нет?
– Это очень маленький остров, бвана, – последовал ответ. – Наши люди пришли к выводу, что если у нас будет столько коров, сколько нам надо, то Пате скоро превратится в скотный двор. А если мы еще будем разводить и коз, то они съедят все молодые побеги, и эти изумрудные рощи станут желтой пустыней. Не так ли, бвана?
– Так-то так, – согласился я. – Но тогда вы вынуждены покупать не только навоз, но и молоко, и мясо.
– Нет, бвана, коровам, которые дают молоко для наших детей, мы построили загон. Все мужчины, которые имеют детей, носят им туда траву. А остальных коров мы перевезли на материк. Наши старейшины договорились со старейшинами сомалийцев, живущих напротив архипелага. Эти люди знают толк в скотоводстве. Они пасут наш скот. За это мы отдали им часть молодняка. А наш остров остается самим собою.
Я стал приглядываться вокруг и вскоре понял то, что неосознанно почувствовал, как только начал эту прогулку со стариками: вокруг было стерильно чисто и ухожено. В какой-то степени, конечно, впечатление этой стерильности создавала сама же природа: все здесь росло не на обычных для Африки буро-красных латеритах, а на серебристо-белом песке. Но на песке этом, даже вокруг деревень, не было не то что консервных банок или битого стекла, но даже естественных, растительных остатков… Кое-где я заметил лишь пирамиды из собранных кем-то пальмовых листьев и кожуры кокосов.
Я полюбопытствовал у стариков, как достигается подобный порядок.
– Пате – очень маленький остров, бвана, – услышал я ту же самую фразу. – Враги не раз превращали его в гигантскую свалку, ровняя с землей наши города и деревни, вырубая кокосовые пальмы, выжигая леса. Мы, жители Пате, не враги сами себе и нашему острову. Мы не хотим превращать его в свалку. Этому нас учат с самого детства. А старейшины следят, чтобы в четверг, перед тем как пойти на пятничную молитву, все, у кого есть силы, поработали на благо острова.
«Вот это, наверное, и есть проявление многовековой культуры, истинная культура общества», – подумал я. И, как бы уловив мою мысль, подал голос молчавший все время Сайид.
– Люди у нас довольствуются малым в быту, но не разрешают себе и другим опускаться ниже того уровня, который предопределен человеку самой природой, – проговорил он. – Это путь нашей жизни. Если бы мы шли иным путем, ни от острова, ни от его жителей ничего бы не осталось за те долгие века, что Пате пришлось сражаться с сильными мира сего…
Это было уж слишком. Я мог допустить, что полицейский комиссар, долгое время проработавший в музейной обстановке старого особняка, превратил историю в свое хобби. Но Сайид, по виду обычный крестьянин, случайно повстречавшийся среди мангровых болот, – в роли философа?..
– Бвана Сайид, наверное, учитель? – предположил я.
– Мвалиму [34]34
Наставник, воспитатель, в современном понимании – учитель (суахили).
[Закрыть]…– иронически повторил он, и по его тону я сразу же уловил, что старик понял подоплеку моего вопроса. – Мзунгу [35]35
Белый, европеец (суахили).
[Закрыть]думает, что со старым африканцем в застиранной канзе только и можно говорить, что о том, как сорвать кокос с дерева.
Отпираться было глупо, и я решил промолчать. Однако бвана Сайид, почувствовав, в сколь деликатное положение я попал, чуть погодя сам вернулся к этому разговору.
– Вот вы сказали – «мвалиму». Я никогда не стоял перед учениками, сидящими за партами, и не писал на черной доске мелом. Поэтому я не учитель в вашем, европейском понимании. Я не представитель той нарождающейся вастаарабус [36]36
Образованные люди, интеллигенция (суахили).
[Закрыть], за которого вы меня приняли. Вы слышите: в этом слове звучит корень, указывающий, что образованность когда-то связывалась в представлении суахили с арабами. Не потому, что мы были дикарями, а потому, что арабы знали многое из того, чего не могли знать мы: арабский язык и Коран, например.
Но у нашего народа задолго до того, как здесь появились мусульмане, был обычай: в каждой деревне из среды соплеменников выдвигался человек – иногда его даже выбирали, – много повидавший на своем веку, ездивший по белу свету, немало переживший и обязательно знающий грамоту. К нему всегда можно было прийти за советом, спросить его, как и зачем жить. Традиционно, гораздо раньше, чем на архипелаге появились парты и грифельные доски, слово «мвалиму» употреблялось именно применительно к таким людям. Это были советчики, наставники соплеменников. У первого президента Танзании, Джулиуса Ньерере, был даже официальный титул «мвалиму». Иностранцы объясняли это тем, что Ньерере имел педагогическое образование. Но не в этом дело. Мвалиму Ньерере наставлял народ в том, как жить в условиях независимости.
– Что же тогда мвалиму Сайид и бвана Абу делали в мангровом болоте? – поинтересовался я.
– Давали советы, – отшутился Абу.
Но мвалиму счел нужным рассказать поподробнее.
– Остров у нас маленький, но страсти среди людей бушуют большие. Послезавтра на Пате должны играть свадьбу. На шестнадцатилетней девушке женится местный лавочник бвана Азан, который даже в сыновья-то мне не годится из-за своего солидного возраста. А девушку любит молодой парень из Пате. Чтобы помешать свадьбе, он залез в самое гиблое место мангровых топей и сидит там уже неделю.
– Это зачем же? – удивился я. – Не лучше было бы бороться за сердце девушки в деревне?
– Это у нас – традиционная форма протеста. Как я знаю, у одних народов отвергнутые женихи убивают соперника, у других – кончают жизнь самоубийством, у третьих – голодают или не спят ночами. А у нас – мучаются среди мангров, как бы доказывая избраннице свою любовь и волю. Их заливает соленая вода, палит солнце, трясет озноб от ночного холода, кусают комары, жалят медузы, щиплют крабы. Если у девушки есть хоть какие-то чувства к такому мученику, она обязательно сжалится и даже в последний момент откажется от свадьбы.
– Есть какое-нибудь объяснение этому обычаю?
– Многое объяснить могут легенды. Та, которую я вам расскажу, имеет, правда, под собой историческую основу. Когда в конце XVII века португальцы были изгнаны из наших мест и их место заняли оманские имамы, на острове появился похотливый наместник – араб. Он завел себе большой гарем, в который свозили красавиц со всего архипелага. Поймали для него и девушку, в которую был влюблен парень по имени Лионго. Он, надо отдать ему должное, узнав об этом, не побежал первым делом в болото, а пригрозил убить арабского наместника. Тот приказал схватить Лионго, заковать в кандалы и бросить в океан. Тогда, спасаясь от преследователей, Лионго и спрятался в мангровых зарослях. Оттуда через верных друзей он утром и вечером подавал возлюбленной о себе вести, расписывая муки, в которых он проводит время, и призывая девушку убежать из гарема, добраться до мангровых болот, а оттуда – уплыть подальше.
В конце концов она вняла его призывам, Лионго обрел любимую жену. Такова легенда…
– Но скорее всего, воссоединиться им помогло не мангровое болото, а то, что девушка любила парня и не хотела оставаться в гареме, – предположил я.
– Именно это я и вдалбливал в голову нашему парню. Но он, как и многие у нас, понимает легенду по-своему. Люди ведь всегда ищут необычное в обычном.
Мы приближаемся к Пате. Больше стало вокруг полей, расчищенных от леса пространств, гуще стала сеть тропинок, отходивших от нашей тропы, чаще стали попадаться люди.
Что надо знать об этом городе, чтобы заговорили его развалины, чтобы стал понятен быт его жителей, называющих себя патти? Да и как вообще жило суахилийское побережье после того, как его покинули корабли под командованием Али-бея – грузина, помогавшего местным жителям избавиться от португальских завоевателей?
Пока мы шли мимо каменных руин, со всех сторон окружающих город, пока мвалиму Сайид и бвана Абу подолгу жали руки каждому встречному, рассказывали, кто я такой, и обсуждали, что со мною делать, пока в ожидании решения своей судьбы я сидел под развесистым манго на базарной площади, а старики устраивали мои дела у какого-то местного начальника, у меня было время вновь вспомнить историю.
Успешные рейды Али-бея и та поддержка, которая была ему оказана местным населением, заставили португальцев сделать вывод: необходимо укреплять оборону.
Спасаясь от поборов, горожане бежали в глубинные районы. Некогда процветавший Геди к 1600 году стал мертвым городом. Килифи, Манда, Сийю превратились во второстепенные селения, которым больше так и не было суждено вернуть себе блеск и богатства времен расцвета суахилийской цивилизации. Попытки Лиссабона восстановить торговые отношения между побережьем и внутренними районами наталкивались на сопротивление местных купцов, не желавших сотрудничать с захватчиками-христианами. Экономика разграбленных городов не только не восстанавливалась, но все более и более приходила в упадок. Если в 1500–1528 годах Восточную Африку в среднем посещало до десяти португальских кораблей, то в 1529–1612 годах – в среднем шесть, причем были годы, когда в суахилийские порты не заходил ни один европейский корабль. Слоновой кости и черепахового панциря, отбираемых у населения, едва хватало на покрытие расходов по содержанию гарнизонов. Жестокость португальцев, по свидетельству их собственных хроник, приводила к тому, что «население городов было готово в любой момент поднять восстание».
В 1614 году поборами представителей «христианского короля» возмутился ранее покорный им султан аль-Хасан ибн Ахмад, отправившийся с жалобами к вице-королю в Гоа. Но по возвращении он был убит. Его наследник Юсуф ибн Хасан, известный под именем дон Жерониму Чингулиа, получил европейское образование и принял христианство. Однако в 1631 году он возглавил антипортугальский мятеж момбаситов. Почти все европейцы, а также многие арабы и суахили, принявшие христианство, были убиты.
Новые зверства португальцев не смогли сломить вольного духа жителей архипелага Ламу, который со второй половины XVII века превращается в главный центр борьбы за освобождение Восточной Африки.
Этот период совпадает по времени с усилением оманских арабов, которые в 1650 году изгоняют португальцев из Маската, а в 1652 году посылают свои корабли атаковать португальские крепости в Пате и на Занзибаре, население которых приняло их с восторгом. Королева Занзибара, король Пембы и правитель Отондо (около нынешнего Багамойо) признали суверенитет имама Омана и согласились платить ему дань, положив начало суахили-оманской коалиции против Португалии.
Высланная из Момбасы португальская флотилия изгнала оманцев, однако в это же время момбаситы, обнадеженные успехом соседних городов, направили к имаму Омана Султану ибн Саифу тайную делегацию с просьбой о помощи. В 1661 году его флот, освободивший ранее остров Фаза, обстрелял Момбасу и изгнал португальцев из города, заставив их укрыться под защитой стен Форт-Иисуса. Воины имама Омана не сумели овладеть крепостью и были вынуждены оставить восставших момбаситов.
Хотя и ослабленная, потерявшая часть своих владений, Португалия обладала еще достаточной силой, чтобы нанести новый удар по мятежным городам. В 1678 году, воспользовавшись передышкой, предоставленной Оманом, португальцы предприняли экспедицию против Пате, который был главным инициатором коалиции с оманцем Султаном ибн Саифом. Отряды д’Альмейды ворвались в город, осквернили его священную мечеть, устроив в ней свой штаб, сожгли дома, затем захватили Сийю, Манда, Ламу и казнили их правителей. Набег на Пате и соседние города был последней крупной военной операцией португальцев. Награбив много золота, серебра и слоновой кости, они начали грузиться на корабли, когда на рейде Пате появился оманский флот. Поддержанные жителями города, арабы в течение трех дней почти полностью перебили отряд капитана д’Альмейды.
Форт-Иисус оставался последним укрепленным пунктом на севере побережья, где португальцы чувствовали себя в относительной безопасности. В остальных городах одно восстание следовало за другим. В марте 1696 года сильная оманская флотилия с тремя тысячами солдат на борту, которыми командовал сам имам Султан ибн Саиф, появилась на рейде Момбасы, намереваясь приступить к длительной осаде Форт-Иисуса. Только через 23 месяца, 13 декабря 1698 года, арабам удалось захватить эту крепость, обладание которой давало Оману возможность изгнать португальцев из северной части Савахила.
Именно к этому периоду и относится возвышение Пате, расцвет в этом городе «золотой поры» суахилийской цивилизации. Почти на целое столетие города архипелага остаются предоставленными сами себе. Уход португальцев и установление тесных политических и экономических контактов с Оманом, у которого на первых порах не было сил играть роль нового хозяина побережья, в определенной степени способствовали возрождению торговых отношений с восточным миром. Широкие связи на равных с мусульманскими странами благоприятствовали расцвету ремесел и искусств.
Единственный из всех городов Савахила, так ни разу и не покорившийся завоевателям, но всегда стоявший во главе освободительной борьбы народов побережья, Пате приобретает репутацию его «культурной столицы». На остров съезжаются резчики по дереву, чеканщики, ювелиры, ткачи не только из соседних городов, но и из далекой Килвы, Мафии, Занзибара. Их руками создаются те дивные вещи, которые и сегодня поражают посетителей музея Ламу.
Именно в конце XVII – начале XVIII века, в период роста освободительного движения против Португалии и в первые годы появления арабов, когда еще не рассеялись иллюзии об обретенной свободе, происходит возрождение патриотической суахилийской литературы, новый подъем языка суахили. Подобно западноевропейским трубадурам, суахилийские нотабли устраивали между собой соревнования в стихосложении, собираясь в изысканно обставленных особняках, окнами смотревших на океан.
Попадая сегодня на улицы Пате и не зная истории, трудно, конечно, допустить, что за стенами его обветшалых домов некогда текла столь изысканная жизнь, а сам этот крохотный полусонный городок размерами и богатством соперничал в XVIII веке с бурлящей Момбасой – центром современного предпринимательства на побережье.
Глава пятьдесят втораяПате – маленький город с великим прошлым. – Платье-парус сегодня можно увидеть лишь на женщинах-патти. – Лучшие в мире шелка. – Радушие суахилийского дома. – В каждой комнате – коллекция кроватей. – Кресла-раритеты – инкрустированные рогом жирафа. – Местный этикет допускает и такое… – Обед, который может показаться северянину экзотическим. – Музейный фарфор в обиходе. – Прогулка по городу после сиесты. – Руины, рассказывающие о многом
Вернувшийся бвана Абу первым делом извинился за отсутствие мвалиму: «Ему еще надо давать много советов перед свадьбой», – объяснил он. Потом старик сообщил, что за неимением на острове гостиницы меня поселят в доме всеми уважаемого бваны Алиди – владельца одной из шести местных лавок. Бвана Абу сначала предложил отправиться туда, освежиться и перекусить, а уже затем идти осматривать остров.
Так мы и сделали. По дороге бвана Абу рассказал, что в молодые годы он плавал матросом на доу, бывал в Адене и Бомбее, но затем сошел на берег и стал портняжничать. Ремесло это на острове неубыточное, женщины всегда хотят быть хорошо одетыми, а модниц здесь – хоть отбавляй.
Что верно, то верно. Еще сидя под манго и наблюдая за толпой, снующей вокруг рынка, я заметил, что трудно представить себе более красочную толпу, чем в Пате. Свои национальные платья-китенги островитянки предпочитают шить из тканей, по красному или белому фону которых разбросаны огромные стилизованные цветы – обычно желтые, золотистые или синие. Резким контрастом среди них выделяются воронено-черные покрывала буибуи. И уж совсем необычными кажутся, правда не столь уж часто попадающиеся, наряды, подобных которым я никогда и нигде раньше не видывал. Впечатление такое, что в один большой, сшитый из ткани с ковровым орнаментом мешок одновременно залезли две женщины, над головами которых установлено по палке. В результате в верхней своей части этот странный балахон до пят имел М-образную форму. С одной стороны наряда-палатки была прорезь, в которой поблескивали черные глаза его обладательницы, с другой – он был глухим.
Я поинтересовался у бваны Абу, шьет ли он такие наряды и как они называются.
– Это – шираа, платье-парус, – понимающе закивал он. – Если заказывают, то шью, тут особой премудрости нет. Шираа вошли в моду у богатых местных женщин в прошлом веке, когда арабы завели здесь невольников. Сзади какой-нибудь купчихи, не желавшей обременять себя тесным платьем и чадрой, действительно шла рабыня, задыхавшаяся от духоты. Потом, когда невольников не стало, для ношения шираа придумали специальное приспособление из жердей. Но оно, говорят, неудобное. Охотников носить платье-парус почти нет; те женщины, которым по старинке нравится прятаться в одеждах, перешли на буибуи. Боюсь, под шираа, что вы видели сегодня, валяют дурака хиппи. Они-то все больше и покупают у меня эти несуразные мешки.
По дороге бвана Абу предложил мне зайти к своим родственникам. Откликнувшись на просьбу старика, хозяйка, испросив предварительно разрешения у мужа, продемонстрировала мне, как устроено платье-шираа. Когда, покидая ее гостеприимный дом, я протянул руку, желая попрощаться, она сунула мне в нее утиное яйцо. Я поблагодарил и недоуменно уставился на бвану Абу.
– У нас обязательно принято давать покидающему дом путнику что-нибудь съестное, – объяснил он. – Отказаться – значит кровно обидеть хозяев.
А вот и дом, в котором мне предстоит ночевать. Он двухэтажный: внизу расположены небольшая дука [37]37
Лавка, небольшой магазин (суахили).
[Закрыть]и складские помещения, наверху – жилье. На второй этаж ведет отвесная наружная лестница с резными перилами, внутри дома этажи не сообщаются. «Работа от семейной жизни отделена, как ночь ото дня» – гласит местная пословица, констатирующая, что личная и деловая жизнь должны быть строго разграничены.
Судя по тому, как радушно принимал меня бвана Алиди в свое рабочее время и на первом, и на втором этаже дома, эта традиция все-таки нарушается. «Радушие – главная черта патти, – приветствуя меня у порога лавки, сказал он. – У меня счастливая судьба, потому что в моем доме всегда есть гости. А гости в моем доме всегда есть потому, что все на острове считают его самым-самым суахилийским. Возможно, у меня больше кроватей, чем в других домах. Что же касается гостеприимства, то вы его найдете в достатке под любой крышей в нашем городе».
Почему речь зашла о кроватях, я понял сразу же, как только поднялся на второй этаж. Они составляли основу основ обстановки дома и явно служили мерилом достатка его хозяина. На втором по численности месте находились стулья и кресла. Больше никакой иной мебели, если не брать в расчет нескольких обитых медью сундуков, я вообще в этом «самом-самом суахилийском» доме «самого суахилийского города» не нашел. Вот почему, когда, вернувшись в Ламу, я прочитал в новой, тогда еще не опубликованной работе Дж. Аллена, показанной мне ее автором: «Типичный дом суахили – это коллекция изумляющего вас числа кроватей и кресел», то понял, что это – не преувеличение.
Кровати, исполнявшие присущую им обычно роль, стояли повсюду. Это были массивные, широкие, из черного или розового дерева сооружения на очень высоких, в половину человеческого роста, ножках. Только тут я осознал реальность казавшегося мне гиперболическим сюжета из «Хроники Пате» о том, как одна знатная особа взбиралась на ложе к своему мужу по серебряной лестнице. Можно поверить и в то, что при подобном культе кроватей в знатных домах, воспетых одним местным поэтом, их инкрустировали золотом и слоновой костью. Таких произведений суахилийских мебельщиков, именуемых «витанда вья мтаванда», осталось очень немного. Одно время мне казалось, что увидеть их можно лишь в музеях Ламу и Могадишо да в особняках одного-двух негоциантов-арабов из Момбасы, где кровати тоже превратились в экспонаты. Здесь же, в Пате, такими «витанда» еще пользуются.
В женских комнатах стояли также музейного вида детские кровати. Их ажурные перила были сконструированы так, чтобы позабавить малышей: разноцветные шарики-погремушки скользили по перилам-перекладинам, сами перекладины откидывались и превращались в опоры, на которых можно покачаться. И все это было красным, зеленым, желтым. Мне объяснили, что еще в XVIII веке на Сийю были открыты секреты изготовления цветных растительных лаков. Они веками сохраняют цвет, вот и эти не поблекли до сих пор.
Кроме этого антиквариата дом был заставлен «улили» – лежаками в нашем понимании. Они представляют собой раму с сеткой, на очень низких ножках. Сетка сплетена из эластичного и очень прочного пальмового волокна. Улили делают самых различных размеров с таким расчетом, чтобы при необходимости их можно было вложить одна в другую и все вместе задвинуть куда-нибудь в угол. Отсюда труднопонимаемая непосвященными суахилийская пословица: «Одна улили занимает столько же места, сколько десять улили».
Кровати-раритеты стоят вдоль стен, а между ними везде, где только возможно, были втиснуты кресла. Они тоже заслуживают внимания. Материалом для них послужил трудно поддающийся обработке эбен. Поэтому все в этих креслах сочленено под прямым углом. Подобное однообразие, однако, щедро компенсируется плетением из золотистой соломки в резных спинках и подставках для ног, а также инкрустацией. В рисунке преобладает растительный орнамент, реже – силуэты сказочных птиц и зверей. Все они удивительно нежных желтых тонов.
На первых порах я подумал, что инкрустации выполнены из слоновой кости. Однако оказалось, что для них используют рожки жирафа. Их сначала на несколько недель закапывают в землю, а затем долго держат в соке манго и лимона. Это очень древний способ, имеющий еще кое-какие секреты, известные сегодня двум-трем старикам в Сийю.
Боюсь, что, если бы островитяне разгласили их, жирафам на материке не поздоровилось. А пока что на них мало кто охотится: мясо несъедобное, шкура не поддается выделке. Прок есть только от хвоста, из которого вожди многих племен делают себе опахало, символизирующее власть. Насколько мне известно, никто в Африке, кроме мастеров-пагги, никогда не использовал жирафьи рожки в каких бы то ни было целях. Еще для инкрустации кресел раньше применяли перламутр; украшали их также серебряными и медными гвоздями.
Когда мы покончили с осмотром дома и меня пригласили сесть, я наконец понял, почему в суахилийском доме так много улили, почему, они в отличие от витанда, не убраны бельем и почему эти лежаки стоят повсюду: посреди всех комнат, в коридорах, на кухне и даже на улице.
Войдя в «парадную» комнату дома, все расселись на улили. Затем хозяйка принесла густой чай, сваренный, по местному обычаю, с молоком. Его сервировали тоже на лежаке. Пока мы пили чай и беседовали, женщины сдвинули несколько свободных лежаков, застелили их яркими купонами китенга вместо скатертей и превратили кровати в обеденный стол.
Все стены в парадной комнате были увешаны фотографиями родных и близких хозяина, картинками из журналов и плохо вяжущимися с ними изречениями из Корана. Между ними кое-где поблескивали небольшие зеркала и тарелки с голубым рисунком. Примерно через каждый метр ряды их нарушали спускающиеся с потолка яркие шторы. Они крепились на тонких мангровых жердях, на разных уровнях пересекавшихся под потолком.
Я спросил об их назначении.
Ни слова не говоря, бвана Алиди встал и принялся растягивать шторы. Буквально через несколько минут вся парадная комната оказалась перегороженной ими на множество отсеков.
– Конечно, в моем доме это – лишь дань традиции, – объяснил хозяин. – Однако в обычных небольших ньюмба [38]38
Дом (суахили).
[Закрыть]или, тем более, в упену [39]39
Хижина (суахили).
[Закрыть], где в тесноте живут большие семьи и бывает множество гостей, такие отсеки размером с улили попросту необходимы. Кроме того, местный этикет допускает и такое: если вы, к примеру, устали, то можете взять любую приглянувшуюся улили, отделиться от компании, зашторить один из отсеков и полежать. При этом можно продолжать беседу с сидящими. Но и соснуть не грех. Никто вас за это не осудит. Попробуете?
Честно говоря, я подумал, что неплохо было бы принять это предложение. Но принесенные женщинами кушанья, источавшие приятные ароматы, отвлекли меня от подобных мыслей.
Обитателю более высоких широт еда патти может показаться экзотической и даже изысканной, но для приэкваториального острова она обычна. Замечу лишь: 400-граммовая банка консервированной свеклы, привезенная из Англии, стоит в магазине Алиди в сорок раз дороже, чем килограмм признанных лучшими в мире красных манго из Ламу.
С них-то мы и начали обед. Затем подали суп с угали – горьковатыми клецками из маниоковой муки. На второе – вареный рис с креветками, обильно сдобренный жестоким перечным соусом. Затем («Специально для гостя!» – подчеркнул хозяин) любимое лакомство патти – мкате йа майяий (яичный хлеб) – нечто вроде пышного омлета, который поливают либо ананасовым сиропом, либо имбирным соусом. И снова чай, чай, чай…
Перед каждым новым угощением одна из женщин уносила со стола всю использованную посуду, а другая приносила чистую. Тарелки были в основном современные. Но небольшое блюдо, на котором к чаю подали сухарики с изюмом, привлекло мое внимание настолько, что, дождавшись, когда сдоба исчезнет, я, преодолевая неловкость, перевернул его. Китайский фарфор, XVIII век…
– Таких блюд на острове осталось несколько штук, – заметив мою проделку, сказал бвана Абу. – Но новой посуды в любом, самом бедном доме у патти очень много. И наверное, так повелось издавна, потому что среди некоторых развалин и сегодня фарфоровых черепков чуть меньше, чем камней. Вы знаете, я бывал за границей и видел, как там одну тарелку используют подряд для нескольких блюд. У нас это невозможно. И не потому, что этим обижают гостя, а прежде всего потому, что тем самым хозяйка роняет свое достоинство, престиж всего дома. Даже в самой бедной хижине маисовые угали едят на одной тарелке, а вареные бананы – на другой.
– Наш гость опоздал с визитом на остров на целых два столетия, – пошутил бвана Алиди. – Теперь нам все приходится ссылаться на черепки и о многом говорить в прошедшем времени. А если бы он попал сюда во времена «золотой поры» Пате, то еду из кухни ему приносили бы в огромных медных котлах-суфуриях, фрукты подавали на бронзовых подносах, а яства накладывали на дорогие фарфоровые тарелки с голубым рисунком. А что это были за яства! Мясо жарили на мангровых углях, придававших ему дивный аромат. Специально откормленных душистыми травами барашков подавали в диковинном соусе из гвоздики, муската и кардамона. Птицу предварительно вымачивали в кокосовом молоке, отчего мясо ее становилось нежным и сочным.
Мои хозяева закурили длинные трубки, улеглись на улили, и по всему было видать, что отказаться совсем от давно наступившей сиесты они не могут. Первым пример подал старый Абу: он пододвинул лежак к стене, отгородился от нас шторами и захрапел. Вскоре его примеру последовали все остальные. Уснул и я.
Но ровно в пять часов на первом этаже зазвенел звонок, возвестивший, что лавка хозяина открылась для работы до полуночи. Бвана Алиди спустился вниз, а бвана Абу пригласил меня осматривать город.
Первое впечатление не очаровывало: по сравнению с Ламу сегодняшний Пате кажется заброшенным и ветхим. Да и чему удивляться? В пору расцвета здесь жили около 25 тысяч, в начале века – всего лишь 300 человек, а ныне число патти приближается к тысяче. Более половины домов, среди которых многие достойны иной участи, заброшены. А нежилые дома, как известно, стареют и разрушаются куда быстрее, чем обитаемые.
Кое-где в кварталы этих старых домов из известняка врываются современные глинобитные ньюмба, окруженные садами за мангровыми изгородями. Не считаясь с ними, из садов в старый город переселяются бананы, окружают древние постройки, придавая им романтический, загадочный, но совсем необитаемый вид.
Но, побродив по лабиринтам полутемных улочек, наслушавшись от бваны Абу и присоединившегося к нам по пути мвалиму Сайида рассказов о богатом прошлом чуть ли не каждого дома, начинаешь проникаться уважением к Пате. Еще сохранилось кое-что от огромного Великого дворца фумомари, отстроенного в XVIII веке. В городе пять возникших на заре «золотой поры» действующих мечетей, в том числе почитаемые мусульманами далеко за пределами архипелага мечети Бвана Бакари и Бвана Таму. Около полутора десятков мечетей лежит в развалинах. Как и повсюду на суахилийском побережье, там, где минареты не приобретают форму фаллоса, их венчают устремленные в небо столбы-стелы, заставляющие вновь подумать об африканском влиянии на ислам.








