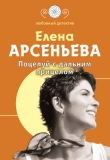Текст книги "Писательница"
Автор книги: Сергей Буданцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
VII
Повесть сразу ворвалась в современность. Продолжение ее разыгрывалось уже на сцене, которую писательница видела воочию, и действительность эта остро разрывала призрачную ткань образов прошлого, воспринимаемых из рассказа, являясь перед писательницей со своими голосами, запахами, со всей бесцеремонностью вочеловечивания, в намерении без всякой жалости разрушить призраки воображения и нагрузить память новыми картинами, которым в свою очередь суждено превратиться в ее сознании в мысль.
Вторая жена Павлушина жила и здравствовала в уплотненной квартире где-то на одной из главных улиц города, за пыльными тополями. Дом их был наполнен детскими криками, юношеской болтовней, беспричинным хохотом и необоснованными рыданиями молодости. Мачеха выходила пасынка и падчерицу, старалась поставить себя так, чтобы стать им подругой и тем очистить место для детей, прижитых ею с Павлушиным…
Но, дойдя до второй женитьбы, рассказчик оборвал повествование, притом гораздо резче, чем следовало бы при дыхании и разбеге, который взял спервоначала его рассказ. Очевидно, Павлушин натолкнулся на что-то в настоящем, что забылось за воспоминаниями. Он устало обвел окружающих воспаленными глазами и поморщился. Слушатели держались несколько потупленно, с двусмысленной деликатностью, которая, подобно некой фигуре умолчания, выражает больше, нежели откровенность.
– Ну что ж… Поговорили – и будет, – сказал сменный мастер Головня и ушел.
Вслед за ним поднялся и скрылся технорук.
– Мало времени и внимания приходится уделять семье, – разбито и книжно сказал Павлушин.
После такой интонации естественно приступить к более откровенному разговору, тем более что они остались с писательницей с глазу на глаз, – испарились даже калькулятор и Досекин. Возможно, что и разошлись-то все из соображения, что Павлушин может с разгона вступить в откровенности с писательницей и лишние уши будут ему неприятны. Разумеется, семейные огорчения, постигшие начальника цеха, были всем известны.
Павлушин действительно оказался не в состоянии удержаться.
– Трудно сейчас с семьей, – сказал он, потупившись, не глядя на слушательницу, с непривычно потерянным видом – Я, знаете, люблю во всем порядок, строгость. Квартира у меня в чистоте… Жена и дети трусятся, чуть я брови сдвину… Да вот в последний год промфинплан напряженный, редко дома…
Зазвонил телефон. Писательница вздрогнула, Павлушин радостно схватил трубку.
– Заводоуправление? К директору? Когда, сейчас? – закричал он. – Да, да, конечно, свободен. Какой может быть разговор! Сию минуту!
И он поспешно, угловато, чего с ним никогда не бывало, сунул писательнице руку.
– Да, вот какие дела… – бормотал он. – Директор зовет… – И не скрывал, что доволен обстоятельствами, прервавшими беседу.
Писательница слегка задержала его руку.
– Мне очень хочется побывать у вас, – вырвалось у нее приветливо и естественно, – в гостях… Завтра, под выходной?.. Если разрешите, я зайду.
Остаток дня она провела в расспросах о Павлушине, толкаемая неожиданным и бескорыстным интересом, который возбудила в ней личность Павлушина, невольно делая невыгодные для себя сравнения.
Из чего, собственно, составлялась биография такого человека, как она?.. Несколько воспоминаний о чисто телесной беззаботности детства, о все ускоряющемся росте, который, вместо радостей, приносил тяжелые тревоги юности, об отце, который был столь преисполнен давящей самоуверенностью, что, казалось, каждый шаг его должен оставлять вмятины на тротуаре. А между тем он всего лишь издавал недолговечные, по большей части убыточные юмористические еженедельники, скучноватые в день выхода, а теперь, через тридцать лет, постыдно пошлые. Сейчас трудно себе даже представить, что к их составлению прилагали ум и способности люди в пиджаках, галстуках и бобровых шапках, которые как-никак управлялись хоть с бытовой сложностью жизни, хоть со счетами типографии. Впрямь, некая неестественная легкость присутствовала во всех делах так называемого «мирного времени», начиная от беззаботных кутежей тогдашних аферистов и кончая самоубийствами «по причине неизлечимой болезни». В глазах писательницы из-за этой легкости все «мирное время» представало страшно обесцененным, но даже и для него занятия ее отца были подозрительно легки.
Потом она училась в гимназии, влюблялась, писала стихи. Вышла замуж. Развелась. Вышла во второй раз. Второй муж верхом человеческой мудрости считал английское изречение: «Мой дом – моя крепость» – и придавал ему такую глубину, что она становилась бездонным содержанием целой эгоистической жизненной программы. Узловые воспоминания для писательницы – это болезни, выздоровления, поездки на курорт. Сравнивая все свое прошлое житие с жизнью Павлушина, она заметила, что для ее жизненных событий приходится брать слова из другого набора, чем для Павлушина. Ее слова: здоровье, любовь, родственники, погода, книги, творчество, квартира – всё из одного и того же личного круга. Его слова: винтовка, цех, молодежь, женорганизатор, товарищ, постановление, табель, работница и еще многое множество – это о роевом, об общественном, о таком, что требует участия других людей, говорит о соучастии, сотрудничестве. Многие слова произносились обоими, например – болезнь, семья, книга; в сознании как ее, так и его самые понятия эти играли значительную роль, но все это звучало у них в разных ключах.
Сердце писательницы болезненно билось от жары и усталости, но старуха уже не могла заставить себя не ходить и не расспрашивать весь день о заинтересовавшем ее человеке. Ей приходилось быть многословной, подталкивать наводящими вопросами, ловить на недомолвках, увязать в околичностях, выискивать истину в противоречиях. Главное препятствие заключалось в том, что никто не мог взять в толк: зачем, собственно, газетной сотруднице копаться в чужих семейных делах и могут ли чьи бы то ни было семейные дела идти в сравнение с выполнением плана по заводу, со строительством утильцеха? Так, обычно, беседуя с ней, Досекин улыбался, и борода его весело раздувалась. Но когда речь зашла о второй жене Павлушина, о его детях, он цедил в усы слог за слогом и все сводил на то, что надо личную жизнь согласовать с основными устремлениями пролетариата.
Поймала писательница и технорука. Но этот привык отвечать на все так строго и по существу, что даже после утренней встречи странно было бы обратиться к нему с такой неопределенностью: «А скажите, товарищ Сердюк: что происходит в семье вашего начальника цеха?»
Если ему когда и доводилось сообщать что-нибудь о людях, это были очевидные, бесспорные, безусловные сведения – скажем: работает в орготделе горкома… женился… умер… посадили. Ему как бы претили психологические подробности житейщины: расходятся, влюблены, тяготится службой, интриган и т. п. Такое самоограничение можно было принять за тупость, но писательница давно догадалась, что технорук попросту отвлек свои интересы из области отношений в область вещей. Однако эта догадка не облегчала ей задачу – хоть издали, хоть с чужой помощью сблизиться по-человечески с Павлушиным, духовно пересечь его существование и заглянуть ему в лицо.
– Четкий работник, вполне на своем месте, – выразился Сердюк про начальника; а это было известно и без него.
Неожиданно писательница обнаружила, что за ее суетой следит калькулятор, странный, малоприятный молодой человек, всегда безмолвно углубленный не то в вычисления, не то в какие-то раздражающие его додумывания. В конце служебного дня, собрав бумаги и заперев в шкаф счеты, калькулятор приблизился к писательнице и, тесня ее в угол, не спуская с нее глаз, вкрадчиво спросил:
– Осмелюсь вам предложить один вопрос… Не думаете ли вы, что жена гражданина Павлушина ему изменяет?
И грубо захохотал.
– С чего вы взяли? – невольно вырвалось у писательницы, буквально ошеломленной как самим вопросом, так и диким несоответствием сладкого тона речи и грубого хохота.
– «Что красавица мне неверна!..»? Вас это интересует? Знаю, интересует. Писатели всегда пишут про измены и неверную любовь, потому что всякому поучительно и любопытно читать… не то что про машины. А вы, конечно, изображаете, что вам важны машины! Хотя, между прочим, слушая, как он рассказывает, вы мучились тем, что он убил. Вам неизвестно, имеет ли право человек убивать…
Писательница собрала всю твердость, прибавила к ней кое-что из прочитанного за годы революции и ответила:
– Если у человека есть руководящая идея о благе общества, искреннее и большое убеждение, – он это право в определенных случаях…
– Ах идея! Но если убивать, то это уже не идея, а чувство. Убивают не умом, а чувством. И, если уж на то пошло, человек, который любит и ревнует, имеет больше права…
– Что вы хотите сказать? Почему такая странная тема?
– Не бойтесь, гражданин Павлушин имеет верную жену. Раиса Степановна наседка, про такую стихотворения не напишешь. Ни про нее, ни про него. И потому довольно напрасно теряете время. Оно же деньги.
– Я стихотворений не пишу.
– Ну ро́ман.
– И рома́на пока не собираюсь.
– Рома́н… – Он задумался. – Так неправильно, нужно – ро́ман. Ро́ман, – упрямо повторил калькулятор. – А вы вот образованная, но позволяете себе говорить неправильно. Рома́н – это так зовут, имя. А все должно иметь отлички.
– Вы, должно быть, любите фотографироваться? – вдруг неожиданно для себя, глядя на выспреннюю физиономию и манерную позу калькулятора, спросила писательница.
– Нет. Я некрасив и невиден. А сам люблю красоту. Когда слышу вдалеке музыку, готов заплакать. Злюсь на себя, но слезы катятся. Знаю – в городском сквере просто ходят люди, а военный оркестр играет. Но издали… Издали все другое, один звук. И, конечно, мне завидно великим людям. Я и вам завидую… Напишете в газете, и ваша подпись…
«Сейчас он вытащит рукопись или попросит разрешения зайти вечером, прочитать поэму», – подумала писательница, сразу же начав искать в уме отговорки.
Но он опять удивил ее.
– Пробовал я писать… Не выходит, нет никаких к этому способностей. – Калькулятор даже покраснел, как ей показалось, от ярости. – Всякий должен искать свой большой поступок.
– И вы полагаете, что человек вроде Павлушина на большой поступок не способен?
– А у меня о нем и мыслей нет. Думаю, впрочем, не способен. Таких, как он, много. Но те, которых много, не умеют держать линию своей жизни. Их несет, как пух по ветру.
– Ну, знаете… Сказать про вашего начальника цеха, что он пушинка!..
– И пушинка вес имеет. А самой-то ей небось кажется, что она и вовсе тяжелая. Только ветер может и дерево сломить. Ну вот он! Столько лет в партии, подвиги в гражданской войне… А тут утильцех! Незавидно. Работы же – до поздней ночи. Ответственность. Большой поступок одним ударом делается – вот как, по-моему.
Больше ничего от него добиться было нельзя. А все касающееся Павлушина приобрело для нее необыкновенный интерес. Прежде такие «низменные» вопросы, как прохождение службы, могли занять ее воображение лишь в великих жизнеописаниях, но карьера рядового человека – что может быть скучнее! Медленное накапливание стажа, помощь всяких случайностей, вроде перевода на другое место, а ныне – переброски… Нет, все это было не для нее! А в приложении к Павлушину, вопреки мнению калькулятора, важно все – и партстаж, и военное прошлое, и происхождение. Ее теплое любопытство, видимо, не только просто тронуло Досекина, но как бы открыло для него новые стороны человеческих отношений, и он откровенно, как мог живописно, рассказал о «падении» Павлушина. Красный партизан, боевой коммунист, кадровый рабочий, Павлушин был однажды по заслугам исключен из партии.
VIII
Да, однажды старый мир схватил его, да так, что едва не сломал ему хребет.
Павлушин не любил вспоминать свою ошибку, и тот, кто без нужды напомнил бы ее, мог нарваться на большие для себя огорчения.
Иная тщеславная, суетная душа, неуверенная и слабая, балует себя смолоду мелким успехом, который дают и хорошо сшитый пиджак, и умение бренчать на мандолине, и еще не развившееся художественное дарование, в силу своей незрелости кажущееся широкодоступным. Такой душе, если она хочет выжить, а не истлеть заживо, нужно страдание, вызывающее потребность оглядеться, определить свое место; оно пробуждает гордость, вытесняющую самолюбование. Такие души сами рвутся к очистительному страданию. Но есть натуры подлинно могучие, которые не умеют страдать умеренно, их боль нередко во много раз превосходит вызвавший ее повод. И Павлушин был из этого ряда. Ошибка была для него позорным несчастьем. Он не желал оставлять ее необъясненной для себя, он сознавал, что ее породила слабость, результат болезни.
Со второй своей женой Павлушин венчался в церкви. За это его исключили из партии. Сколько ошибок прощают себе люди, если они сделаны в узком кругу личного, – а иные ведь, пожалуй, и всякое свое деяние расценивают как личное. Но Павлушин очень резко делил поступки на личные и общественные. В церковь он пошел как человек с ослабленной болезнью, потерявшей способность к сопротивлению волей, но когда ему напомнили, что он, член партии, не имел права этого делать, его охватило такое огромное чувство стыда, будто он занимался чем-то в высшей степени непристойным на глазах у несметной толпы. Ведь совершая многое множество своих дел, он всегда окружал себя людьми, примерял свое поведение к той всеобъемлющей общественной норме, которая называется партийностью, подобно тому, как настоящий одаренный писатель, работая, все время видит перед собой огромный, требовательный, проницательный мозг читателя, тот безграничный ум, который и на самом деле оценивает книгу на всем протяжении ее исторической жизни.
Как писатель должен иметь в себе столько вкуса, таланта и идейного самосознания, чтобы ответить за каждое свое слово перед своим главным судьей, состоящим из критического чувства самого писателя плюс критическое чувство его читателей, – а сумма этих слагаемых и есть мыслимый идеальный читатель; как любой конструктор, рассчитывая машину, должен предвидеть не только все случайности производственного режима, то есть выясненные и невыясненные законы механики, физики, химии, но и законы социальной жизни, знать и хранить в сознании все – от формулы силы рычага до расчета сопротивления материалов, от воздействия внешних влияний на металл до учета культуры внимания у рабочего; как гимнаст, проделывающий упражнения даже в одиночку, должен подчиняться ритму, целесообразности, точности, не им установленной, а переданной ему учителями и соучастниками упражнений, – так Павлушин был в полной мере наделен чувством критики, чувством расчета, чувством конструкции, чувством ответственности, соучастия и общественного ритма, словом – социальным чувством.
Графоман всегда доволен написанным, безумец, сочинивший машину вечного движения, не отказывается от нее, если даже ему докажут очевидную нелепость его промахов. Такие не знают срама, но они не чувствуют и общества. Им не страшен суд, который наше воображение составляет из самых строгих, нелицеприятных судей, привлекая иной раз в их число даже стены нашей комнаты, потому что они сделаны людьми, не способными на осуждаемые деяния! В состав суда включены воспоминания о великих произведениях искусства, о высоких, благородных поступках, о героях и богатырях, включены все строгие призраки культуры, и, кроме того и прежде всего, мысленный приговор над ними произносит непременно человек близкий – друг, отец, любимый или любимая, вернее даже не они сами, а то лучшее, что мы о них думаем.
В какой-то мере Павлушин оказался туповат и странно узок. Он не мог, – не для оправдания себя, нет, а чтобы развязать себя, выделить и поставить в о в н е несчастную случайность болезни, которая исказила его настоящий облик, предельно изнурила его волю, – не мог простить себе и случайную слабость. Он желал отвечать и за случайность.
Квартира, куда вселился Павлушин, встретила его не одними болотного цвета коврами. Здесь проживала все еще считавшая себя хозяйкой квартиры инженерная экономка, которую все называли Пашетой. Перепуганная бегством хозяина и вселением новых жильцов, совершенно сбитая с толку тем, что, оторванная от своей среды, она только что бочком и ползком влезла в другую, но в этой неудобной позиции была сразу остановлена, – Пашета встретила Павлушина угодливой предупредительностью, принятой им спервоначала за доброту. Но когда он увидел Раису Степановну, жену сварливого пьяницы-слесаря, одновременно суровую и кроткую от переполнявшего ее сознания, что, раз уж ей выпало неудачное замужество, она должна безропотно переносить его, – Пашета, с ее судьбой и смятением, с ее угодливой сладостью, показалась ему до такой степени олицетворением человеческого, душевного уродства, что он перестал верить в ее реальность, – не приснилась ли она ему в самом деле в каком-то дурном сне?
Зато жена слесаря так быстро и так прочно водворилась в его душевном мире – вероятно, и ей самой Павлушин предстал как непременная и неустранимая часть новой жизни, – что все препятствия к сближению с ней он преодолевал легко и естественно, как легко и естественно, хотя медленно, но неуклонно, входили в него сила, здоровье, умиротворение.
Однако он был, в сущности, еще очень слаб, когда Раиса Степановна пришла и стала жить в его комнатах. Эти его слабость и беспомощность и укрепили ее жалость к нему, к детям. Она ощущала себя как бы сестрой милосердия, идущей на помощь больным, и, в восторге доброты и жалости, с неведомой ей доселе властной силой отстранила слесаря.
Старик муж примирился с уходом жены. Он жил в пьяном бреду и до и после ее ухода, мог говорить и думать лишь об ощущениях, которые ему давал алкоголь. После первого же глотка обжигающей жидкости разливающаяся по телу теплота мгновенно вызывала бесшабашный подъем, желание петь. Он мог часами выкрикивать во все горло одну и ту же песню: «Бывали дни веселые…» – а затем следовали потеря сознания, сон, похмелье, ужас нового утра. Он тщился оправдать все это, давая своему падению в некотором роде историческое определение, и называл себя «жертвой старого режима». Странность заключалась в том, что так безудержно он запил после запрещения водки, с появлением всяческих суррогатов: опивался самогоном, денатуратом, валерьяновой настойкой, словно его подзадоривал риск, внесенный в вековое дело опьянения.
Всю войну старик прекрасно зарабатывал, и то, что он называл себя жертвой старого режима, показывало, что его отношение к революции насыщено какими-то непроявленными классовыми ощущениями.
Не меньше, чем алкоголь, портил, мешал ему в отношениях с женой раз навсегда принятый им тон упорной насмешки. Тон этот сохранился и после ухода жены, только в нем появились еще какие-то мрачные черты.
Вся квартира очень удивилась, когда слесарь однажды заявил, что переезжает со своей трехлетней дочкой Лелей к вдовой сестре, проживавшей на далекой Чечетовской улице. Взяв небольшой узел с вещами, он запер комнату со всем остальным своим имуществом и увел девочку.
Дочку Раисы Степановны звали Лелей. Это было пухлое трехлетнее создание, в том милом возрасте, когда ребенок уже не животное и радуется стать человеком. Всех восхищали ее веселость и бессознательная ребячья грация. Девочка беспрестанно радостно щебетала – с матерью и женщинами просто и бесхитростно, с мужчинами с некоторой долей лукавого детского кокетства, непобедимого и первозданного, как сама жизнь.
Павлушин изредка встречался со слесарем то на улице, то у себя в коридоре, – тот иногда заходил в свою прежнюю комнату. Слесарь бросал на него хмурый взгляд красноватых, в подушечках глаз, усмехался, спрашивал: «Живешь?» И нельзя было понять, какой смысл таит этот вопрос.
По рассказам Пашеты, слесарь уже дважды подрался где-то в шинке, чего за ним раньше не водилось. Раису Степановну это обеспокоило. Молчаливо и сосредоточенно она пыталась решить неразрешимую задачу – как с помощью старых правил согласовать противоречия новой жизни? Она скрывала от Павлушина все мысли и тревоги, связанные с поведением и поступками первого мужа, думала, что у нее хватит сил отказаться и от Лели.
Павлушин был занят мелкими, но хлопотливыми делами выздоровления, кроме того, требовалось в голодном городе прокормить большую семью, и, наконец, он так привык к переменам и необычностям, что, экономя силы ума, вживался в них, не вглядываясь. Его очень удивило, когда жена заговорила о слесаре, об учиненных им скандалах, заявила:
– Упрямый он, черт…
Будто открыв для себя возможность безнаказанно рассуждать о старом муже, Раиса Степановна целый вечер вспоминала примеры его феноменального упрямства, и видно было, что оно неотступно занимает все ее мысли.
– Разве разберешь, о чем он думает! Трезвый насупится, а пьяный несет всякую ерунду. И уж только его разозлить – он навредит, обязательно навредит.
Все это плохо вязалось с образом нетрезвого болтуна, любящего выпить на даровщинку, мгновенно отвлекающегося от любой мысли к воспоминаниям о выпивках, причем столь похожих друг на друга, что неизвестно, почему застряли они у него в памяти. Но ведь и мрачная злая усмешка, которая все чаще мелькала на его лице, тоже совершенно не вязалась с этим образом, а ее-то Павлушин сам не раз наблюдал.
Разговор о покинутом муже кончился тем, что Раиса Степановна расплакалась и после долгих расспросов созналась, что сильно тоскует по дочери.
– Душит меня тоска, – говорила она, и слезы расплывались по щекам, старя ее строгое лицо. – Твоих-то вон выходила, растут, наливаются, на Петю интересно полюбоваться. А за Лелей и присмотреть некому, тетке она только обуза. А я без нее… Не имеет он права задерживать ее, мучить мать…
Павлушин был тогда у предела своих сил и новую заботу принял с чувством, похожим на подозрительность, что жена берет над ним слишком много прав. Конечно, дети его одеты, вымыты, причесаны, в квартире царит почти нежилая чистота и вещи уже образовали железный порядок; стол, стулья как бы продавливали углубления в полу, оттого что всегда аккуратнейшим образом возвращались на свои места… Но…
Раиса Степановна, пока ею владел слесарь, представлялась Павлушину воплощением здравого смысла, гибкости, женской приспособляемости, которые дает постоянное пребывание в сфере практики, в круге, по существу, узких, крошечных, но, если их связываешь издали с привлекательностью женщины, таинственных и мудрых домашних и бабьих дел. А теперь ее аккуратность уже оборачивалась ему сухостью, и он смутно подозревал – сколько на свете таких примеров! – что своей внешней упорядоченностью она укрощает хаос души, мир беспорядочный, полный темных и смутных желаний. Самое темное из них – желание борьбы и победы над ним, над ее новым мужем.
– Да нет, он старик пустой, – сказал Павлушин о слесаре. – Был бы упрямый, не отпустил бы тебя без единого слова.
– Так вот как ты обо мне думаешь… По-твоему, значит, он мной бросается…
И Раиса Степановна разрыдалась с такой силой, что Павлушин весь вечер утешал ее и настоял, чтобы пригласить слесаря для переговоров.
На другой день, в субботу, Пашета сбегала к воротам завода конных молотилок и в обеденный перерыв передала старику, что его просят зайти. Слесарь согласился. Явился он утром в воскресенье, часов в десять, но, по случаю праздничного дня, в полутрезвом состоянии, невыгодном для его противников. Он испытывал прилив сил, оттого что выпил, и досаду, потому что недопил.
Бегло оглядев комнату, гость сел на стул в углу, то ли изображая бедного родственника, то ли ограждая спину от нападения, то ли с намерением наблюдать, как на сцене, все, что будет перед ним разыгрываться.
Как только он вошел, Раиса Степановна выскользнула из комнаты. Павлушин был убежден, что она подслушивает у двери, и не сердился, отлично понимая ее волнение. Впрочем, ей не терпелось; несколько раз во время незначащих вступлений к беседе проходила она из коридора в спальню детей, но долго там не задерживалась, возвращалась снова, искоса, таясь оглядывала слесаря. Побледневшее круглое лицо ее покрылось красными пятнами, как в экземе.
– Чего ты снуешь, – заметил ей на старых правах слесарь. – Хоть бы чаю, что ли, дала.
– Может, водочки? – незнакомым самой себе, хриплым от волнения голосом отозвалась она.
– Ну, где выпить я найду и без вас, – грубо сказал слесарь. – Выкладывайте лучше – зачем побеспокоили? Что так-то в молчанку играть, из угла в угол метаться!
Приготовившись к долгой борьбе, Павлушин начал издали, обиняками говорить о том, как сейчас, пока не окрепла республика трудящихся, трудно одному налаживать жизнь, особенно когда на руках ребенок.
– Одному, верно, трудно. Так ты что же? Жить к себе приглашаешь? В общежительство? – резко захохотал слесарь. – Вот была бы потеха добрым людям: молодой, мол, не справился, так старого зовут.
Павлушин с ненавистью вспоминал потом этот разговор – до такой степени не соответствовал он его правилам, требующим уважения к жене со стороны даже самых близких приятелей и родственников. Если он все-таки стерпел речь слесаря, то лишь потому, что само положение второго мужа при живом первом было в то время странно и непривычно, а главное – все его объятое неприязнью к слесарю существо держалось настороже, как бы не испортить основную задачу – вырвать Лелю. Эта сложность поглотила всю сообразительность и, пожалуй, обидчивость далеко еще не окрепшего Павлушина. Он, правда, сразу оборвал двусмысленности собеседника, но не так резко, как следовало бы, а несколько смущенно, будто непозволительный поворот беседы просто уводит в сторону.
– Вот что, Филипп Алексеевич, давай-ка Лелю нам, – сказал Павлушин. – Девочка у тебя в забросе, тетке не до нее, старухе абы самой прокормиться. Тут же она будет при матери, при других детях. Я ее от своих отличать не буду, воспитаем как надо…
И он принялся обстоятельно развивать этот свой план, приготовленный им в качестве главного козыря ко встрече со слесарем, до которого долго не допускал его собеседник.
Слесарь слушал, забившись, как в нору, в свой угол, громко и тяжело дыша. Не слыша возражений, на которые в свою очередь приготовил собственные, Павлушин замолчал. Молчал и слесарь. Вошедшая с чайником Раиса Степановна замерла у стола, так и не поставив его на поднос. Не разрешаемая ожидаемым словом тишина тяготила Павлушина каким-то отдаленным сходством с теми самыми страшными положениями, в которые он попадал. Так же вот молчали они втроем в теплушке, когда бородач освобождался от веревок. Так томительно было, когда он сидел у ног мертвой жены, ожидая каких-то слов от странной старухи, принесшей гнусные объедки его детям. Ему и теперь словно не стало хватать воздуха, тишина приобретала власть над ним, над всеми троими, – каждый чувствовал себя совершенно одиноким, углубившимся в самые сокровенные свои мысли. Павлушину хотелось еще что-то сказать слесарю. Но что?..
За окном затихал и стыл ненастный мартовский южный день, которому так и не было дано разогреться. Он походил на длинные серые сумерки осени.
Старик внимательно, как бы вчитываясь, поднял на Павлушина глаза. В одутловатых складках его лица проступили подлинные молодые черты, требовательные и суровые. Он откашлялся и медленно проговорил:
– Нет уж, товарищ Павлушин, к невенчанным дочь моя не пойдет. Ты правильно рассудил, что при матери девочке будет лучше, чем при больной тетке, а за то, что ты не станешь требовать на ее прокормление, спасибо. Оно, может, тут следовало бы погордиться, да я свою слабость сознаю: пообещаю платить, ан пропью. Голодной она у меня, конечно, не останется, а все ж, как не понять, – у вас, при матери, будет намного лучше.
– Правильно, вполне правильно рассуждаешь…
– Только вот, говорю, к невенчанным дочь не отпущу. Не пойдет мое рождение к невенчанным.
– То есть как это так? Ты что, в самом-то деле…
– А вот так. Не по-вашему, не по расписке должно быть, а по-христиански, в церкви. Ты у меня жену отбил – это дело твое и ее, да и какой я муж, нешто я не понимаю. И живите как хотите, в законе или так… вольно. Но для дочки тут другой разговор. У меня, брат, все хорошее позади осталось, но все, как тогда было, желаю я, сколько могу, дочери передать. Пусть сама потом выбирает – старое или новое. – Он приостановился. – Одним словом, развод я дам, не воспрепятствую. Однако венчайтесь в церкви. Только при этом условии предоставлю вам дочь.
– Да я же большевик, коммунист, не верю в твоих богов!
– Я не для себя. Я для своей дочери законной семьи требую.
– Знаешь что, дядя, катись-ка ты отсюда…
Но они еще с полчаса кричали друг на друга, и по этому крику, по своему бессилию его убедить Павлушин понимал, что старик затянет вокруг этого вопроса узел. Раиса Степановна, которая краснела все больше, будто наливаясь невысказанными словами, – а сказать ей хотелось, конечно, то же, чего добивался бывший муж, – по тонкому, бессознательному расчету не изменила поведения, не вмешивалась. Постоит, постоит у двери и выйдет. И слесарю, и Павлушину – обоим было известно, что, перейдя в новую семью, она перенесла с собой и икону, которой ее благословили родители на первый брак. Павлушин не позволил повесить икону в передний угол, как полагалось по-старому, и она установила ее в углу шкафа с бельем. Когда открывали шкаф, оттуда, как из кукольного домика, рассеянно, строго и болезненно – в противоположность осмысленному выражению, каким обладает взгляд всякого, особенно работающего простую работу, человека, – смотрели из-под дугообразных бровей неестественно большие, хмурые глаза на коричневом женском лице. Глаза были с голову младенца, которого держали непомерно длинные пальцы. Этими несоответствиями живописец наивно и последовательно проводил мысль о неравенстве человеческих органов: те, что он считал благородными – глаза, лоб, брови, руки, – он преувеличивал, а низменные – рот матери, животик и ноги младенца – уменьшал. И Павлушин и слесарь знали также, что Раису Степановну тайком, хотя в этом не было никакой нужды, навещала мать, иссохшая черная женщина, мучимая глубоко запрятанным страхом смерти, что она вечно плачется, зачем дочь нарушила веру, пошла от живого мужа к детному вдовцу, да еще к партийному, в беззаконное сожительство. Мать и дочь ссорились, проливая слезы, причем разногласия показывали обеим, что они не сходятся лишь в частностях.
– Вернись к старому, неси свой крест, – шепотом убеждала мать. – Не будет тебе здесь счастья.
И дочь начинала верить ей, что счастье возможно лишь в виде прежнего прозябания всего существа, что ею сделан неверный жизненный шаг. На новом месте жизнь молодой женщины складывалась так, что прошлое могло иной раз показаться ей лучше, чем оно было на самом деле. Слесарь промышлял частными заказами, за продовольствие ремонтировал в немецких колониях сельскохозяйственные орудия, а Павлушин жил на урезанный военный паек. Но боязнь, что материальное благополучие при муже-пьянице непрочно, заставляла ее ненавидеть слесаря за одно даже ожидание ответственности, которая выпадет на ее долю с крушением этого благосостояния. Раиса Степановна была лишена аппетита на большие дела, а у Павлушина ей выпали почти непосильные: пришлось ухаживать за чужими, одичалыми, забитыми и, под этой коркой, слишком рано сложившимися детьми. Как быстро воспользовались они недостатком в ней твердости, неопытностью и неуверенностью, сделались упрямыми, научились «выматывать душу» непрестанным нытьем. Отказывая себе, больному, тоже нуждавшемуся в усиленном питании мужу, она кормила их хлебом, картошкой, кашами, понимая, что им необходимо не это, а те масло, яйца, молоко, которые возили когда-то колонисты слесарю в баснословных, казалось теперь, количествах. Труд, который она расходовала на детей Павлушина, заставлял ее порой забывать о дочери, и она начинала горько корить себя за слабость своей к ней любви.