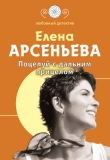Текст книги "Писательница"
Автор книги: Сергей Буданцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
XIV
Следующие два-три дня писательница решила устроить для себя свободными. Надо было разобрать, что куда – что в литературу, что в личную жизнь. Разумеется, ей и в голову не приходило так вот наделять каждый факт наклейкой с адресом: «В литературу», «В личную жизнь». Да и фактов от предшествующих дней память сохранила – раз-два, и обчелся, потому что поток жизни еще как бы несся перед ней, мутный, в обломках, из которого не много выловишь. И все же в ней присутствовали силы, которые справлялись обычно и с потоком, и с недостатком отчетливой памятливости, и с обломками, и с мутью. По постоянной оживленности она узнавала присутствие этих сил. Решить, что отражалось в искусстве, она пока не смогла бы, но для личной жизни кое-что оставалось – старость, неустройство, одиночество. Для самоутешения она называла это состояние наукообразно – реакция. А означало это, что художественной натуре трудно возиться с практическими делами и состав всей организации мстит за небрежное и неправильное употребление своих способностей. Она не раз убеждалась, что простейшее действие, вроде уплаты квартального взноса за телефон, вызывает в ней непомерную усталость, болезненное раздражение, после которых собственная профессия вдруг начинает вызывать стыд: «Совестно за странное занятие, когда люди занимаются делом».
Писательница привыкла к таким реакциям. Ждала ее и сегодня, принимая следы самого обыкновенного непривычного ей мускульного утомления за предвестие мук совести. Поэтому, уже лежа в постели, она не могла обнаружить в себе бодрости; но глубокий сон – она спала, как наплакавшийся с вечера младенец, – не только восстановил прежнюю крепость, но и вернул кое-что из утраченного значительно раньше – может быть, в пассивной борьбе с литературными обидчиками. Шаблон ощущений и привычность эмоций едва не погубили ей день, но добрая планета Земля повернула в свой час окно ее номера к солнцу (а было еще утро), и быстро утолщавшаяся доска света рассекла серенькую жижицу, наполнявшую комнату. Наблюдать узоры теней и света, прыжки пылинок в толще солнечной доски было некогда. Писательница мгновенно оделась и, оттолкнув забаррикадированную дверь, вышла на балкон.
Пустырь, на котором выстроили поселок, все-таки был частью степи. Безграничная равнина за кубами домов принимала новый день, до того пышный, радостный и грозный, словно его трубили в фанфары, били в медные литавры. Казалось, там, где бурьян переходит в ковыли, начинается сейчас сражение, с бунчуками, пращами, булавами, самострелами и – к черту анахронизмы! – с аркебузами, каронадами. Веселая половецкая кровь легко мешалась с кровью драчливых героев Гоголя, Сенкевича. Память подсовывала Изяслава Игоревича на белом коне и его двоюродного брата Игоря Святославича, и зигзицу, и пана Володыевского, и узкие прорези монгольских очей, и шишаки, и перья на шлемах, и крылья гусар. День готов принять на себя всю путаницу, которую, в одышке восторга, старая писательница валила на его сияющее течение.
Писательница все еще никак не могла освоить степь, привыкнуть к этому безграничному пространству, с черноземной почвой и недостатком воды как условиям земледелия. Степь представляла для нее некую отвлеченную, пейзажно-историческую красоту, и она могла всерьез грустить, что только в заповедниках сохранились куски непаханой почвы с высоким серебристым ковылем. Вот и сейчас субстанциональность степи, огромность горизонта, казалась ей непреодолимой: невозможно заселить ее, заставить домами, заводами, фермами, силосными башнями, мазанками, скирдами, всем беспокойным, человеческим, рабочим, практическим. Вот шагает путник под куполом неба, по бескрайней сфере земли, из неизвестности в неизвестность… Как успокоительно помечтать об этом, отождествиться с легким на ходьбу, неутомимым странником, в сущности, только с тенью человека, существом без потребностей, без желаний, без боли, но «живым», то есть двигающимся. Каждому, как Гоголю, хочется обратиться в одни сплошные ноздри, в одни сплошные глаза, ноги, руки, кожу, чтобы всем этим ощущать запахи, видеть цвета, овеваться ветром, наслаждаться теплом и прохладой, сменой мест – и в то же время не думать, не страдать, не ведать старости и мыслей о старости, мыслей о конце этой лишь дитяти кажущейся бескрайней степи…
Однако с пейзажной мифологией пришлось скоро покончить. Воины и аркебузы снова убрались в даль веков, а степь все-таки заставилась конструктивным поселком, за которым гремел город, дымили фабричные трубы, катились поезда. И там, в потном, требовательном мире труда, угнездились дело и чувство писательницы. Она спохватилась, будто запаздывала повесить номерок на табельную доску, и побежала на завод.
Осторожно проникла она через ворота на черную землю завода – опаска имела оправдание в недавнем приключении – и на потеху встречным, если те обращали на нее внимание, брела, цепляясь за стены. Так добралась она до конторки утильцеха. Ее сразу обдало сумраком и шумом цеха, словно за стеной сверлили бормашиной огромный зуб. С этого момента сверлящий гул навсегда связался для нее с сумраком конторы, с немытыми, будто специально предназначенными фильтровать дневной свет стеклами, потому что естественный дневной свет здесь не годился, и с особой натянутостью нервов. Писательница понимала, что наделала невероятных глупостей, вламываясь в семейные дела Павлушина, и пухлый орган самолюбия неопределенно ныл, ожидая каких-то вполне заслуженных неприятностей.
Она поздоровалась с Павлушиным и Досекиным, кивнула в ответ на церемонный поклон калькулятора и села в сторонке на табурет, как бы давая понять, что зашла всего лишь передохнуть. Взяла даже газету, спряталась за нее.
Досекин что-то слишком часто отрывался от своих ведомостей, вынимал часы, поглядывал на дверь, словно вот-вот кто-то войдет и разрешит напряжение. А напряжение чувствовала не только одна писательница.
Лицо этой молча восседавшей посетительницы выражало такую величественную задумчивость и важную горечь, что доходивший в дружеских отношениях до болезненной деликатности Досекин старался обходить ее взглядом, как бы опасаясь, что даже взгляд может обеспокоить сосредоточившуюся в себе гостью цеха. Но когда главный герой и начальник цеха, как всегда непроницаемо, на мгновение воззрился на нее, она вдруг поняла, что Павлушин не меньше ее смущен вчерашним. И это ее сразу успокоило.
Основным в то утро тоном внутреннего состояния Павлушина была телесная радость, оттого что он победил малую болезнь от прививки против брюшного тифа и может не бояться большой. Однако вчерашние происшествия, ворвавшись в его кое-как налаженное после столкновения с дочерью и сыном душевное хозяйство, произвели там новые перестановки. Эти перестановки все время напоминали о себе и этим мешали существенным и в сущности радостным заботам о цеховых делах. Не доведя свою мысль до полной отчетливости, он хаосу и мутному психологизму семейной жизни противопоставлял ясность, твердость, изученность массовой и производственной жизни цеха и завода. Любое недоразумение, любая неполадка в мастерской имели название, предусмотрены учеными, инженерами и в великих книгах марксизма. Вопрос заключался только в том, чтобы правильно применить к данному случаю книги и опыт. Иное дело даже небольшие семейные свары, которые вырастают порой до того, что люди не могут видеть друг друга. Такие мелкие личные случаи ускользают от ячеек великих научных сетей, охватывающих общее и не занимающихся частным, даже не дающих себе труда назвать эти частности. Да и у самого Павлушина никогда не возникало особого интереса к этим частностям, пахнущим юбками и пеленками. Его призвали, и он пошел решать судьбы человеческой жизни на больших полях труда и социального переустройства. Идея о том, что разумное социальное построение общества сразу и начисто устранит все личные, частные неурядицы, относилась к самому основному, самому важному инвентарю непоколебимых истин. Если бы эту истину изъять из сознания Павлушина, он вышел бы из строя живых, обездоленный и нищий. Впрочем, это было бы так же странно, бесчеловечно и ненужно, как вырвать у агитатора язык или выколоть художнику глаза. В этом простом уме порядок и наличность основных идей – и идея о том, что его судьбу, как и судьбу его сына Петра и дочери Анастасии, перестроит и устроит, исправив все изъяны личности, социализм, – равнялись психическому здоровью. Вмешательство писательницы произвело расстройство совсем не в тех, вернее – не совсем в тех пунктах, которые смущали самоё писательницу. Павлушин относил свою биографию и личную судьбу к разряду особенно мелких фактов и, как таковые, считал их своей неотъемлемой собственностью. Это первое. Второе: в бытовую муть, откуда выходят эти факты, науке и общественному разуму стыдно заглядывать. Если бы ему растолковали, что таким аргументом он защищает мелкобуржуазную уединенность своей семьи от пролетарского коллективного содействия, а только одно оно способно развязать его узел, если бы за дело взялась, скажем, цеховая ячейка, он подумал бы и согласился. С радостью победил бы внутренний протест против вмешательства.
Сегодня Павлушин, до конца одолев болезнь прививки, пришел работать. Работа всегда укрепляла его в реальности того дела, общего дела, за которое он был готов отдать свою кровь.
«Раз я, Павлушин, заворачиваю цехом, а не ругаюсь с паровозным кочегаром, который лениво шурует уголек, стало быть – живем! Стало быть – мы строим!»
За право сказать себе эту бесспорную истину он убил бы любого врага, как убивал беляков на фронте. При таком отношении обыкновенное выполнение обязанностей превращается во всецелое отдавание всех своих умственных сил и способностей и тем самым оборачивается в нечто равнозначное творческому процессу.
На писательницу Павлушин взглянул с недоумением и легкой морщинкой сомнения. Находит же, в самом деле, толк эта умная, образованная женщина (как быстро она пишет, любо посмотреть!) в том, чтобы бегать то к Петьке, то к Настьке, то к нему и говорить обо всей этой бузе, ерунде, вздоре так, как мало кто разговаривает и о судьбах мировой революции. И, самое главное, она открывает смысл и глубину там, где он со стыдом видел только унизительную бессмыслицу.
Вот этот застенчиво-недоуменный взгляд и перехватила писательница.
Павлушин вдруг почувствовал, что не может заниматься разработкой доклада дирекции о развертывании цеха. Дело должно дать ему более реальные проявления своей живости, требовательности, сложности. Главное – не сидеть наедине с бумагой и не следить, как в голову пробивается нечто жгучее, но постороннее работе.
Павлушин бросил взгляд на свое запястье с дарственными часами Реввоенсовета армии и встал.
– Пойду в штамповальную. Досекин, если кто будет спрашивать, через двадцать минут вернусь.
И обратился к писательнице:
– Хотите посмотреть штамповальное отделение? Там новые станки.
– Спасибо, мне здесь нужны кое-какие цифры.
– Тогда к товарищу Досекину…
Он вышел, хлопнув дверью, – точность движений покинула его. Впрочем, это заметила только писательница.
Досекин поманил писательницу к себе. Борода его шевелилась, как от сильного ветра, глаза наполнялись влажным блеском и лукавством, все большое лицо изображало желание рассказать нечто весьма занимательное, нечто, несмотря на смешную оболочку, в которую оно заключено, серьезное, несмотря на ветер в бороде, значительное, к тому же секретное, хотя о нем и предупреждает весьма явная игра. Писательница подсела к нему, и он тотчас закипел гулким клохтаньем, которое считал шепотом, но которое заглушало вой цеха:
– Спектакль нынче у нас. Вы не уходите. Я ведь знаю, как вы к Насте в казарму ходили, агенты у меня… – Он захохотал, но тут же оборвал себя и поглядел на все окружающее свирепыми глазами. – Как член семьи… Вчера ночью дочка к Павлушину вернулась, та, у которой вы побывали. Поздно, в первом часу. Вкатилась – и прямо в ноги. Разливается в три ручья: «Прими, папаша, больше не буду».
– Дело было не совсем так. В ноги не падала и почти не плакала.
– Значит, сами видели? – довольно безучастно спросил Досекин. Любитель круглых описаний, он не хотел уступать никакому очевидцу. – Полгода девчонка дома не жила. Холод надвигается, осень, ночью не очень-то босиком побежишь, а она босиком явилась. Тапочки на работу бережет, туда босой тоже неудобно… Отец, конечно, не каменный, Раиса Степановна тоже в слезы… Под родной кровлей нынче Настюшка ночевала. Все это мне сам Павлушин рассказал. А я про свое молчу… Вчера, видите ли, забежал ко мне мастер Головня, – знаете, маленький такой? А с ним еще один парнишка, из деревообделочной мастерской. Говорят – можно было все-таки Петьку Павлушина в оборот взять, на дело направить… Вот и жду сейчас ребят.
Он вдруг резко откинулся от стола и замолчал, – вернулся начальник цеха. За ним следовали двое рабочих. Один – высокий, широкоплечий парень с маленькими, странно широко, почти над скулами посаженными глазками, насмешливо посматривающими из-под большого козырька кепки. Когда он улыбался, в лице его проявлялась особенно неприятная черта: открывалась узкая полоска мелких, точно спиленных зубов и широкая кайма розовой десны. Другой рабочий был очень молод и очень белокур. Держался он за спиной первого, как-то сбоку, будто уступал ему место не только по молодости, но и от смущения, хотя вообще подобные невысокие, худощавые, белокурые и голубоглазые, на первый взгляд незаметные, люди в работе сильны и выносливы, а в поступках редко действуют без расчета, что-нибудь начав, добиваются своего.
Вид у широкоплечего парня был решительный и возбужденный, он словно еще за дверью усиленно настраивал себя на спор.
Писательница струхнула за Павлушина. Ей припомнились различные случаи насилия, которому подвергались строгие и справедливые администраторы. А этот, со спиленными зубами, может и голову камнем проломить.
Однако Павлушин спокойно сел на свое место и сразу взял какую-то бумагу с таким видом, что всякие посетители отнимают у него дорогое время. Он давал, таким образом, вошедшим возможность одуматься. Но парня со спиленными зубами трудно было взять подобной пантомимой.
– Нет, ты мне отпуск вынь да положь, товарищ Павлушин! Мне полагается.
– Я же сказал: отработаешь, тогда пойдешь.
– Какой я специалист… Я переквалификант, – тянул свое парень, все шире показывая в кривой улыбке розовые десны.
Белокурый молчал, только пытливо переводил взгляд с затылка высокого на лоб Павлушина.
– Сделает ваша бригада три тысячи задвижек, вот тогда пущу. У вас прорыв. Вы мне весь цех обгадили. Да что там цех – весь завод! Строим комбайны, строим электроплуги, выполняем программу по сложным машинам, а с задвижками справиться не можем!
Эти задвижки были, видимо, больным местом цеха, и Павлушин мог к ним возвращаться не раз и не два.
Выдвинув на середину конторы короткую лавку, высокий парень уселся на нее, приготовившись с терпеливым упорством выслушать все, но поставить на своем.
Павлушин горячился, но сдерживал себя. Должно быть, как всегда, он находил в борьбе с собой и в широких обобщениях убежище от напряжения и тревоги, вызываемых в нем столкновением с личным, хаотическим и, несмотря на мелкость, непреклонным. Этот парень имел какую-то родственную связь с его воспоминаниями, он, как и эти воспоминания, явился непрошеным.
– Уйти сейчас, товарищи, значит дезорганизовать, драпануть с поля сражения!
Хаос отступал, Павлушин снова находил себя, свое равновесие и волю.
– Тут вам не деревня: как вздумал, так и пошел с поля в клуню. Да и деревня нынче не такая. Задвижка сейчас – фронтовое задание. Каждой задвижкой мы убеждаем колеблющегося, укрепляем союзника.
Белокурый отступил в тень, к выходной двери, давая понять, что снимает с очереди свою просьбу и не выкладывает этого во всеуслышание лишь потому, что вполне согласен: вылез сейчас с отпуском зря.
Но Павлушину нужно было подтверждение, что его слова побеждают чужой хаос, и он спросил у белокурого:
– Что, товарищ Полетаев, отказываешься от своего заявления?
– Вижу, своего надо добиваться по-иному, – отозвался голос у двери.
Дверь скрипнула, открыв свой прямоугольник. Красная кирпичная стена, столб, груда лома и над всем этим видимое, как воздух ощутимое небо. Парень, очевидно, подержал дверь, а потом плотно ее затворил.
Высокий даже не оглянулся. Заметно заскучав, он промямлил еще настойчивее:
– А ты все же пусти меня в отпуск, товарищ Павлушин. Я от своего не отступлюсь.
Павлушин побагровел, стукнул по столу обоими кулаками.
– Ты кто? Военный? – крикнул он. – В Красной Армии служил? На недавнем сборе был? Отвечай, Бубликов: зачем был на сборе?
Бубликов разом вскочил с лавки. Но, тут же оправившись от окрика, плечи развернул уже помедленней и стоял вразвалку. Павлушин коротко взглянул на него, и он вытянулся, сдвинул ноги пятки вместе.
– Был, как полагается… Чтобы во всякий момент оборонять от врагов пролетарскую республику, СССР то есть.
Писательница с любопытством созерцала происходящее. По-прежнему сжимая кулаки, Павлушин вопрошал:
– Значит, тебе втолковали, что надо делать на фронте? А завод сейчас тот же фронт. Забыл?
Парень, видимо, оробел. Надвинул кепку на глаза.
– Разговор кончен, – холодно прибавил Павлушин. Слишком сильные средства пришлось, по его мнению, применять к Бубликову, настоящий рабочий должен с полуслова понимать такие вещи. – Ступай на работу. Через декаду получишь отпуск. А сейчас гоните вовсю задание. Мое слово твердо: сказал – «через декаду», так и будет.
Парень сделал поворот кругом и, крепко ступая на пятки, вышел. Досекин расправил бороду, сказал что-то о командирах, которые ходили на Сиваш, и при этом так победоносно глянул на писательницу, словно она и была разрушенным неприятельским укреплением.
– Сиваш Сивашем, – сухо заметил Павлушин, – а Полетаев мне крепко не нравится. На бузу эту с отпусками он подбивает ребят из штамповального отделения… Бубликов у него на поводу.
– Полетаев – сын раскулаченного. Последний год, правда, был мало связан…
– Там разберутся, как он был связан, много или мало.
Оба углубились в бумаги. Для них и бумаги были самой действительностью, тем же, что и разговор с Бубликовым и Полетаевым. А вот книга может быть и более значительной, чем отдельные явления действительности, но она никогда не будет самой этой действительностью, – если исключить отношение самого автора. И писательница вдруг почувствовала себя осиротелой, будто ее отставили в сторонку ради более серьезных и насущных занятий. Это ее рассердило и придало смелости. Она придвинула табурет к столу начальника цеха и попросила разрешения оторвать его от работы, чтобы задать вопрос.
– Пожалуйста. Что такое?
Она наклонилась к самому его уху:
– Я понимаю: если затеять против него дело, его происхождение явится для него отягощающим моментом… Однако я не вижу связи между отпуском и происхождением.
Павлушин окинул ее быстрым и очень зорким взглядом, как бы ища в ее внешности какое-то дополнение к ее полушепоту. И ответил громко, во всеуслышание:
– У нас тяжело с производством. Рабочие всё молодые, непроверенные, без дисциплины. А текущий момент нашего строительства требует, чтобы мы крепко взялись за дисциплину. И мы за нее возьмемся.
– Все это понятно. Не знаю, большой ли интерес имеет мой вопрос, но я все-таки повторю его. Тут для меня не практическое, а, честно говоря, вопрос морали… Ведь производство не бог, которому надо приносить жертвы.
– Эк загнули! Прямо как из древней истории!
– Вы не смейтесь, я серьезно.
– А мне и не до смеха, – ответил Павлушин. – Какой может быть смех, если приходится отвечать на философские вопросы, а я простой начальник цеха. Для вас – это вопрос нашего права, «морали», как вы выразились, вы это дело поставили, так сказать, над жизнью. Мы же должны подходить практически. А правилен ли такой наш подход, я вам покажу. Думаю – правилен. Почему Бубликову и Полетаеву отпуска удобны именно сейчас? А не через месяц?.. Бубликов не крестьянин. Отец его сапожник, живут они в городе, даже огорода не имеют. Полетаев и вовсе обитает в нашем заводском доме, в деревню никогда не ездит, кричит, что порвал с ней, так как у него там отец кулак. Следовательно, на полевые работы идти ни тому ни другому не нужно. Да по нашим местам и поздновато. И в таком случае их требование – блажь. Они же на своей блажи настаивают, хотя видят, что производству их требование прямо гроб. Хотя знают, что отпусти я их двоих – запросятся и другие. А этим другим, как мне известно, еще и много нужней. Например, рабочим, у которых семьи в деревне, женщины с молотьбой запоздали и так далее…
– Все это неоспоримо с фактической стороны.
– А стало быть, и с политической. Тут вот и есть наша сердцевина. Политика-то чья? Рабочего класса. Производство какое? Социалистическое. Каждый наш успех – маленькая победа на фронте освобождения всех трудящихся. И кто же позволит мешать этакому делу!
– Тем не менее вы отвечаете, как мне кажется, себе, а не мне, товарищ Павлушин.
– Я отвечаю так, как ответил бы на рабочем собрании. Там такую речь легко понимают.
– А я, если искренне признаться, – с трудом. Суть ведь не в том, чтобы понять формально. Я говорю о существе понимания. В понимании всегда заключено сочувствие.
Досекин, обожавший умственные беседы, внимательно слушал, зарывшись бородой в широколиственные планы. Он поглядел на писательницу своими младенчески ясными глазами и заявил:
– Хорошо сказано, именно сочувствие!
– Я понял, в чем плохо разбираются интеллигенты, – сказал Павлушин. – В простом счете, в арифметике. У какого-то вашего писателя рассказывается: если, чтобы спасти людей, прольется хоть одна детская слеза, делать этого нельзя.
– Да, у Достоевского. Не совсем так, но, впрочем, очень похоже.
– Похоже, похоже. Даже именно так. И вот такие сердобольные положат на войне миллионы солдат, а ради того чтобы не было войн, принести в жертву одного зловредного, самого кровавого старика пожалеют. Особливо если он полный генерал. Пусть дохнут с голода миллионы детей, лишь бы у нашего дитяти не навернулась слезинка… У рабочего счет куда проще. Он у нас земной, а не небесный. Удовлетворю я Бубликова с Полетаевым, а миллионы людей, ждущих освобождения от того, насколько хорошо будет работать советская промышленность, потому что она ведь не на себя работает, а на освобождение трудящихся всего мира, – эти люди потерпят от моей мягкотелости ущерб. Неужели это так трудно понять? Почему?
Если недоумевающий взгляд, которым смотрел на писательницу Досекин, как бы выражал ужас: неужели эта образованная пожилая женщина не знает даже такой житейской основы, как таблица умножения? – то в недоумении Павлушина сверкнул жесткий огонек подозрения. Он ждал ответа, равнозначного по глубине тем вопросам, которые возбудила писательница, – и не ради же подвоха!
Писательница увидела, что теряет у него с таким трудом завоеванное доверие, а оно для нее бесценно. Ей дорог не сам Павлушин, а его убеждения, она лишь проясняла их и углубляла для себя. Если бы ее в этот момент спросили, а так ли уж целенаправлен ее вопрос, не содержит ли он некоторой доли сочувствия неудачным просителям, она с искренней яростью отвергла бы такое предположение. «В самом деле, – ответила бы она, – разве можно сравнивать какие-то шкурные поползновения Бубликова и Полетаева с бесстрашной выдержкой и неподкупной суровостью людей из ряда Павлушиных!» Больше того, ведь суровы не только они, сурово и время. Проповедовать здесь, в дни прорыва, сердобольную отзывчивость… Нет, правы будут заводские руководящие организации, если попросят ее отсюда убраться!.. И трезвый голос саморазоблачения подсказал ей ответ. Она постаралась сформулировать его в точных, не поддающихся ни кривотолкованию, ни излишним углублениям фразах.
– Почему?.. Я это знаю. Потому, что я никогда не была в числе угнетенных. Потому, что мне подслащивали мой гнет подачками. Потому, что меня не ссылали на каторгу. Потому, что моих близких не убивали в тюрьме. Потому, что я, плохо или хорошо, прижилась к тем старым классам. И как же, товарищи, завидую я вашей цельности!
– Отлично говорите, – одобрил Досекин.
Павлушин промолчал. Он, вероятно, считал, что им всем стоит обдумать разговор.
В это время прекратился вой моторов за стеной, наступил обеденный перерыв.
Тишина ударила писательницу по слуху. Это показало ей, что нервы у нее достаточно перенапряжены.
Однако что-то забеспокоился и Досекин. Встал, подошел к окну, поглядел в тусклый просвет кучи шлака, на стену склада и уселся снова, хотя должен был идти обедать. Калькулятор вытащил какую-то непроницаемую, завернутую в бумагу снедь и, отвернувшись от всех, начал совершенно секретно есть. Павлушин поднял трубку телефона, вызвал заводоуправление. Впрочем, того, кого он спрашивал, не оказалось. Писательница любовалась блеском его чистоплотной кожи, литыми волосами, внимательными, как бы прицеливающимися глазами и краткими, точными, как военная речь, движениями.
Писательница спросила – почему все сидят и не уходят, не предполагается ли срочное совещание? Досекин сердито сверкнул на нее своими кроткими глазами.
И вдруг дверь цеховой конторы шумно открылась. Вошло сразу много людей, быстро, как команда в игре, вставших полукругом по стенам. А из дверей кто-то вытолкнул на середину комнаты, как на сцену, Петю Павлушина. Он вспотел и был бледен.
– Что это такое? – крикнула писательница, но ее, казалось, никто не слышал.
По стенам с ожиданием на лицах стояли Сердюк, сменный мастер Головня, очкастый слабогрудый комсомолец Файнштейн, которого писательница встретила около Нахаловки, когда возвращалась от Петра, несколько молодых рабочих и еще один старый, в фартуке кузнеца, с могучими, в надутых венах руками. Чуть позади Пети стоял беловолосый молодой парень в широких холстинковых брюках и свежей кремовой рубашке. У него было курносое лицо, одновременно детское и жестокое. Он, видимо, сознавал, что должен соблюдать скромность в торжественную минуту, – его появление здесь было не менее неожиданно, чем появление Пети. Пережив первую минуту удивления, он на цыпочках прошел к столу и сел рядом с Павлушиным, как в президиуме. Рядом с Петей встал вместо него Файнштейн.
Покуда происходили все эти безмолвные перемещения, Павлушин смотрел на все с незнакомо для писательницы исказившимся лицом. Его твердые, неподкупные глаза обегали фигуру сына.
Сколько раз бывал он в переплетах, в мучительно сложных, казалось – безвыходных положениях и сколько раз спасали его такие пустяки, как умение держать в улыбке лицевые мускулы, в подтянутом спокойствии все тело. Телесная, если можно так выразиться, приветливость не только облекала его внутреннее самообладание, не только питала инстинктивную беззаботность, которая одна и находит выход в безвыходном положении, но и вокруг разливала ту же лукавую самоуверенность: «Все благополучно». Благодаря ей однажды в разведке они впятером взяли заставу белых из семи человек без единого выстрела или ушли целой ротой из деревни, окруженной дроздовской дивизией. А сколько раз, бывало, укрощал он начинавшие волноваться части или крестьян во время хлебозаготовок, да и на производстве всякое случалось. И всегда требовалось укладывать себя в облик веселой, дорого для нервов стоящей непоколебимости. Но и в боевой обстановке, и на работе в деревне, и в цеху все его существо было приготовлено к случайностям определенного качества. И подобно тому, как прекрасный революционер и бесстрашный конспиратор Камо, не терявшийся ни в каких затруднениях, погиб, просто упав с велосипеда под колеса трамвая (а даже самое случайное падение тоже ведь обусловлено степенью бдительности едущего, его зоркостью и находчивостью в критический момент), – так и Павлушин растерялся перед сыном.
Не этот ли его сын был когда-то плаксивым и болезненно обидчивым мальчуганом, который так медленно поправлялся после страшной смерти матери и старшего брата, после голодовки. И вот он стоит сейчас, как на лобном месте, посреди комнаты в шутовском наряде, с толстыми ногами в ластиковых штанах и в лазоревом пиджаке, который он лишь недавно сшил на свой заработок и теперь изорвал и загваздал. Черты уже сложившегося человека проступают сквозь еще детскую округлость лица, он коренаст, здоровяк. И стоит ему, как только что, смущенно улыбнуться – он становится юношески миловиден. Но откуда у него эта нахальная развязность, с какой стоит он, подбоченясь, глядя поверх всех? Не сознает ли он, что в дорогой для отца распорядок служебного дня ворвался осколком хаоса?
И отец растерялся. Даже губы распустились в почти плаксивой гримасе, пальцы забегали по столу, глаза воровато старались миновать предмет, на который им хотелось уставиться.
– Вот я и явился, нигде не запылился! А ты, папаша, не робей, – произнес Петр в тишине, которая, если можно градуировать отсутствие звуков, была в предпоследнем градусе.
Дружный хохот разорвал чрезмерное напряжение неловкости и необычности. Первым захохотал не то Павлушин – широко и отчетливо, будто в хохоте овладевая собой, не то Досекин – тонко и раскатисто. Их голоса мгновенно подхватили другие. Засмеялась и сама писательница, прежде чем даже поняла здоровую основу этого веселья, прервавшего горечь странных минут.
– Не робей! – крикнул кто-то у стены.
Хохочущие двинулись на середину комнаты и теснили Петра к столу отца.
– Папаша, не робей!
Выкрикивая эти слова, люди вкладывали в них самый разнообразный смысл, и, едва затихнув, смех приобретал прежний размах. Окружающие как бы старались дать время для главных действующих лиц собраться с силами и одновременно смягчали смехом и необычность зрелища, и свое бесцеремонное любопытство, заставлявшее их досмотреть это зрелище.
Но постепенно смех сделался качественно иным. Слова «не робей» начали приобретать для многих особенное значение, и разгадка их заключалась в том, что сын, в своей развязности, не признает авторитета отца, тогда как этот его авторитет, как товарища и начальника, безусловно признают все.
Павлушин первый почувствовал, что постепенно разорвалась связь с первоначальным благотворным взрывом и дело уже касается таких устоев, которые он воздвигал всем трудом своей жизни. Довольно и того, что его семейные дела стали достоянием всего завода. Павлушин теперь уже вполне овладел собой и наблюдал обстановку.
Сам виновник смеха, Петр, смеялся меньше других. Он стоял, переступая с ноги на ногу, гордый от сознания себя средоточием минуты. Он наслаждался, как артист после удачного выступления.