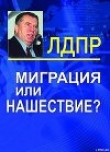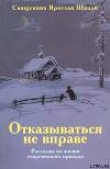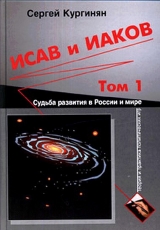
Текст книги "Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 1"
Автор книги: Сергей Кургинян
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 47 страниц)
Далее, если вы «родом из совка», вам перекрыты все пути, связующие вас с органикой собственного развития. Все эти пути – не «русское чудо» (как называл это весь мир), а «пакостный ГУЛАГ». Вы не можете обратиться ни к опыту бериевского атомного проекта, ни к королёвскому взлету в Космос, ни к свершениям индустриализации, ни к опыту мегапроектов вроде «администрации Севморпути». Рузвельт учился на этом нашем опыте. А потом другие учились у Рузвельта. Но вам этот путь заказан.
И, наконец, есть же чувство моральной правды. Если вы так относитесь к своему прошлому (а оно ведь материализовано еще и в ваших семьях), то и впрямь не надо говорить об амбициях. Откуда они возьмутся? Помните Лаевского в «Дуэли» Чехова? Он, когда опомнился и понял, кто он такой, стал скромненький-скромненький, тише воды, ниже травы. И это правильно.
Решили, что у вас нет исторического капитала и вытекающих из него прав? Станьте скромняшками, не говорите об амбициях. А иначе будет ОЧЕНЬ СМЕШНО. А это страшно, когда так смешно. Как говорил Достоевский, некрасивость убьет.
Итак, первое, что надо сделать, если и впрямь переделывать «зайчиков» в «ежиков», это встать с колен. Вроде бы только к этому и призывают нас представители той же «Единой России», Кремля… Вроде бы говорится даже о том, что мы уже встали с колеи. Говорится-то говорится, но не разъясняется, что имеется в виду. Ну, так я разъясню.
Встать с колен, господа антисоветчики (как крайние, так и умеренные), можно только избыв – отменив, преодолев, отвергнув – комплекс исторической вины за свое советское прошлое. Комплекс исторической вины за коммунизм.
Встать с колен – это значит сказать о величии СССР, величин красной идеи, величии народа, поднявшего это знамя и спасшего мир от фашизма. И не только о величии как о чем-то, касающемся прошлого. Нет, встать с колен – это значит сказать, что тот исторический опыт имеет всечеловеческое значение и принадлежит будущему. Вот тогда вы встанете с колен, и ни в каком другом случае. И сможете заниматься разными там частными капитализациями своих «газпромов» и прочего после того, как осуществили капитализацию главную – историческую. А без этого и разговаривать в стратегическом плане не о чем. Можно лишь следить за тем, как мечется отказывающийся признать эту необходимость интеллектуальный истеблишмент в своих попытках совместить несовместимое – антисоветизм и амбициозность.
Антисоветизм может заявляться напрямую или подразумеваться. Или иметь уклончивый характер: «Я, де, мол, приличный человек и о советском просто говорить не буду, понимая последствия… А об амбициях, пожалуй, скажу».
Уклончивый коллега начинает говорить об амбициях и… И ясно, что ему сказать нечего. По многим причинам, в том числе и в связке отсутствием этих самых амбиций, стерилизованных в процессе десоветизации (а как иначе-то, господа?).
Я не могу сказать, что непрерывно посещаю разного рода интеллектуальные форумы и круглые столы. Но тем не менее я посещаю их достаточно регулярно. И делаю в блокноте заметки. Какое-то время я не структурировал эти заметки. А потом обнаружил в них некое универсальное начало. И стал внимательнее его изучать.
90 процентов высказываний самых разных людей (вновь подчеркиваю, что речь идет о разных научных аудиториях) строится по общему принципу: «Тра-та-та-та-та… Но, как мы все понимаем…»
«Тра-та-та-та-та» могут быть разными. Ну, например (я не шучу), «тра-та-та-та-та» № 115 в моем блокноте: «У нас в отрасли сейчас средний возраст квалифицированных рабочих – 52 года, а в СССР был 32». Дальше «тра-та-та» заканчивается. И начинается вторая часть заклятия: «…Но, как все мы понимаем, нельзя возвращаться назад».
«Тра-та-та-та-та» № 118: «У нас средний возраст макроэкономиста – 62 года. Мы теряем школу, которая была». А дальше – то же самое: «…Но, как все мы понимаем…»
И так до бесконечности: мол, было несравненно лучше, чем сейчас, но, как все мы понимаем, возвращаться в прошлое нельзя, потому что оно было чудовищным.
А почему это в него нельзя возвращаться, если было несравненно лучше? Ну, хорошо, все умные, а я идиот. И я не понимаю, почему если было лучше, то нельзя вернуться. Но главное даже не это. ГЛАВНОЕ – КАК ЖЕ ПЛОХО СЕЙЧАС, ЕСЛИ ДАЖЕ ТОГДА БЫЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ? А ЕСЛИ ТОГДА БЫЛО ТАК УЖАСНО, ЧТО ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, ТО СЕЙЧАС-ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Условие № 2 состоит в том, что «зайчик» должен признать, в какой именно ж… он находится в настоящий момент. Он должен перестать называть это «ж…» возрождением и процветанием. Пусть он скажет себе: «Ну, как вляпались! Ну, как залетели!» И заскрипит зубами. Пусть он переживет это по-мужски. Может быть, и колючки на нем появятся. Если он молодой «зайчик», то как он может отвечать за то, что сделано до него? А даже если он немолодой, уяснение трагизма ситуации, переживание ее как фундаментального унижения, могут изменить личность. А вот убаюкивающее словоблудие – никогда.
Условие № 3 состоит в том, что «зайчик» должен не просто констатировать качество ситуации, в которой находится он сам вместе со страной. Он должен еще и системно описать это качество. Сколько ни говори «ж…» – ничего не изменится. Ну, скрипнешь раз-второй зубами. Ну, поломаешь даже пару зубов. И дальше будешь жить в том, что есть…
Значит, для того, чтобы что-то менять, надо сначала дать правильное название этой самой ситуации на букву «ж», в которой мы все оказались.
Она называется «системный регресс». Россия находится в состоянии системного регресса. Она продолжает деградировать. Можно и должно мечтать о пяти или десяти «и» (инновациях, информатизации и так далее). Но пока что есть четыре «д» (декультурация, деиндустриализация, десоциализация, дегенерация). Вместе эти четыре «д» и есть системный регресс. Признай, что ты в нем находишься. Ощути его признаки. Ослепни, читая, как этот системный регресс вызывают и как прекращают. И тогда, может быть, ты станешь «ежиком». А иначе ты им точно не станешь.
Условие № 4 – правильное соотношение между диагнозом и рецептами лечения. Если диагноз таков, то и средства должны быть соответствующими.
Изрядная часть нашей патриотической научно-технической элиты просто рехнулась на концепции устойчивого развития. Сначала казалось, что это только изолированный интеллектуальный эксцесс, порожденный спецификой КПРФ и ее руководства. Но постепенно данное умопомешательство стало распространяться по все более широким научным кругам. Разумеется, не без помощи Запада.
Я и мои коллеги устали объяснять очевидное. Что устойчивого развития вообще не бывает. Что либо устойчивость, либо развитие. Что термин этот придуман А. Гором с очень определенными целями. Что одна из целей – сокращение населения (за конференцией в Рио-де-Жанейро, где заговорили об устойчивом развитии, последовал Каир, где говорили уже только о демокоррекции). А другая и главная цель – остановка развития. Или, как минимум, навязывание странам, пытающимся ускоренно развиваться, безумно дорогих «экологических» технологий с тем, чтобы развитие было сдержано.
А раз нельзя говорить об устойчивом развитии как прорывном… Раз надо связывать его с демокоррекцией… То это – смерть России. Ну, так и создавайте устойчивое «министерство смерти», «ликвидком»! Объявите, что вам наплевать на чудовищную демографическую депрессию в России, несовместимую с целостностью страны. Сожгите в печи ваши нацпроекты. Или не смешите людей. Устойчивое развитие – это очень точная и зловещая вещь, одно из слагаемых глобализации.
Но и это не самое главное. Ну, ладно… Есть какая-нибудь маленькая благополучная страна. У нее высочайший уровень жизни, нет острых социальных проблем, нет геополитических амбиций. И она хочет, чтобы воздух был посвежее. С наукой все в порядке. Ученых много – занять нечем. С бюджетом – денег куры не клюют. Ускоренно развиваться не надо. Проблем, вроде приближения НАТО к границам, не существует. Есть одна проблема – экология. Начинаются поиски сколь угодно дорогих средств очистки. «Экопаиньки» освобождаются от налогов. «Экозлодеи» жестко караются. И постепенно и впрямь все вокруг становится менее загажено индустриальными «выхлопами».
Можно такую страну понять? Можно. Потому что у нее всё действительно «в шоколаде» и она балуется.
НО У НАС-ТО СИСТЕМНЫЙ РЕГРЕСС! НАМ ЕГО НАДО ПЕРЕЛАМЫВАТЬ! ПУТИН ЕГО КОЕ-КАК СДЕРЖАЛ! ТЕПЕРЬ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ К ЧЕМУ-ТО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ. ВЫ ЧТО, НЕ ЗНАЕТЕ, КАКИМ РАЗВИТИЕМ ПЕРЕЛАМЫВАЕТСЯ РЕГРЕСС? ОН ПЕРЕЛАМЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО MOБИЛИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ. ТОЛЬКО МОБИЛИЗАЦИОННЫМ!
Ну, так и ищите возможности и варианты мобилизации. Если спор о том, может ли развитие в принципе быть устойчивым, это все же теория, то спора о том, совместимо ли устойчивое развитие с мобилизацией, просто быть не может. Устойчивое развитие – это вне– и антимобилизационное развитие. Если вы его начнете применять на территории регресса, то у вас и будет регресс, и ничего кроме него.
Видите, как много следствий вытекает из того, что вы честно назвали качество вашего настоящего и стали бороться не за будущее вообще, а за переход в будущее (точку Б) из этой самой точки А, в которой вы находитесь, а не неизвестно откуда?
Условие № 5 – мотивация самих «зайчиков» и средства трансформации.
Форум «Стратегия 2020» был рекомендован «зайчикам» для того, чтобы они могли стать «ежиками». Но для того, чтобы форум мог выполнить такую эксцентрическую задачу, он должен быть по-настоящему нужен тем, кому он всего лишь рекомендован. Это главное правило трансформационной психологии (об «инициациях» как-то даже и говорить неудобно).
Правило это формулируется так: средство трансформационного воздействия эффективно только в том случае, если воспринимающий его субъект (а) страстно хочет трансформации как таковой и (б) столь же страстно верит именно в это средство воздействия. Словом, «жаждешь ли ты», и так далее.
А как сделать, чтобы «зайчик» возжаждал? Какой-то замкнутый круг получается. Но и по части разрывания подобных замкнутых кругов человечество какой-то опыт накопило.
Осуществляется ли когда-нибудь реальное превращение «зайчиков» в «ежиков»? Осуществляется! В том-то и дело, что осуществляется. В разные века по-разному. Не буду разбирать технологии, применявшиеся в древности в различных монастырях. Например, буддистских, но и не только. Сфокусируюсь на другом – на том, что к середине XX века эти трансформационные процедуры, выполнявшиеся по отношению к очень специфическому и малочисленному контингенту, стали видоизменяться, насыщаться разного рода научными тонкостями. В итоге возникла сумма дисциплин, в которых оказались разработаны достаточно эффективные «трансформационные средства». Тут вам и когнитивный шок, и психологический марафон, и в конце концов те же игры (хоть по Хаббарду, хоть по Щедровицкому). А также многое другое – гораздо более закрытое и серьезное.
Поэтому если действительно хотеть переделывать «зайчиков» в «ежиков», то этих «зайчиков» надо очень плотно, я бы сказал, беспощадно плотно состыковывать с теми, у кого в руках находятся эти самые «трансформационные средства». Как именно они будут использованы? Тут все зависит от тех, кто трансформирует. А как иначе? Специалисты знают, что применяются самые разные совокупности средств, И что процесс носит иногда очень грубый характер. Что о психологической корректности тут говорить не приходится. В любом случае – если кто-то хочет действительно переделывать «зайчиков» в «ежиков», то этот «кто-то» соорудит для «зайчиков» какой-нибудь жесткий трансформационный сверхмарафон… Не исключено, что тогда с кем-то из «зайчиков» что-нибудь и произойдет.
Но если «зайчикам» просто прочесть доклад… Если им сказать, что перед тем, как они станут голосовать за Путина как лидера партии, к ним придут «умы», сядут и осуществят некий интеллектуальный «междусобойчик» при необязательном и невнятном присутствии «зайчиков», то качество воздействия заведомо будет нулевым или отрицательным.
Произойдет ли что-нибудь в первом случае – тоже неясно. Но то, что во втором не выйдет ничего, это ясно любому, кто занимался трансформационными технологиями.
В каком-то смысле это ясно даже самим «зайчикам».
Словом, школа в Лонжюмо или на Капри – это школа. Кстати, для вполне уже «обыголенных ежиков», а не для «зайчиков», которым еще предстоит обрастать иголками. Подчеркну еще раз – занятие в принципе ПОЧТИ невозможное. И рассматриваемое мною лишь по причине отсутствия или сверхкатастрофичности альтернатив этому занятию. А также по причине того, что оно все-таки не невозможное, а ПОЧТИ невозможнее. Однако, повторяю, любая формализация этого занятия отменяет данное «ПОЧТИ» немедленно.
Если что-то и может вырастить у кого-то какие-то иголки, так это что-то называется «институт трансформации». Как минимум, речь должна идти о сверхнапряженной партийной школе с отрывом от привычной среды. О мозговом штурме. О нелинейных воздействиях на аудиторию с использованием всех передовых методов своего времени. Ленин тогда использовал все, что могло предоставить ему в распоряжение его время. Более того, он (а это отнюдь не дело политика!) в каком-то смысле свое время опередил в том, что касается и самих воздействий, и их институционализации, и всего, что такими воздействиями и их институционализацией обеспечивается (это в просторечии называется «решенная кадровая задача»).
Прошло более ста лет. За это время были найдены гораздо более эффективные технологии воздействия. Так же, как и методы их институционализации. Но все это не имеет ничего общего с солидным круглым столом, в результате проведения которого появятся, наверное, какие-нибудь аж стенограммы. И отдельные «зайчики» их, может быть, и прочтут.
Мне скажут, что и это лучше, чем ничего. Что ж, соглашусь.
Меньше всего я хочу что-нибудь уценивать в нынешней (пусть для меня и абсолютной трагической) ситуации. Я вообще никогда не уцениваю никаких попыток что-то улучшить. И ненавижу, когда по таким поводам фыркают. Сам всегда говорю, что «путь осилит идущий». Но важно понять, что это за путь. И тут главное – сделать первый шаг, увидеть, где ты оказался, и оценить результаты.
Ну, так я и пытаюсь помочь оценить эти самые результаты. А заодно и пробиться к пониманию чего-то еще более существенного.
Глава V. «Ежики» и «зайчики» с точки зрения политсубъектностиНужны ли амбиции «Единой России», я не знаю. Хочу, чтобы они оказались ей нужны. Но уж как получится. А вот то, что России эти амбиции нужны, я знаю точно. Знаю, что ничего без них не будет. Что они есть альфа и омега любого небезнадежного начинания, направленного на то, чтобы спасти страну, которую затягивает трясина безвременья, бессубъектности, безжертвенности. Сколько там еще «без»?
Если мегапроектом является контррегрессивное мобилизационное развитие, то мегапроекту нужен мегасубъект. А мегасубъекту – язык, логос. Языком же этим является язык стратегирования (есть и более сложные языки, но будем говорить хотя бы об этом).
Стратегирование и академическая наука – вещи разные. А в чем-то и диаметрально противоположные. О различиях можно говорить долго. Разбирая некий конкретный пример, я, как мне кажется, показал на практике, в чем состоит одно из этих отличий. Стратегирование в качестве обязательного фундамента и исходной точки предполагает проблематизацию. Проблема – это знание о незнании.
Академическая наука (да и наука вообще) имеет право абстрагироваться от незнания и говорить только о знании. Такое отделение знания от незнания (или от недостоверного, не подтвержденного опытом знания) иногда называют позитивизмом.
Стратегирование не может быть позитивистским. Где позитивизм, там нет стратегирования, и наоборот. Спросите ученого: «В чем амбиции суверенной России?» – и он с ходу начнет говорить вам о том, что он знает. О типах подобных амбиций, об их реализуемости, об издержках и приобретениях, связанных с той или иной амбициозностью.
Но, как только вы решите погрузиться в интеллектуальную среду, связанную со стратегированием, вас обязательно начнут выводить из состояния инерции, в котором разговор о том, КАКИЕ бывают амбиции, подменяет разговор о том, ЧТО ТАКОЕ амбиции. Согласитесь, что одно дело – обсуждать, КАКИЕ бывают люди (умные и глупые, старые и молодые, сильные и слабые и так далее). А другое дело – обсуждать, ЧТО ТАКОЕ человек.
Те, кто занимается стратегированием, отдают себе отчет в последствиях, порожденных отсутствием первого этапа, на котором надо не типы амбиций разбирать, а обсуждать, что они такое, где их источник, когда они возникают и когда исчезают, к какому общему адресуют, являясь частным по отношению к этому общему.
Мы хотим проводить политику. Да еще и амбициозную.
А кто такие «мы»?
Мы хотим проводить амбициозную политику по отношению к ним.
А кто такие «они»?
Потом, определив все это (а это можно сделать, только имея язык для подобных определений), мы все равно должны наметить конкретные действия и осуществить их. Но если мы с ходу будем все разменивать на конкретные действия, то, во-первых, элементарно запутаемся, во-вторых, ошибемся уже и на уровне конкретики и, в-третьих, добившись успеха в каждом конкретном действии, провалим политику как таковую.
Если вы нащупываете подход к решению проблемы под названием «амбиции современной России» с точки зрения этого самого стратегирования, то последовательность вопросов, на которые надо дать ответ, такова.
1. Что такое вообще амбиции? Нужны ли они и зачем? Какого они бывают качества? В чем укореняются?
2. Есть ли у нас право на амбиции? И на чем оно базируется? В каком случае мы имеем на них полное право, а в каком этого права нет и в помине?
3. Есть ли у нас амбиции? И почему их нет? Или почему они находятся в заторможенном состоянии? Как тогда их растормозить? Чем это чревато? В каких социальных средах как надо действовать?
4. В чем эти амбиции заключаются? В том, чтобы вписываться в процесс? В том, чтобы влиять на него?
5. Чем эти амбиции подкреплены? Есть ли ресурсы – материальные и нематериальные?
6. Могут ли эти ресурсы быть задействованы? И каким образом? При том, что без задействования ресурсов амбиции становятся беспочвенными мечтаниями или неврозами и лучше их тогда не будить?
7. Какой ценой могут быть задействованы ресурсы? Да и амбиции тоже? Ведь амбиции – это всегда небесплатное удовольствие?
Находясь на форуме «Стратегия 2020», который вроде бы должен был переламывать ситуационно-прагматическую тенденцию, игнорирующую необходимость стратегической субъектности, и создавать тенденцию подлинно стратегическую (а как иначе переделаешь «зайчиков» в «ежиков»?), я понял, наконец, в чем если не единственная, то одна из основных проблем затянувшейся российской политической бессубъектности.
Она в том, что весь исторический опыт обретения субъектности (опыт стратегирования в том числе) в силу ряде причин абсолютно недоступен для тех, кто в принципе должен преодолевать бессубъектность хотя бы из соображений ультрапрагматического характера, на русском языке называемых «шкурными».
Я не хочу сказать, что те, кто должен преодолевать бессубъектность, мотивированы только шкурными соображениями. Прекрасно понимая, к чему все клонится, я тем не менее категорически не хочу демонизировать данных (видимо, несостоятельных) «преодолевателей» бессубъектности. При том, что они дают к этому достаточные основания. Но ангелизировать их… Извините, это и недостойно, и бессмысленно.
Короче – не имея окончательного ответа на вопрос о степени преобладания в их мотивациях этих самых шкурных мотивов, я убежден, что роль подобных мотивов в их поведении весьма существенна. У политиков это иначе и быть не может. У постсоветских успешных политиков – тем более. Ибо так шел отбор. Такова была формула успешности, она же – специфика социальной мобильности.
Никак не склонен восхвалять преобладание и даже наличие шкурных мотивов в поведении политиков. Считал и считаю, что в конечном счете только высококачественная идеальная мотивация позволяет политикам выводить страну из тупика. Но мы ведь обсуждаем не должное, а действительное. И в этом действительном обязаны искать средства борьбы с надвигающейся на нас катастрофой. С этой точки зрения – да хоть бы и шкурные мотивы, за неимением других! Если обладатель этих мотивов имеет достаточную хищность и желание жить, то он будет вырываться из капкана. А если поймет, что без страны вырваться из него не может, то и страну за собой потянет. А ведь капканом-то является бессубъектность! Может быть, такому политику сама по себе субъектность и не нужна. Плохо, конечно, что не нужна. Но если эта субъектность нужна хотя бы для того, чтобы не потерять все (как Милошевич), не быть грязно, особо унизительно, позорно казненным (как Саддам Хусейн)…
Если эта субъектность нужна хотя бы для этого…
Если обладатели подобной «надобы» не клинические дегенераты (а они не клинические дегенераты)…
Если… Если… Если… То почему бы всеми этими «если» и не воспользоваться? Им надо выживать… Выживать можно только через субъектность… Субъектность нужна не только им, но и стране… Что причитать-то по поводу и впрямь прискорбной неидеальности их мотиваций?
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
Вот ведь как! Даже стихи! А уж политика-то…
Итак, дело не в низменности мотивов нынешних политиков (будто бы у их оппонентов эти мотивы не низменные!). Дело не в глупости этих политиков (они отнюдь не глупы). Дело даже не в их непрофессионализме. Да, нет навыков высшего управления, да и не могли они эти навыки получить в пределах их жизненного пути. И что? У революционных матросов были эти навыки?
Зато у нынешних политиков есть другие навыки – не буду разжевывать, какие именно. Нет трусости, свойственной позднесоветской застойной номенклатуре, есть адаптированность в другую реальность… Да мало ли еще что есть… Кто из советских высших руководителей мог общаться с иностранными главами государств иначе, как через переводчика? После Ленина, по-моему, никто. Мелочь, конечно, и не решающая. Но я привожу ее просто в качестве примера того, что есть не только потери, но и приобретения. И что даже свойства, соткавшиеся в знаменитую реплику «замочим в сортире», являются не только издержечными. А что, лучше изящно выражаться и не давать отпора? А Лебедь, например, и отпора не давал (а капитулировал в Хасавюрте), и выражался ничуть не более изящно.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?
Я понимал, что, находясь случайно на этом форуме, выступая в околополитической интеллектуальной дискуссии, где выяснялось, «чи исть у нас амбиции, чи ни», надо заявлять позицию, и не более. Убеждать кого-либо в чем-то? Басню Крылова помните? «А Васька слушает да ест…»
Но я понимал и другое. Что заявлять позицию так же необходимо, как и недостаточно. Что надо воспользоваться эффектом прямого присутствия. И, ощутив атмосферу, уловив интонационную специфику, отсканировав (хотя бы и поверхностно) психотипы, самому себе ответить на наиважнейший политический вопрос: В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?
Тем более, что речь шла, как я уже показал выше, о чем-то наподобие 18 брюмера… нет, не Луи Бонапарта, а Владимира Путина.
Я получил тогда ответ, которым хочу поделиться с читателем. Оговорив, что впервые обнародовал этот ответ тогда же, по горячим следам, в серии газетных публикаций. Но теперь есть возможность что-то и развернуть (на то и книга), и уточнить, и соотнести с разного рода неочевидностями, выходящими за рамку, задаваемую злобой дня и этим самым эффектом присутствия.
Мой ответ и сложен, и прост: ОТЧУЖДЕНИЕ.
Налицо именно отчуждение, то есть ситуация, при которой люди обкрадены и не понимают этого. Те, у кого вытащили из кармана кошелек (а точнее – из мозга нечто), не могут понять, чем деньги отличаются от фантиков, которыми их в изобилии наградили в компенсацию за кошелек, полный настоящих золотых монет.
Украден, то бишь отчужден (и именно отчужден!) весь опыт обретения субъектности, весь опыт партстроительства, весь опыт стратегирования и так далее. Отчуждение удалось реализовать за счет:
– тотальной дискредитации советского и его субъектных слагаемых (идеала, идеологии и много чего еще);
– негативного социального отбора и породившего его воинствующего антиинтеллектуализма;
– специальных обстоятельств элитогенеза, сопровождавших этот отбор;
– предельной коммерциализации политической деятельности, приводящей к преобладанию рефлексов присвоения материальных благ над волей к власти как таковой (зачем Сталину были материальные блага?);
– невроза выживания, до предела сокращающего горизонты планирования и порождающего сугубо ситуационное реагирование на все, что находится по одну сторону этого горизонта в сочетании с полным безразличием к тому, что по другую сторону.
Совокупность данных обстоятельств очень надежно отчуждает тех, кому нужна субъектность, от всех возможностей обретения оной. В основе обретения субъектности – тяга к общему, «страсти по общему», внутренняя убежденность в том, что тактические приобретения не могут компенсировать стратегический проигрыш, что система – это нечто большее, чем слагающие ее элементы, что общее в принципе не сводится к частному иначе, чем за счет выплескивания из этого самого общего вместе с водой и ребенка.
Вчитайтесь внимательно в список технологий отчуждения, который я привел несколькими строками выше. Какие он оставляет шансы на сохранение этой самой «страсти по общему»? Фактически нулевые.
Требовательный читатель скажет, что у Горбачева тяга к общему была, и что именно она-то и обернулась стратегическим фиаско.
Во-первых, надо еще доказать, что именно эта тяга привела к фиаско.
Во-вторых, я не убежден, что у Михаила Сергеевича эта тяга носила экзистенциальный характер. Мне так кажется, что интрига была гораздо более мила его сердцу.
В-третьих, это общее во всех его вариантах («гуманный демократический социализм», «новое мышление» и так далее) было, как минимум, выморочено. То есть надежно изолировано от всего, что могло бы связать это общее с корнями – с отечественной историей и мечтой. Подчеркиваю – как минимум, это было выморочено. А как максимум – заточено против отечественной истории и мечты.
Но, в любом случае, бесплодность горбачевских общих рассуждений и их разрушительность связаны не с тем, что общие рассуждения всегда бесплодны и разрушительны. Перефразируя политического классика, можно сказать: «Есть рассуждения и рассуждения». В истории России бывали общие рассуждения, порождавшие такие масштабные, жесткие и мощные процессы, что дальше некуда.
И впрямь ведь – общее общему не чета.
Те, кто всерьез хочет бороться за российское будущее, – а эта борьба нам всем еще предстоит – должны понять, что бесплодные рассуждения об общем, вымороченные философствования на общие темы – это одно. А стратегирование, концептуализация и т. п. (то есть все, что нужно для создания субъекта) – это не просто нечто другое. ЭТО НЕЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Катастрофа Горбачева была не в том, что он занимался общими рассуждениями, а в том, что он оказался абсолютно вторичен и недостаточен в содержательном осмыслении этого «общего». (Новое мышление? В чем именно оно новое? Гуманный демократический социализм? Он не здесь – он в Швеции!)
Триумф отцов-основателей Советского государства был основан на их страстном желании ответить на общие вопросы, связав свои ответы с деятельностью по преобразованию реальности. Соответственно, и ответы были по качеству другими. Отцы-основатели не скользили по поверхности общего, а ныряли на глубину. И что-то с этой глубины добывали. Масштаб их тогдашнего триумфа (а ничто и никогда не отменит факта ИСТОРИЧЕСКОГО триумфа) определялся и накалом страсти по общему, и политичностью этой страсти. Власть – это и есть политика как страсть и страсть как политика.
Масштаб триумфа определялся также мерой выхода отцов-основателей за рамки ползучего прагматизма, эмпирики, позитивизма, «объективничанья», наконец. Где «объективничанье» – там обнуление стратегической воли. Маркс открыл объективные законы? Открыть-то открыл… Но тут же изрек то, что позже так взбесило Поппера: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Ну, не были марксисты позитивистами. И прагматиками тоже не были. Амбиции у них были совсем другие. «Домостроительные».
Нельзя начать «строить дом», не поняв, что в фундаменте. И не признав, что в фундаменте – «страсти по человечеству». Не по себе – по человечеству как предельному, в том числе и метафизическому, субъекту.
Что происходит с человечеством? Куда и почему оно движется? В силу чего? И где здесь, в этом движении, соотношение объективного (кто спорит, что оно есть!) и миропроектной воли? В том числе и злой… А как без этого?
Между тем люди, чье выживание определяется возможностью выйти за рамки бессубъектности, не просто проходят мимо основных вопросов современности. Они эти вопросы агрессивно игнорируют, именуют «умствованием». Они сознательно минимизируют все, что связано с российским ответом на мировые вызовы и гордятся своей способностью к подобной минимизации. Между тем эта минимизация (она же прагматизация) губительна и для ее адептов, и для России. То, что адепты на этой минимизации погорят, не преодолев бессубъектность, – полбеды. А вот Россия…
В 2020 году Россия станет пятой по величине экономической державой мира? Извините! Раньше, где-то лет через 8–10, мир переделят сверхдержавы. Они же – в зависимости от того, кто и как победит, – определят вам все. Место, границы. Количество овец в этом вашем заго… Прошу прощения, на «суверенной» территории. Вы на это согласны?
Так не говорите тогда об амбициях! И о суверенности тоже! Стыдно слушать! Пусть тогда МЭР поговорит о внешнеторговом обороте… Его право… В конце концов, ведомство.
Но уж если разговор заводят аж об амбициях… Тогда… Тогда давайте наберемся смелости и будем говорить о судьбах человечества и фундаментальных коллизиях бытия! Этот разговор должен быть для нас не функционален, а самоценен, И он (к вопросу об отцах-основателях и их отличии от Горбачева) должен не уводить от политики, а приводить в нее.
Да, нас «сделали»… Страшно и в каком-то смысле окончательно. Но если этот смысл не относителен, а абсолютен, то зачем вообще говорить? А если он относителен, то надо указать – в чем. В том, что мы с вами живы. Но живы ли мы? И что значит живы?
Мы живы в той степени, в какой можем нести в себе огонь всечеловеческой страсти! Если он погаснет – виновны будут не злые силы, а мы сами. Страшно не то, как именно нас душат. Страшно то, что у нас теряется потребность в воздухе. В каком-то смысле, банк интеллектуальных возможностей сегодня неизмеримо мощнее, чем в 30-х, 40-х, 50-х годах XX века. Что было тогда? Радиоточка, читальный зал библиотеки и голодный паек отцензурированной интеллектуалистики. Но была еще и страсть!