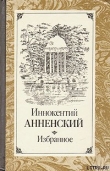Текст книги "Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века"
Автор книги: Сергей Охлябинин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Мария Клавдиевна писала в те годы: «Задачей моей было по возможности дать больше образцов, забросать рынок новыми формами, влить новую свежую струю, и потому чем больше было у меня сотрудников и больше инициативы, оригинальности, тем лучше выходили результаты. Мне не хотелось подражать другим мастерским, хотя бы Абрамцевской, которые дадут какой-нибудь один мотив и тысячу раз на все лады повторяют его. Все эти ящички, кубики, полочки, виденные нами на всех выставках и в складе Московского земства, давно уже приелись своим однообразием и недостатком фантазии».
Дом, который построил Львов
Николай Александрович Львов… (его портрет)
Талант архитектора он подкреплял мастерством рисовальщика и твердостью линий опытного гравера. А увлеченному собиранию и исследованию русских народных песен помогал поэтический дар этого самобытного зодчего. О мудрых львовских механических устройствах и вовсе ходили по России легенды.
И в любой из вышеупомянутых областей знаний он был профессионалом.
Можно себе представить, насколько популярен был он как архитектор, если уже с 30-летнего возраста Николая приглашают строить в самом Петербурге (Невские ворота Петропавловской крепости, Почтамт и т. д.). Получает он заказы и на строительство целых усадебных ансамблей: Митино-Василёво Львовых – дальних родственников Николая Александровича; Прямухино – родственников и друзей Бакуниных; Горницы – Беклемишевых; Арпачёво – имение дяди; собственная усадьба в Черенчицах-Никольском; помещичий дом в Знаменском-Райке недалеко от Торжка; а также Садовый домик на даче Безбородко.
Дом Львова в Черенчицах удивительно компактен. Как и во всех его постройках, здесь воплощается принцип классицизма: целесообразность, прочность и красота.
Совсем не примечательный земельный участок львовского владения к концу XVIII века превращается в живописный усадебный ансамбль. Прекрасно зная не только рельеф существующей местности, но и саму геопластику земли, учитывая, что местность имеет уклон с северо-запада на юго-восток и саму гидрологию грунтовых вод, Львов сооружает дренаж и строит добротные деревянные водоводы под землей. Итог ожидаем – пять прекрасно устроенных прудов да еще и осушенная болотистая низменность.
Николай Львов задумывает на территории усадьбы большое число сооружений самого разнообразного назначения. Центр ансамбля – конечно же усадебный дом с прилегающим к нему совсем, правда, небольшим парадным двором и садом. Причем возводящийся дом посматривает своим главным южным фасадом на просторы нижнего парка. На продолжении оси (она проходит через центр дома) находятся пруды. К востоку от дома при въезде в усадьбу был задуман мавзолей.
В самой высокой северо-западной части усадьбы, прилегающей к полям, он строит зернохранилище, ригу. Ближе к дому появляются фруктовые сады с оранжереей, конный двор. В низкой юго-восточной части усадьбы, поблизости от лугов и вод, Львов располагает обширный скотный двор. На крутизне Петровой горы он размещает кузницу, чтобы воздушным мехам кузнеца помогал еще и ветер. С запада к усадебному дому примыкал и небольшой сад, соседствовавший со скромным сыроваренным заводиком.
Однако самыми оригинальными были так называемые малые архитектурные постройки: храмик и грот-купальня, павильон-ротонда и павильон на острове, ключевой погреб-павильон и летний домик.
И в каком бы помещении дома в Никольском ты ни оказался, везде находишь какое-нибудь своеобычное, причудливое решение. Но это вовсе не оригинальничанье, а сама логика, воплощенная в инженерных конструкциях. Так, чтобы хорошо осветить в дневное время центральное помещение первого этажа дома, Николай пользуется вторым светом, проникающим через остекленный проем пола в центре зала бельэтажа.
Прекрасные пропорции помещений (гостиной, столовой), не умаляют и их практичности. Большое внимание уделяется отоплению, вентиляции, водоснабжению. Так, задумывая сооружение камина, он использует систему «воздушного отопления», с тем чтобы наружный воздух, проходя через жаровую часть камина, поступал затем в комнату уже теплым, одновременно и согревая, и проветривая ее. Львов изобретает «паровую кухню» – пар варил еду, мыл посуду, вращал вертел. Отделка интерьера была также продумана до мелочей.
В юго-западной части усадьбы Львова находилась группа построек, объединенная общей композицией. Приятели, гости, а то и просто приживалы жили в усадьбах месяцами, а нередко и годами.
Само понятие «приживалы» не имело нынешнего негативного значения. Если человеку было хорошо у того или иного помещика, значит, считалось, что он прижился. Так что иметь в усадьбе таких людей считалось хорошим тоном. И наоборот, о тех помещиках, где не было приживалов, ходила дурная слава. К ним относились с оглядкой, их сторонились.
Эти люди обедали за одним столом с хозяином, и отношение к ним было достойное. Правда, бывали и такие случаи, когда хозяева могли с ними повздорить. И лишь в этом случае они являлись к обеду раньше или позже помещичьих семей. Но в столе им конечно же никто не отказывал.
Для своего приятеля Вельяминова Львов построил миниатюрную усадьбу. Прекрасно зная его вкусы, выполнил ее особо, предложил Петру Вельяминову двухэтажный дом с балконами, колодезный журавель, набережные постройки и парусные филюги у берега.
Очевидно, эта театрально-реальная «усадьба в усадьбе» была-таки возведена, поскольку остатки фундаментов находившихся здесь построек существуют и по сей день. Они совпадают с планами зданий, что на рисунках Львова.
Можно сказать, что на замысловатых экономических расчетах и ежедневном изнурительном труде самого Николая только, пожалуй, и держалось имение. Немногие средства, выручаемые за зерно, рыбу, тотчас же шли в дело. Усадьба небыстро, но основательно расстраивалась. Немало средств ушло и на такое сложное сооружение, как мавзолей. Но ведь это же память предков…
А между тем всевозможные новые постройки требовали, в свою очередь, и новых, особо надежных строительных материалов. И мало того, оригинальных конструктивных приемов. Именно от них, от хозяйственных служб, зависело все благополучие Никольского. И Львов создает недорогие, но прочные, удобные и простые в эксплуатации службы.
Жилые здания, их внешний вид, интерьеры, меблировка были им уже давно продуманы. Хозяйственные же службы оказались для него куда сложнее. Особенно овины, риги, ветряные мельницы. И хотя примеров тому была уйма, его ум, острый, изобретательский, отвергает все, существовавшее до него, как недостаточно совершенное.
Проблема сушки и хранения зерна оказалась настолько сложной, что зодчий с головой погружается и в ее решение. Умудряется, не будучи профессиональным аграрием, не только продумать и возвести эти хозяйственные сооружения, но сделать их еще и более доходными.
Ледяной дом
В каждой усадьбе, вне зависимости от ее респектабельности, всегда существовали ледники. В Никольском же и вовсе находилось несколько таких погребов. Естественно, что первым делом подвал был предусмотрен в доме под кухонными помещениями. Но особенно интересен погреб-ледник, построенный при западном флигеле поместья. Это была постройка, похожая на равностороннюю пирамиду. Два круглых, перекрытых куполами помещения располагались друг над другом. То, что находилось под землей, предназначалось для хранения льда. Другое располагалось на уровне земли и было оснащено остроумно задуманной и удачно воплощенной осветительно-вентиляционной камерой. А четыре проема привносили в помещение не только свет, но и удачно решали сквозное проветривание.
Постоянная низкая температура холодильного помещения достигалась циркуляцией воздуха.
Здание было построено из кирпича, а там, где требовалась наибольшая прочность, использовался камень. Само углубление для хранения льда было выложено блоками известняка.
Погреб исправно хранил лед все лето. Пирамида-ледник действовала вплоть до середины XX века, настолько прочной и инженерно разумной была придумана.
Из огня, да в пóлымя…
Пруды в общем ансамбле усадьбы занимали особое место.
И хотя по генеральному плану имения здесь можно было насчитать всего три пруда – два верхних, что находились у подножия склона, в парке, и один – в стороне, при скотном дворе, но казалось, что их очень много. В какой бы точке усадьбы посетитель ни находился, он не мог охватить взглядом все это водное зеркало целиком. Его извивы, перетекания одного в другой были столь хитроумны, что каждый последующий шаг тотчас же сотворял и последующий, совершенно иной вид.
Предусматривает Львов небольшой и удивительно уютный грот. Здесь, в прохладе близ воды, нет лучшего места для отдыха.
Самый длинный пруд, так называемый Рыбный, или Балхон, живописно изгибался, замыкая пологий склон холма, на котором стоял дом.
Западная часть Балхона хорошо просматривалась из окон самой усадьбы. Она украшена небольшим островком с беседкой, а также полуостровом с высоким насыпным холмом, увенчанным павильоном-ротондой. Рядом с Рыбным прудом Львов создает Купальный пруд. За счет разницы в перепаде местности сооружает живописный каскад из валунов, а чуть поодаль – грот-купальню. Близ купальни появляется канава, что отводит излишки воды в третий пруд, растянувшийся в низине, невдалеке от коровника.
Чтобы замкнуть, завершить все это пространство усадьбы, а также обеспечить службы водой, выполняются самые разнообразные земляные и каменотесные работы. Он выстилает дно прудов лещадью [19]и облицовывает откосы камнем. При этом используется множество гидротехнических устройств.
В определенных местах усадьбы существовали и природные источники. Один из самых мощных бил фонтаном при въезде в усадьбу. А питался он водоводом из ключевых колодцев. Это небольшое каменное сооружение было построено в виде старинной боевой башенки.
Земной рай Глебовых – Знаменское
Усадьба Раёк принадлежала генерал-аншефу Ф. И. Глебову-Стрешневу, который владел многочисленными имениями в разных губерниях, в том числе в Покровском-Стрешневе под Москвой. То была крупная, как тогда говорили, хозяйственная единица, которая и предназначалась быть базой для развития так называемого хозяйства. В ней сочеталось, казалось бы, несочетаемое – соответствовать новым экономическим требованиям и одновременно отвечать эстетическим вкусам русского дворянства этой необыкновенной поры.
В свое время глебовская усадьба быстро набирала обороты. Прогрессивным решением было то, что взамен трехполья генерал вводит травопольную систему с посевом клевера. В его хозяйстве также множество овощей, культивировавшихся в Знаменском, включая и картофель, причем некоторые производились на сбыт.
Немалый доход приносят и оранжереи. Среди оранжерейных растений он разводит фисташки, занимается акклиматизацией шелковицы. Со временем предполагает устроить в Знаменском ботанический сад.
Этот энергичный генерал в отставке не забывает и свою любовь армейских лет – лошадей. Он создает в усадьбе небольшой конный завод. И начинает работать на сбыт.
Однако и конюшни, и иные хозяйственные постройки требуют строительных материалов. И Глебов, имея скромные доходы, решает не покупать кирпичи на заводах Торжка, а строит собственное предприятие. Здесь же впоследствии возникает и черепичный завод.
Если поначалу производит он простую черепицу, то вскоре, уверенный в широком сбыте по всей близлежащей округе, переходит на черепицу поливную. Обозы по закупке тянулись к нему даже из Твери, так как материалы были качественными. Недаром и флигели дома, и оранжереи Райка покрываются этой же черепицей.
Усадьба Раёк окутана неким флером таинственности. Загадочность здесь несет буквально все, к чему прикоснулась рука зодчего и мысль владельца. Так, Н. Львов изобретает своеобразный акустический экран, который направлял звуки оркестра в танцевальный зал усадьбы, где собирались многочисленные гости. К тому же он еще и скрывал музыкантов от глаз приглашенных. В перерывах артисты могли перекусить и отдохнуть.
Когда спускаешься в зал, первое, что бросается в глаза, – огромные окна, расположенные невысоко от пола. Отсюда освещенность зала и его слияние с окружающим пространством парка.
Огромные парадные двустворчатые двери при всей их видимой массивности с легкостью уступают даже слабому нажатию руки. На них сложный рельефный рисунок, украшенный матовой позолотой. Интересно, что сам цвет дверей соответствует цвету того или иного помещения.
Добиваясь ощущения большой высоты потолков в комнатах дома, зодчий отделяет карнизы от потолка небольшим просветом. Получается, как будто потолок парит над головой, придавая помещению удивительную легкость.
Не забывает он и о стенах. Когда гости на пути к залу следуют широким коридором, они замечают портреты владельцев усадьбы, оправленные в замысловатые алебастровые рамы.
Но если присмотреться, то можно увидеть, что в стенах помещений архитектором сделаны ниши. Они и служат для размещения картин и портретов, а рамы выполнены прямо на стенах.
Во всех помещениях усадьбы не устаешь поражаться цветовым решениям зодчего. Точеная изящная балюстрада бельведера, сработанная из мореного дуба, была когда-то окрашена в темно-красный (пожалуй, даже пурпурный) цвет. А внизу под цвет верхней части зала – красные двери с зелеными рельефными углублениями и с позолоченными деталями. Рядом с этим красно-пламенным цветом дверей – камины из темного мрамора.
Но стоило растворить двери, и перед глазами возникал строгий зал, на стенах которого были размещены 24 царских портрета по периметру, оправленных в алебастровые рамы, увенчанные парящими над ними двуглавыми орлами. А над ними – роспись плафона.
Интересно, что композиция плафона перекликалась с орнаментом паркета. В середине зала стоял огромный обеденный стол, место которого уже было заранее предусмотрено рисунком паркета.
Эта главная анфилада парадного этажа, что начиналась от императорской столовой, по другую сторону описанного танцевального зала завершалась спальней. То был характерный прием в планировке дворянского дома. С опочивальней соседствовали кабинет, туалет и девичья. Парадная спальня имела прямоугольную форму, ее окна выходили в парк. В глубине комнаты Львов сооружает колонны и только за ними, как за своеобразной «границей сна», он размещает альков.
Примечательно, что спальня – единственная комната дома, которая была отделана (так же как и колонны) искусственным мрамором. Потолок был украшен плафонной живописью, а дощатый пол укрывал дорогой ковер.
Прямухинский ангел-хранитель
«У меня есть ангел-хранитель, светлый ангел – это воспоминания о том рае, где я был недавно. Туда, туда буду я удаляться моею фантазиею, чтобы жить высокою и таинственною жизнью, чтобы освежать-мя и очищаться от ночи жизни».
Кому же и, главное, где удавалось жить этой самой «высокою и таинственною жизнью»? Было это в семействе Бакуниных, в усадьбе которых и находился небезызвестный нам литератор.
«В Прямухине у меня была фантазия, которая часто занимала меня, когда я бродил по саду, по берегу реки и по Кутузовой горе. Вот она – я думал: если бы я разбогател, то купил бы себе поместье с таким местоположением, которое было бы копиею с Прямухина. Развел бы такой же сад, построил бы такую же мельницу, такую же фабрику, такую же кузницу, церковь, наконец, такой же дом. Внутренние покои, неизвестные мне, заколотил бы наглухо, чтобы никогда ни моя и ничья нога не вступала в это святилище, а остальные убрал бы так же, как в Прямухине, и жил бы один, и бродил бы по саду и по всем заветным местам, и, забывши, ожидал бы встречи с кем-нибудь. То вот не отворится ли дверь святилища и не выйдет ли кто-нибудь разливать чай, то вот не мелькнет ли за деревьями розовое платье с белым корсажем, то – не услышу ли мелодические голоса, которые кличут друг друга этими родственными именами, которые я не смею произвести самому себе, в тиши моего кабинета… То-то было бы роскошное упоение тоскою и грустью…» – писал В.Белинский в письме Бакунину 18—19 июля 1838 года.
Прямухинская усадьба и в самом деле была необычайно уютной. Правда, господский дом не имел перед собой двора, обрамленного строем колонн, но в этом-то и заключалось его очарование и полное отсутствие официоза… Здание как бы уравновешивали два флигеля, будто две чаши весов. По одну сторону – кухонный, по другую – церковный. Рядом с последним располагалась колокольня.
И коровник, и ткацкая находились в стороне, на почтительном расстоянии от дома. А вот близко к нему подступала удивительная цветочная оранжерея, о которой впоследствии вспоминали и многие прямухинские гости. Да и зачем было располагать ее где-то поодаль, если ее гостеприимно распахнутые двери с радостью привечали каждого переступающего порог.
Особые очарование и трепет охватывали вас, когда вы погружались в зеленые волны парка и медленно прогулочным шагом спускались к реке. На пути к плотине перед вашими глазами проплывала еще одна колокольня.
В Прямухине, так же как и в других усадьбах, строительство начиналось с хозяйственных построек. Потом появится господский дом, хотя и обширный, но построенный из дерева. И только лишь на рубеже веков, когда молодой хозяин усадьбы А. М. Бакунин оставляет службу в связи с болезнью отца, начинается достройка дома. Но интересное дело, обычно изначально каменный дом расширялся достройкой деревянного этажа. В Премухине было все наоборот – к деревянному пристраивались каменные флигели, приобретая по фасаду внушительную длину – более семидесяти метров.
Дом строился основательно, но с известной долей элегантности, что, впрочем, не было сопряжено с большими затратами. Архитектор сооружает колонны скромного дорического ордера и их верхнюю часть украшает каннелюрами. Здание вмиг преображается. Как сказал о работе зодчего А. М. Бакунин: «И с лица столбами принарядил кой-как фасад».
Жизнь Званская – по Державину
Усадьба Званка. Она запечатлена на гравюре с акварели Абрамова. На переднем плане по зеркалу реки скользит барка под парусом. На берегу проверяют снасти, готовятся на рыбачий промысел. На противоположном берегу деревьев мало, а на вершине холма – двухэтажный компактный, почти квадратного очертания господский дом с четырьмя колоннами.
За его спиной темнеют постройки. Перед ним пологая длинная лестница спускается к речному берегу. Вокруг усадьбы – низкая ограда, обсаженная изнутри молодыми деревцами. Это усадьба, принадлежавшая Гаврииле Романовичу Державину.
Абрамов был личным секретарем Гавриилы Романовича. Свою акварельную зарисовку создал в 1807 году в память посещения Званки Евгением Болховитиновым – добрым знакомцем Державина, в ту пору игуменом Хутынского монастыря. Свою жизнь в Званке Державин описал в своем послании «Евгению. Жизнь Званская».
Усадьба располагалась на высоком берегу Волхова. На реке была пристань, где стояла лодка «Гавриил» по имени хозяина усадьбы, и ботик «Тайка», названный в честь собаки Державина. Господский дом знаменитого российского стихотворца, отважного солдата и блистательного офицера русской армии был небольшой, двухэтажный с бельведером и четырьмя скромными комнатами по фасаду. Он близок к квадрату и, пожалуй, напоминает своим видом «кубические» купольные храмы, что дало повод Державину назвать его «храмовидным».
Дом удивительно уютен, начиная с библиотеки и до необыкновенной столовой, строгость и величие которой сторожили теснящиеся в глубине залы полуовальным строем колонны.
Кабинет хозяина располагался на втором этаже. Державин любил здесь отдыхать на массивном диване. На стенах покоились охотничьи принадлежности и ружья.
Но, пожалуй, самое главное, что отличает большинство усадебных построек в России, особенно выпестованных Львовым, это укутанные флером таинственности, скрытые от глаз, тайные помещения. Что же уготовано было стихотворцу на этот раз? Казалось бы, все просто, красиво и открыто всем, и даже прихотливым взглядам и намерениям, но и здесь есть свои секреты. Оказывается, кроме парадной лестницы существуют и две потайные. И уж никогда не догадаться – сделаны они в виде ложных печей.
Так увидел Званку Я. Грот, посетивший имение в 1863 году: «…видны только остатки крыльца, на месте же самого дома лежат разбросанные кирпичи и сложена груда камней… Влево от дома (если стоять перед ним лицом к реке) был сад, теперь совершенно заросший; только на стоящем отдельно крутом холме видны деревянные столбы находившейся здесь беседки, около которой еще и теперь особенно густо растет зелень с одичалыми цветами… уцелели только немногие строения: баня, где отводилось иногда помещение некоторым из гостей, съезжавшимся на Званку, каретный сарай и часовня. Стоявшая внизу, вправо от усадьбы, ткацкая, где приготовляли сукна и полотна, совершенно исчезла. Но позади места, где был господский дом, виден теперь навес, под которым сложены разобранные бревна и доски его».
Гавриил Романович Державин умер в своей усадьбе 9 июля 1816 года. Его вдова Дарья Алексеевна, отошедшая в мир иной в 1842 году, завещала устроить в имении женский монастырь. Но время шло, дом ветшал, а исполнение воли покойной владелицы затягивалось. Усадебный дом был разобран в 1858 году с целью использования строительного материала для создания женского монастыря.
В 1869 году здесь открывается женский Знаменский монастырь.
Глава третья. Каких чудес не видел здесь я?!
Много ли сохранилось, дошло до наших дней усадебных парков XIX века? А что же говорить о XVIII или о XVII? Причины разные. Перелицованная в начале XX столетия держава, войны, разруха и безвластие.
Так что, быть может, для наших архитекторов и дендрологов, агрономов да и просто людей, увлеченных русским парковым искусством, ценен случайно сохранившийся альбом Николая Львова с проектом сада Безбородко в Москве.
Одна из многочисленных загадок этого сада – подземный зал. Архитектор Львов украсил огромное пространство его пышными мраморными лестницами, колоннами и водяным многоступенчатым каскадом.
И совсем не важно то, что проект, заказанный Безбородко, не был осуществлен. Сам принцип такого подземелья послужил своеобразным эталоном для отечественных архитекторов XIX века. Сооружения, заказанные другими русскими помещиками, были и меньше, и скромнее, и много дешевле в воплощении, но все они оказались необыкновенно романтичны. Да одновременно и практичны, как, например, совсем небольшой грот, построенный в усадьбе Мусина-Пушкина Валуево под Москвой.
В каждом своем последующем проекте Николай Львов предлагает что-то совсем иное, необычное, но удивительно привлекательное. Прекрасно зная западные усадебные парки, он даже и не пытается их копировать. Это бессмысленно, а потому и не резон повторять.
Львов дополняет принципы живописного пейзажного парка, предлагаемые в теоретических решениях и проектах Чэмберса и Уэтли, Гиршфельда и Мореля.
Сад для прогулок
Львов – горячий и истовый сторонник сочетания приемов регулярных и чисто живописных. Именно это и является основой для планировки русских усадебных парков. Того же мнения придерживается и другой знаток паркового искусства, Андрей Болотов. Человек творческий, он не вполне справедливо считал французскую систему регулярных садов давно отжившей. Не был в восторге и от английских пейзажных парков.
Что же не устраивало его у англичан? Прежде всего «непомерность» и «излишность». Естественно, сопоставляя отечественные сады и парки с английскими, Андрей Николаевич видит больше достоинств именно в русских. Наши сады должны быть «ни английские, ни французские, а наши собственные и изобретенные самими нами».
Само понятие – «регулярность», «заданность» – несколько сковывает Львова. Если сад Безбородко в городе, то от принципа регулярности не уйти. По убеждению Львова, он «должен не токмо отвечать величию оного, но и служить еще богатою рамою великолепному дому… а потому и не может быть иначе, как Архитектурной или Симметрической».
Однако при всей парадности сада Львов, как блистательный декоратор, предусматривает и немалое пространство для уютных, скрытых от посторонних глаз уголков. Трепетно прорисовывает лукавые дорожки для интимных прогулок и бесед. Хорошо зная европейских парковых декораторов, он умудряется «согласить учение двух противоположных художников Кента и Ленотра». А иначе как же «поместить в одну картину сад пышности и сад утехи»? И вот это-то соединение в одно целое двух противоположностей и становится особенно характерным для работ Львова. А следом – и для новых, чрезвычайно многообразных принципов русского садово-паркового искусства.
Львов так мастерски связывает эти две противоположности садов, что различие можно увидеть только на плане. От чего же отталкивается наш «гений вкуса», когда перелистывает альбомы европейских декораторов? И чем не намерен руководствоваться? Его поражает заумь, нарочитость непомерной симметрии французских садов.
Много ли стоит та симметрия, что, ножницами «изуродовав мирты, пальмы, даже самый кипарис, превращала деревья в медведей, в пирамиды, в дельфинов и наполняла сады наши зелеными неподвижными уродами, которые стали ни пень, ни дерево. По ее аршинному закону… половина сада представляет не что иное, как повторение другой половины, так что, увидев первую, другую никто и смотреть не пожелает».
Что же предлагает он взамен этой «ножничной архитектуры»? Если он и прорисовывает прямые аллеи в натуральном, без «вывихов» саду, то, чтобы устранить «единообразность прямой линии», вводит в общую композицию и естественно растущие деревья, а вот парковые сооружения он разбрасывает в чисто живописной манере.
Интересно, как же относится Львов к естественным природным условиям: к тому же рельефу, водным источникам или местной растительности? Они-то как раз и являются основными козырными картами в его «игре» с окружающим пространством. Оказывается, самые разнообразные рукотворные виды внутри сада Львов связывает с общим ландшафтом.
«Замерз… от удовольствия»
Хорошо, что эскизы, рисунки, рассуждения Львова случайно дошли до наших суетных дней. Но еще лучше увидеть собственными глазами остатки тех парков, что когда-то вырисовывал этот удивительный мастер.
Усадьба Введенское в Подмосковье была преподнесена императором Павлом I в подарок своей фаворитке Анне Лопухиной. Ее отец Петр Васильевич Лопухин пригласил для обустройства имения архитектора Н. А. Львова. Дом этот – своего рода «корона» на возвышенности. «Шлейф» парка спускается к Москве-реке, открывая широчайшую панораму. Сейчас, глядя на усадьбу с воды или, наоборот, – на воду с балкона усадебного дома, кажется, что и не составляло труда найти на берегу реки именно данное место, этой крутизны и поворота вод, настолько все органично.
Интересно, что динамике и придает Львов огромное значение. Парки, счастливо выпестованные его руками, не должны стоять на месте. Они обязаны как бы плыть вдоль речных вод, струиться вдоль или поперек ветра. На их пути должны встречаться суда, мельницы, водопады, клубы дыма, фривольные облачка и мрачные, сурово-свинцовые тучи.
Примечательно, что водные источники, как бы ординарно и незатейливо они ни выглядели, провоцируют на необыкновенные решения. Его изобретательство не знает границ. В саду уже упомянутой дачи Безбородко по склону горы тремя террасами ниспадают «текучие воды». Именно за счет водяных струй он связывает, соединяет и статуи, и гроты, и пейзажные сады.
Если архитектор был талантлив, он никогда не пытался подстраивать окружающее пространство усадьбы под те парковые ансамбли, которые где-то видел. Если парк разбивался у реки, пусть и самой невзрачной, уже можно было за что-то зацепиться. А коли существовал перепад высот, лучшего и желать нельзя. В таких случаях зодчему оставалось только прикинуть, как будут проходить берега перекрытой плотиной речки и на каком возвышении будет поставлен господский дом. Согласовать будущий проект с хозяином и рядом инстанций – и вопрос решен.
В те далекие годы XIX века многие зодчие, подражая Львову, старались как можно меньше вторгаться в природные тайны. Просто пытались их обыгрывать. Выступали в роли эдаких скульпторов, снимая «резцом мысли» ненужные наслоения и обнажая суть предмета, как это делал древний Пигмалион.
Именно так и произошло с парком усадьбы Введенское, который как бы невзначай расположился вдоль дороги, уносящей нас к Звенигороду. Длинная прямая аллея открывала вид на сравнительно небольшой двухэтажный барский дом. Его следовало обойти, минуя широко распахнутые крылья флигелей.
Склон, опускавшийся перед домом, был настолько красив, что захватывало дух. Справа и слева возвышались массивные лиственные старинные деревья. Взгляд будто вели, направляли исподволь, увлекая к далекому горизонту. Поначалу под ногами были крутизна, ощущение большой высоты и дальности этого склона – у его основания деревца казались совсем кукольными. Дальше склон выпрямлялся, выправлялся в достаточно ровное плато и тянулся, как казалось, неизмеримо долго к реке, что искрящейся птицей временами посверкивала вдали.
Именно эта рукотворная водная гладь и убеждала нас в обширности пространства, казавшегося еще большим, чем было на самом деле. Однако вся эта «эквилибристика» с обманными пропорциями не казалась искусственной. Все это было – естество. А вот тайна состояла в пропорциях и в чередовании планов.
Николай Львов писал владельцу этого имения П. В. Лопухину: «Милостивый Государь Петр Васильевич! Введенское ваше таково, что я замерз было на возвышении, где вы дом строить назначаете, от удовольствия, смотря на окрестность, и 24 градуса мороза насилу победили мое любопытство. Каково же должно быть летом? Приложив, как говорят, руки к делу, место сие выйдет, мало есть ли сказать, лучшее из подмосковных. Натура в нем все свое дело сделала, но оставила еще и для художества урок изрядный. От начала хорошего, от первого расположения зависеть будет успех оного…
Правда, что возвышение, под усадьбу назначенное, имеет прекрасные виды, с обеих сторон красивый лес, но кряж песчаный и жадный: воды ни капли, и все то, что на возвышении посажено, не будет рость медленно и хило, ежели не взять к отвращению неудобств нужных мер.
В новом фруктовом саду, по песчаной горе расположенном, тоже ни капли воды, как и на скотном дворе; на поливку и на пойло должно по крайней мере определить три пары волов в лето, а без хозяина легко выйти может, вместо пользы, одно из двух необходимое зло: или коровы будут без пойла, или волы без кожи.
Там, где вы назначили мне к конюшенному двору положить основание, т. е. по правую руку от проспективной дороги к роще, по теперешнему положению место не весьма выгодно, потому что весьма далеко от водопоя. Хорошего же колодца иметь на горе никак нельзя, и выкопанный в 12 сажен колодец держит в себе воды небольшое количество, которое скопляется из земли, а действительной ключевой жилы нет, да и быть не может, потому что горизонт обеих побочных речек, да и самой Москвы-реки лежит весьма низко…