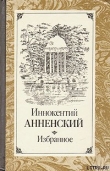Текст книги "Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века"
Автор книги: Сергей Охлябинин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Предоставив нам краткое, но вполне объемное, живое описание своих родителей и дедов, Саша Мельникова подробно останавливается и на особенностях собственного воспитания. Неукоснительная твердость в соблюдении раз и навсегда заведенного в доме распорядка. Всё – по часам и минутам. Ритм дня – почти армейский. Однако понять этот размеренный быт дворянской семьи среднего достатка совсем несложно. Семеро детей, глава семейства наполовину выключен из игры, и фактически основная доля забот на плечах супруги. К тому же юным отпрыскам необходимо дать и образование. Причем это желание дать детям образование было в культурных дворянских семьях настолько твердым, что даже и в годы эмиграции (те, кого постигла эта ужасная участь) родители из последних сил и средств пытались сделать собственных детей образованными людьми.
И конечно же родителям нужно было хорошенько подумать и о начальном образовании их чад – умело выбрать достойных гувернеров или гувернанток.
«Нас, детей, было семеро: пять сестер и два брата. Несмотря на крепостное право и вполне помещичью обстановку со всеми угодьями и привольями, у нас не допускалось деревенской распущенности и воспитывали нас строго, серьезно и разумно. В доме царила общая дисциплина, не дозволявшая нарушения раз заведенных порядков и требовавшая безусловного повиновения воле старших, без всяких мудрствований.
Нас приучили к правильным, систематически распределенным занятиям, не лишая, однако, необходимой детям свободы, но всегда на глазах у старших. Вставали в 7 часов утра, пили чай, потом занимались; ровно в час пополудни обедали, опять занимались до четырех; ровно в 6 чай пили и ровно в 10 ужинали. С последним ударом 11 отец подавал сигнал к отходу ко сну: мы подходили к руке отца и матери, которые благословляли нас на сон грядущий.
Непосредственно из рук кормилицы переходили мы на руки бонн, сначала немки, а потом француженки, или прямо француженки, обходясь без немки.
Главный же надзор над нами и окружающими нас был поручаем русской гувернантке.
Первая гувернантка пробыла у нас недолго; затем явилась вторая и последняя, поступившая к нам в дом, когда мне едва минуло 6 лет. Звали ее Авдотья Сергеевна. При ней родились меньшие сестры и брат, при ней мы все выходили замуж; при ней и умерли многие из наших.
Несмотря на это, ни ее никто не любил, ни она никого особенно не любила: связывала же ее со всеми и всех с нею одна общая привычка. Не помню я проявления сердечности в Авдотье Сергеевне; бывала она подчас добра – и только; но никогда не пыталась она проникнуть в наш внутренний мир и ознакомиться с ним; да и вообще вряд ли она допускала, чтобы у детей мог быть какой-нибудь собственный мир, а не тот, который создают для них их воспитатели и наставники.
Помнится мне живо ее подозрительность, воображавшая существование в нас враждебности к ее личности; чего и не бывало, в большинстве случаев; а между тем я чувствовала себя глубоко оскорбленной незаслуженным подозрением или недоверием ко мне, никогда не желавшей обманывать.
С другой стороны, я должна отдать полную справедливость Авдотье Сергеевне, хотя она в те времена и допекала нас своим педантизмом и взыскательностью, но зато она чрезвычайно добросовестно относилась к возложенным на нее обязанностям и не слишком злоупотребляла своею властью, совершенно бесконтрольно.
С прислугой, вообще, Авдотья Сергеевна была резка, требовательна до мелочности и крайне нетерпелива; с некоторыми же личностями, находившимися под началом ее, как, например, няня, кормилицы и старшие горничные, она была фамильярна до интимности.
Многие деревенские бабы, почему-нибудь вхожие в дом и издавна знакомые с нравом властолюбивой гувернантки нашей, побаивались ее не менее всей прислуги в доме; но ценя ее снисходительную простоту в обращении с ними – носили ей в дар яйца, кур, нитки и пр. (до всего этого Авдотья Сергеевна была великая охотница), а взамен бывали оделяемы цветными лоскутьями, старым платьем, кусочками сахару и дружеской беседой.
Но если Авдотью Сергеевну нельзя было назвать другом человечества в широком смысле слова, зато она приобрела неотъемлемое право называться благодетельницей и покровительницей всяких собак, в особенности приблудных, сиротствующих, отверженных хозяевами, искалеченных и т. д. В особенности к последним, равно как и к голодным и лишенным права, чувствовала она неодолимое влечение и нежнейшую симпатию, так что, чем более собака была обижена судьбою или людьми, тем более прав имела она на расположение и покровительство Авдотьи Сергеевны.
Собачьи невзгоды были для нее ближе и понятнее других; человека, обидевшего собаку, она считала своим врагом и не переставала преследовать его упорно, как своего обидчика. Мы удивлялись, откуда могла она добывать диковинные экземпляры безобразнейших собак, толпившихся у окна ее комнаты после обеда: были тут собаки бесхвостые и собаки с хвостом, разделяющимся на две или на три космы, одноухие и безухие, с зияющими ранами и т. д.
Авдотья Сергеевна, для которой они были источником радости и горя, нередко плакала над ними, кормила и поила их, заботливо пряча от глаз врагов и старательно оберегая их покой. Замечательно, сколько надо было иметь терпения, чтобы ладить со всеми этими воющими, визгливыми, вечно голодными и избитыми, искусанными любимцами и сколько энергии для неустанной борьбы с их гонителями!
Видно человек так уж создан, что в глубине его сердца (даже у самого черствого) есть тайный уголок, где кроется тепло и свет, неведомые людям» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
«Мать не мешалась в дело нашего воспитания»
«Мы занимали в доме отдельное от родителей помещение, весь нижний этаж, отданный в полное распоряжение, со всеми его обитателями, одной Авдотье Сергеевне.
В сопровождении ее мы являлись наверх только в известные часы, так сказать, pour les heures de repas, и оставались там ровно столько времени, сколько полагалось для чаепития, обеда и ужина; или же, в экстренных случаях, вроде приезда родственников – по приглашению явиться для приветствия.
Мать не мешалась в дело нашего воспитания, вполне доверяя Авдотье Сергеевне; да у нее и времени не было: она была всецело поглощена, если не уходом за отцом, который редко болел, то постоянной заботой быть ему полезной и отнюдь не оставлять его одного; то читала она ему вслух его любимые французские романы, непременно исторические, особенно из времен Наполеона 1-го, то писала письма под его диктовку или деловые бумаги, или рукодельем занималась, между тем как отец ходил по комнате большими шагами, разбирая прочитанное или о делах толкуя. В этой правильной жизни, полной занятий и внутреннего содержания, росли мы все, не ведая скуки и безделья и никуда не стремясь за пределы родительского дома» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
Сестры, братья – веер чувств и увлечений
«Каждая из сестер имела свое любимое занятие, которому она предавалась по окончании срочных занятий с гувернанткой, а в особенности по окончании курса наук с нею, когда свободного времени было больше, а детские забавы уже не тешили. Тогда, распростившись с "классной" и с учебниками, переходили к другому делу, а именно: помогали матери в занятиях ее: поочередно читали мы отцу газету (любимую его "Северную Пчелу" [28]), сводили счеты под его руководством, писали письма к разным лицам, или просто сидели с ним, чтобы он не томился одиночеством, пользуясь этим временем для занятия любимым рукодельем; у каждой из нас, кроме Нади, было свое. Которая-нибудь ходила гулять с отцом или в поле с ним ездила, подробно описывая ему состояние вспаханной земли, посевов, всходов и т. д. Все это внимательно выслушивал и твердо запоминал отец, что он и доказывал вечером, в разговоре с управителем. Вне этих, так сказать, официальных занятий, каждая из сестер отдавалась своему личному, излюбленному делу.
Я любила в особенности музыку и рисование, с увлечением занимаясь ими во все свободные часы; но слабостью моей, страстишкой ранней молодости (едва 16-летняя) было писание, т. е. слагание стихотворений.
Этим я положительно увлекалась, запершись у себя в комнате по вечерам или засиживаясь в павильоне над сажалкой. Часто доставалось мне от отца за эту слабость, доставалось и намеками и прямыми укорами за эту "дурь", которую следовало выкинуть из головы и заняться хозяйством. Впрочем, других наказаний не бывало у нас. А мне было вовсе не по душе хозяйство, и как мне ни горько приходилось от косвенных и прямых упреков отца, которого я ужасно боялась, а все же я никогда не могла принудить себя заняться хозяйством.
И для того, чтобы избавиться от ненавистного мне дела, я придумала себе новое: я выпросила у отца разрешение заняться обучением меньшего брата моего Коли и крестной сестры Анюты Паромоновой, жившей у нас с детства. Как только мне минуло 16 лет и я освобождена была от занятий с Авдотьей Сергеевной, я принялась за работу: и как охотно исполняла я ее, сначала неумело, ощупью, но чем далее, тем более втягиваясь в свое дело и привыкая к нему и любя его. А по вечерам – писала стихи.
Сестра Лиза, много болевшая в детстве, вследствие этого слабенькая, тихая, кроткая и характером слабая, с удовольствием посещала кухню и даже сама пробовала готовить. Изящная и нежная, она и рукоделья любила такие, которые известны у нас под названием ouvrages de fantaisie.
Люба особенно охотно занималась музыкой и чистыми рукодельями, вроде вязания крючком. Характер у нее был твердый; но иногда она бывала резка до грубости. Она, как и все мы, любила читать. Она отличалась от нас гордостью.
Надя предпочитала всякому другому делу – ходить по избам крестьян и возиться с детишками; точно рожденная в крестьянской среде, она только и жила интересами села и дворни, страдая за меньших своих братьев, т. е. мужиков и дворовых, и, радуясь с ними. Надо было видеть, как сильно влияли на нее все деревенские события, все мелочи крестьянской жизни! Она все переживала вместе с бабами, мужиками и их ребятами, и не только душу свою клала за них, но и отдавала им все свое, до последней копейки и тряпки, снабжая новорожденных, больных, умерших и т. д.
Вера, четвертая сестра, менее всех других оставила во мне воспоминаний: я не помню ни одного живого слова ее, ни искреннего горячего порыва, ни даже вспышки какой-нибудь. Тщеславие было ее слабостью, и только оно было стимулом всех ее поступков с самого детства. Бывала она добра и мила, но огонька в ней не было, что-то было холодное, неосязаемое.
Старшего брата, Константина, прекрасно подготовленного Авдотьей Сергеевной, отвезли с 12 лет в Москву и отдали в один из лучших пансионов, оттуда он поступил в университет на медицинский факультет.
Меньшой брат, Коля, общий баловень и любимец, чрезвычайно добрый, милый и любящий мальчик, долго оставался дома, воспитываемый как девочка, пока, по настоянию Константина, его не отдали в тот же московский пансион, где и старший брат учился до поступления в университет. Но Коля попал не в университет, а прямо в гусарский полк, куда влекла его страсть к лошадям» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
«Дворецкий Иван Павлов»
Слуги русских помещиков… Их характер, особенности их жизни, привычки, причуды, отношения с барином, взаиморасположение и несовместимость. О них писали, и как будто бы немало. И Фирс, и Захар, и Осип… Они мастерски нарисованы Гоголем, Гончаровым и Чеховым. Порой между барином и его дворецким, поваром, доезжачим устанавливались и товарищеские отношения. Эти отменные специалисты – каждый в своей области – превращались в членов расширенной помещичьей семьи.
Бывали случаи, когда своих будущих слуг помещики находили и во время военной службы, пребывая с ними в одном полку. В этих неординарных напряженных условиях много проще было узнать характер однополчанина, проверить в деле и затем пригласить на собственную службу в усадьбу.
«…Незабвенно оно, это далекое прошлое, милое, светлое, улыбающееся и радостное, как весна, в нашем Вознесенском.
Великий пост уже перевалил за половину: в среду, на четвертой неделе совершился "перелом" его, т. е. поста. Солнце быстро уничтожает сугробы снега в саду и осушает лужи во дворе. Уже началась деятельная работа около оранжереи; с некоторых деревьев сняты тростниковые чехлы, путавшие их зимою; из парников выходит свежий пар, теплый, почти душистый. Приближается Вербная неделя; на этой неделе любит говеть моя мать, это вошло в привычку, изменить которую было бы ей неприятно. К тому же и погода тогда сноснее становится, совсем весенняя; грязи почти нет, а снегу остается, как говорилось у нас, только на лекарство.
Во время говенья всенощная служится всегда у нас в доме, и приготовлением к службе распоряжается дворецкий Иван Павлов, находившийся при отце еще во время службы его в гвардейском полку; в этом старинном слуге нашем сохранился лоск, приобретенный долговременным пребыванием в Петербурге и службою в богатом барском доме. Вследствие чего фраза: "как бывало у нас в Петербурге" не сходит у Ивана с языка. Он заботливо охраняет и соблюдает обычаи и предания старины, никогда не упуская случая щегольнуть изяществом и изысканностью выражений.
Чистенько одетый и гладко выбритый, кругленький, приятно улыбающийся или степенно важный при исполнении обязанностей, Иван старается проявить во всем тонкую деликатность и столичную образованность, с подобающей округленностью манер: входя в комнату, одну ногу выдвинет вперед и, чуть-чуть склонив голову набок, он мягко произносит: "Я уже изволил докладывать вам, что батюшка пожаловали; прикажете приступать?" и, получив утвердительный ответ, он отступает одной ногой назад и осторожно, чуть касаясь пола, задом выходит из комнаты.
Только выйдя за дверь, он позволяет себе принять более непринужденную позу. В продолжение всей службы Иван стоит впереди прочих слуг, столпившихся в дверях, и по временам бросает по сторонам беспокойные взгляды, как бы желая удостовериться, все ли обстоит в надлежащем порядке. Затем он учащенно кивает головой, крестясь по-господски маленькими крестиками и не теряя из виду священника, чтобы подметить, когда ему понадобится кадило подать или что другое потребуется» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
Повар Фома – еще от «коренных господ»…
«В субботу мать приобщается Святых Тайн, и только по совершении этого великого таинства чувствует себя вправе заняться исключительно домашними делами и вернуться к обычному строю жизни. Первая на очереди забота об оранжерее, теплице, парниках, словом, обо всем этом милом ей уголке сада; надо потолковать с садовником о цветах и растениях для убранства пасхального стола: оттуда – влечет ее в кухню, побеседовать с главным поваром Фомою Антоновым о существенных приготовлениях к празднику.
Фома – уроженец Полтавской губернии из Санжар служил у дедушки Андрея Федоровича, потом достался в приданое моей матери, с которою, в числе многих других, приехал из Малороссии; он очень гордился своими "коренными господами", т. е. дедушкой и бабушкой. Вид у него угрюмый и недовольный, улыбка редко появляется на жирном, смуглом лице его, но мрачность эта напускная, для того больше, чтобы не уронить своего достоинства. На самом же деле он великий балагур и шутник, а в сумерки, "за воротами" любит пустить пыль в глаза дворне или серьезно потолковать "о политике" с Иваном Павловым, которого он уважает и считает не ниже себя.
Но перед Пасхой, как и в других важных случаях, Фома не увлекается никакими беседами и весь погружается в свое дело, вспоминая при этом о дедушкиных пирах. "Что ж, Фома, как ты думаешь?" – обращается к нему мать моя, входя в кухню. Фома угрюмо молчит. "Довольно ли будет четырех окороков?" – не смущаясь продолжает мать допрашивать своего старого любимца, нрав которого ей издавна знаком. "Мне что думать? Что прикажете, то и сделаю", – отвечает Фома мрачно, глядя куда-то в сторону. "Да ты говори толком, ведь гостей много будет!" – слегка волнуется мать.
Фома презрительно улыбается, продолжая глядеть куда-то вдаль: "У папеньки вашего и не такие гости бывали, а справлялись же!" – "То было дело при папеньке, а ты про наше говори: сколько чего надо…"
И таким способом удается матери мало-помалу заставить Фому высказаться, а на самом-то деле Фома никогда не простил бы барыне, если бы она не зашла с ним посоветоваться насчет такого важного дела, как приготовления к Пасхе. По заведенному исстари порядку или, как в шутку выражалась мать моя, "по закону Моисея", Фоме следовало специально заниматься приготовлением к Пасхе.
С понедельника Страстной недели начинается постоянное движение между черным крыльцом господского дома и кухней: булочница Анисья подолгу дежурит около кладовой, в ожидании экономки или очереди своей; забравши, наконец, провизию, она еще несколько раз откомандирует из дома девчонку, данную в подмогу ей, чтобы взять еще что-нибудь, упущенное из виду.
Помощник повара, в числе прочих, томится у входа в кладовую и, выхватив свой кулечек из рук захлопотавшейся экономки, стремглав убегает в кухню, к Фоме, который, ничем не смущаясь и не суетясь, готовит все, что следует, и очень важно распоряжается в своих владениях, где не признает никого выше себя, и ни для кого не отрывается от дела» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
Паромов – бывший учитель и нынешний гость
В России, как правило, в небольших губернских, уездных городах, а также и в близлежащих, окружающих их усадьбах роль школьного, гимназического педагога на всем протяжении XIX века и вплоть до Первой мировой войны была крайне важной. Проходили годы, а несколько постаревшие учителя так и продолжали обучать юных отпрысков – детей своих бывших учеников. Подобная преемственность иногда достигала и трех, и даже четырех поколений. Но чем же объяснялся подобный наследственный выбор педагога? Молодой помещик, пройдя курс наук, хорошенько узнавал и самого учителя. И если тот отвечал его требованиям, то иного наставника нельзя было и пожелать. Вот так и появлялся, подобно семейным врачам, и семейный учитель.
Часто вчерашний педагог сегодня становился другом, своим человеком в господском имении. Мог жить там на правах почетного гостя неделями и месяцами. Причем он так и оставался на всю жизнь духовным наставником.
Если же учитель обладал даром красноречия или попросту был веселым и азартным рассказчиком, то цены ему не было. А потому учителя фактически и не могли быть в отставке, оставаясь на всю жизнь востребованными и желанными гостями.
Высокий статус учителя сопровождался и любовью к книгам. Сколько прекраснейших журналов и книг выписывали тогдашние провинциальные помещики: «Старые годы», «Ниву», «Аполлон», «Столицу и усадьбу». Что же касается собраний сочинений Гоголя и Пушкина, Лермонтова и Аксакова, Достоевского и Алексея Толстого – это были те издания, которые чуть ли не каждый вечер снимали с полки и предавались сладостным часам уютного домашнего чтения вслух.
«Во вторник, опять-таки по заведенному издавна обыкновению, отдается приказ в контору, чтобы распорядились отправкою тарантаса, с дежурным кучером и лошадьми в "губернию" за неким Паромовым, без которого у нас немыслима Пасха. Паромов был когда-то учителем в уездном училище; известны о нем следующие подробности: был хорошим учителем, исправен по службе и добр для детей; главными его качествами были смирение и почтительность к старшим, которые благоволили к нему; дети же очень любили его.
Выйдя в отставку и похоронив любимую жену, он большую часть года проводил в гостях, то у одного, то у другого богатого помещика, из которых многие были его учениками; и везде Паромов был желанным гостем, любимым собеседником. Его присутствие в доме никого не стесняло; в случае интимной беседы он незаметно стушевывался. Уменье хранить тайну, постоянное старание быть полезным и неподкупная честность делали Паромова необходимым человеком в каждой семье. Его страсть к охоте (он был замечательный стрелок) сблизила его со многими барами, псарями и охотниками, которые скоро сходились с ним и чрезвычайно дорожили Василием Матвеевичем.
Как опытный охотник и неутомимый рассказчик, знающий кучу анекдотов из охотничьей жизни и умеющий передавать их остроумно, он бывал принят с распростертыми объятиями во всех домах, где водились охотники.
Наружность Паромова была совсем неказистая; чужому человеку было бы затруднительно определить его лета, хотя бы приблизительно; с самых давних пор помню я Василия Матвеевича старым и некрасивым; но и товарищи его молодости помнят его таким же. Цвет кожи на лице его и на руках – темно-коричневый; невозможно было бы с точностью определить очертания его лица и цвета глаз: что-то насквозь прокопченное дымом дешевого табаку, в облаках которого вечно скрывалась его старческая фигура, точно окутанная пеленою. В его костюме не замечалось никаких признаков белья; никто и никогда не видел его купающимся в реке; да и вообще мытья и мыла всякого рода он не жаловал.
Но несмотря на свою некрасивую и неизящную наружность, Паромов был женат, и даже на молоденькой и хорошенькой девушке, совершенно бедной, но обладавшей прекрасным характером и верным куском хлеба: она была акушерка. Несколько лет прожили они вполне счастливо и дружно; но с рождением пятого ребенка жена умерла, оставив на руках несчастного мужа четырех мальчиков и одну девочку, Анюту, крестницу моего отца, который взял ее к нам в дом после смерти ее матери, а мальчики остались при отце.
В "губернии" был у Паромова собственный дом, очень порядочный и дававший доход; при доме – небольшой сад, в котором по целым дням копошился бедный вдовец со своими мальчуганами. Половина дома, занимаемая хозяином с семьей, давала некоторое понятие о Ноевом ковчеге: в угловой комнате спала вся семья и все собаки, иные с потомством; кроме того, кошки с котятами, белки, кролики и т. д.
В гостиной были развешаны клетки с разными птицами, преимущественно соловьями, до которых Паромов был большой охотник, так что даже для питания их он специально разводил в кухне тараканов, расползавшихся затем по всему дому. Была в доме и небольшая зала, уставленная стульями и увешанная клетками; на обычном месте стоял инструмент, фортепьяно красного дерева, замечательный тем, что был фабрикован собственноручно Василием Матвеевичем с помощью лишь перочинного ножа; кажется это невероятным, но было несомненно, и мне самой не раз случалось бренчать на этом милом фортепьяно.
Около, на стене, висела гитара, на которой, как и на фортепьяно, любил подбирать знакомые мотивы в минуты тоски сам хозяин дома.
Да, этот невзрачный человечек имел поэтическую душу и мягкое, любящее сердце, любил чтение и много читал; он многого добился своим умом, жаждою знания и большим терпением; любознательный и наблюдательный, он ничего не упускал из виду, а многое ловил на лету; музыку же любил страстно и понимал ее» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
Конечно, среди дисциплин, преподносимых юным отпрыскам домашними учителями, были и уроки музыки, пения, танцев. Нередко в дом приглашали и художников. Дети занимались лепкой, рисованием, вырезали по дереву. А в знании русских народных орнаментов не уступали и крестьянским детям. Причем родители и не ставили целью сделать из своих детей музыканта или художника. Важнее было другое – привить ребенку хороший вкус, чувство формы, основы музыкальной грамоты.
«У нас в городе еще прибавляются занятия с учителями рисования и танцев.
Учитель рисования был почтенный Иван Андреевич, добрый, смирный человек, в жилетном кармане которого торчали серебряные часы луковицей, таких огромных размеров, что каждый раз, как он наклонялся над нашими рисунками, в ушах у нас отдавалось такое оглушительное тик-так, что мы невольно переглядывались между собой и тихонько посмеивались.
Два раза в неделю, вечером, приходил учитель танцев Фома Антонович, маленькая, подпрыгивающая, точно гуттаперчевая фигурка, со скрипочкой в руках; он выделывал мудреные па, наигрывая какой-нибудь веселый мотив и пискливо командуя: chassez en avant!etc. Но нас он не путал, и урок проходил весело» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
Управитель имением
В конторе наряд [29]начинается в восемь часов, и небезынтересно посмотреть на всю эту обстановку, в которой управитель, согнувшись над конторскими книгами и сурово сдвинув брови, является если не Юпитером громовержцем, то по меньшей мере министром внутренних дел.
«Эй, ты, Иван! Сколько за тобой недоимки числится?» Подходит маленький мужичок и в пояс кланяется: «Вам лучше знать, батюшка; только уж потерпите маленько, все как есть отдам… справлюсь… года какие были!» – «Ладно, знаем мы вас…» Мужичонка отходит к стороне. «А тебе что надо?» Выдвигается вперед рослый молодой парень: «К вашей милости, жениться желаю». – «А это нам кстати!» – и управитель шепчет что-то приказчику, который уходит в соседнюю комнату, так называемую сборную избу, где ожидают просители, и возвращается снова в контору в сопровождении нескольких крестьянских парней и молодых девок из дворни, которых ставят группою у двери.
«А, девицы ткачихи!» – приветствует их управитель, обращаясь преимущественно к одной, отличающейся маленьким ростом и хорошеньким личиком, почти детским. Взоры ее не опустились перед взорами владыки, и смеющиеся глазки вызывающе устремлены на управителя, который приступает к делу: «Вот для чего я пригласил вас сюда: как вам известно, барин, по дошедшим до него слухам, давно недоволен вашим поведением; вместо того, чтобы заниматься своим делом у ткацкого станка, вы по целым дням балуетесь с садовниками и с другими ребятами в саду; и сами ничего не делаете и других от дела отвлекаете. Я получил приказ выдать вас всех замуж за крестьянских ребят. Вас тут четверо, вот и жениха четыре».
В кучке девушек послышался сдержанный смех: ни тени негодования или досады, ни малейшего протеста. Зато парни громко возроптали: какие, мол, они работницы для нашего брата мужика, не нужно нам их и т. д. Но ловкий приказчик уговаривает недовольных и с видимым удовольствием расставляет девушек с парнями.
Тогда маленькая ткачиха, взглянув на назначавшегося ей в супруги рослого и здорового парня, смело обратилась к управителю: «Лучше бы вы мне того маленького паренька дали, он бы мне и по росту подошел, а этот уж велик очень». Все расхохотались, и маленький, такой же как она, хорошенький мальчик лет девятнадцати стал в паре с нею.
«Вот теперь ладно будет: он на дудке играет, а я на кувичках [30], весело заживем». Управитель написал несколько слов на клочке бумаги и подал приказчику: «Отнеси к священнику и проси, чтобы завтра же повенчали всех». Затем все четыре пары удалились, и издали слышался звонкий смех и веселые песни. Странно было сватовство, но еще страннее то, что все четыре пары прожили в ладу до преклонных лет. Вот и разбирай как знаешь…» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).
Буфетчик и цирюльник Николай Павлов
Среди помещичьей дворни встречались и люди, обладавшие немалыми талантами, которые замечались барином и всячески развивались. И с годами человек становился профессионалом. Так, например, случалось с крепостными художниками, зодчими, актерами. Их умение было всегда в ходу. И уж конечно, в сельской местности было немало людей, знавших лечебные травы. Так что при соответствующих навыках, наблюдательности и смекалке из них выходили неплохие специалисты. И если эти крестьяне не получали никакого образования, они, благодаря природному усердию, трудолюбию все же добивались известного мастерства. А люди, вылеченные ими, оказывались лучшей тому рекламой.
«…Между тем в контору входит новое лицо: буфетчик Николай Павлов, родной брат дворецкого Ивана. Это чрезвычайно благообразная фигура, с серьезным, даже строгим лицом, по которому временами как бы скользит ироническая улыбка. В ранней молодости он был отвезен в Петербург и отдан в обучение парикмахеру; он скоро выучился своему мастерству, вернулся домой прекрасным парикмахером и искусным цирюльником. Никто лучше его не дергал зубов и не пускал кровь и не обладал при этом таким серьезным хладнокровием.
При исполнении своих цирюльничьих обязанностей, в деревне и в городе, Николай нередко сталкивался с докторами и фельдшерами, от которых набрался кое-каких знаний, и затем начал лечить сперва членов собственной семьи, потом соседей из дворни, потом крестьян и хуторян наших, и, наконец, к нему начали приходить из других сел и деревень люди, горячо веровавшие в его медицинские познания.
Он вовсе не был шарлатаном и лечил крайне осторожно; главную же роль в его медикаментах играли травы, которые он собирал сам и несколько таинственно, никому не поверяя своих научных открытий. Каждому, обращавшемуся к нему, он сумел внушить доверие и глубокое уважение к своей серьезной личности и многосторонним знаниям, а также и к добросовестному отношению к делу. Словом, он был в целом околодке авторитетной личностью, а если подчас, среди своих людей, он рассказывал эпизоды из своей жизни в Петербурге, – он был уверен, что его слушают с почтительным вниманием и слепо верят ему.
Николай был умен и любознателен и многого добился сам; одно не давалось ему, и это мучило его: увидеть цвет папоротника и сорвать его для своей аптеки. Легенда гласит, что цветок этот можно видеть только раз в год, а именно в полночь на Ивана Купала, и что если кому удается овладеть этим редким цветком – то ему дается власть, посредством цвета папоротника, прозревать в недра земли, видеть все скрывающиеся там клады и беспрепятственно завладевать ими.
Ничем не смущаясь и не унывая, Николай ходил неизменно каждый год, в ночь под Ивана Купала, в ближайшую рощу подстерегать расцветание папоротника; разумеется, никогда ничего не видел, но очень спокойно возвращался домой, с полной уверенностью увидеть драгоценный цветок в следующем году. Таким образом продолжал он добиваться своей цели, совершая таинственные ночные прогулки до самой старости, и по всей вероятности, будет совершать их до смерти. Он так привык верить в свое всезнание, что на всякий, предлагаемый ему сомнительный вопрос, отвечал, не колеблясь: "Отчего же? Можно".
Так что, когда однажды брат Константин, будучи еще студентом, спросил его с самой серьезной миной: "Ты можешь ли Левиафона [31]на уде вытащить на брег?" – Николай отвечал, не задумываясь: «Отчего же? Можно». Только взрыв смеха кругом дал ему понять, что он промахнулся, но он и тогда не рассердился, не оконфузился, а только спокойно смеющимися глазами взглянул на брата, решив про себя, что он добьется: что такое Левиафон?» ( Мельникова А.Воспоминания о давно минувшем и недавно былом).