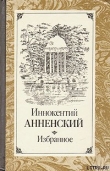Текст книги "Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века"
Автор книги: Сергей Охлябинин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
«Лежёнь, мой сосед и орловский помещик»
Интересно, что среди российских помещиков встречались и иностранцы – швейцарцы, немцы, англичане, но чаще всего французы. Одни из них достигли русских пределов с армией Бонапарта и быстро обрусели. Другие же, как правило роялисты, бежали от террора французской революции.
«..Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке.
– А, Франц Иваныч! – вскрикнул Овсяников: – Здравствуйте! как вас Бог милует?.. Франц Иваныч Лежёнь (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный m-r Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика "de la grrrrande armée" уважить их, то есть нырнуть под лед. M-r Lejeune не мог согласиться на их предложение и в свою очередь начал убеждать смоленских мужичков, на французском диалекте, отпустить его в Орлеан. "Там, messieurs, – говорил он, – мать у меня живет, une tendre mere". Но мужички, вероятно по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Шилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежёня, раздался звук колокольчика, и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вяток. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе.
– Что вы там такое делаете? – спросил он мужичков.
– А францюзя топим, батюшка.
– А! – равнодушно возразил помещик и отвернулся.
– Monsieur! Monsieur! – закричал бедняк.
– А, а! – с укоризной заговорила волчья шуба, – с двунадесятью язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь – мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука… Пошел, Филька-а! Лошади тронулись.
– А, впрочем, стой! – прибавил помещик… – Эй, ты, мусье, умеешь ты музыке?
– Sauvez moi, sauvez, mon bon monsieur! – твердил Лежёнь.
– Ведь вишь, народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Компренэ? Савэ мюзик ву? на фортепьяно жуэ савэ?
Лежёнь понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой.
– Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles! Oui, monsieur… Sauvez moi, monsieur! [12]
– Ну, счастлив твой Бог, – возразил помещик. – Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку.
– Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.
Лежёня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.
– Вот, дети, – сказал он им, – учитель вам сыскан. Вы всё приставали ко мне: выучи-де нас музыке и французскому диалекту: вот вам и француз, и на фортопьянах играет… Ну, мусье, – продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за пять лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном: – покажи нам свое искусство: жуэ!
Лежёнь с замирающим сердцем сел на стул: он отроду и не касался фортепьян.
– Жуэ же, жуэ же! – повторял помещик.
С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану заиграл, как попало… "Я так и думал, – рассказывал он потом, – что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому". Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. "Хорошо, хорошо, – промолвил он, – вижу, что знаешь; поди теперь, отдохни".
Недели через две от этого помещика Лежёнь переехал к другому, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел.
Вот этот-то самый Лежёнь, или, как теперь его называют, Франц Иваныч, и вошел при мне в комнату Овсяникова, с которым он состоял в дружеских отношениях…» ( Тургенев И. С.Однодворец Овсяников).
Глава вторая. Былых причуд лукавые загадки
Расцвет русской усадебной архитектуры пришелся на XIX столетие. Каких только стилей не довелось лицезреть среди помещичьих построек и конечно же уютной дворянской меблировки! Всё испробовали в своих усадьбах их владельцы. Зодчие строили дома и в стиле «русской готики», и в «помпейском вкусе», что стало особенно модным и популярным в период раскопок в Геркулануме и Помпеях в первой трети XIX века.
Помпейский стиль получает второе рождение не только во внешнем облике усадебных зданий, но и во фрагментах и деталях внутреннего убранства. Причем под обаяние этого древнего искусства попадали не только заказчики – русские помещики, но и сами зодчие – А. Брюллов и А. Штакеншнейдер, А. Воронихин и Ж. Тома-де-Томон, И. Жилярди. Гостиные в их собственных домах были выдержаны в этом притягательно-древнем ключе.
А в 30-х годах XIX века Александр Брюллов создает уникальный проект помпейских интерьеров – Малую, или Помпейскую столовую в Зимнем дворце.
Вот как описывал свое впечатление от воплощенного проекта современник А. Брюллова, некто А. Башуцкий [13]: «Это небольшая, но прелестная комната… есть единственная в Европе по способу отделки… Брюллов перенес сюда помпейское искусство во всей его очаровательности, характер неизменно выдержан от главных частей до подробностей, до превосходной мебели чисто греческого стиля… В маленькой столовой нет золота. Но она от того не менее драгоценна и составляет один из прекраснейших цветков роскошного букета, связанного с А. П. Брюлловым».
Усадебных застройщиков в России увлек и такой стиль, как неоренессанс. У нас, на русской почве, он трактовался очень широко и свободно – от романтического и «декоративного» понимания до точного копирования конкретных памятников архитектуры. Этот новый стиль, вольготно прижившийся на русской почве, стали называть «а la Renaissance».
И, пожалуй, единственным зодчим, умело преподнесшим его отечественным заказчикам, оказался А. Монферран. Энергичный и талантливый [14]француз, прибывший в Россию в 1816 году, использует элементы Ренессанса при оформлении городской усадьбы П. Н. Демидова в Петербурге (1830) на Большой Морской. В частности, он включает в отделку фасада крупные русты, которые напоминают квадры каменной кладки древних палаццо времен итальянского Ренессанса.
С не меньшим воображением решает он и архитектуру дома в петербургской усадьбе княгини Гагариной. Так, на фасаде появились три горельефа великих художников итальянского Возрождения.
Занимаясь усадебной архитектурой, Монферран обставлял и помещения соответствующей ей мебелью.
Хотя стиль и оставался ренессансным, но истинно монферрановский почерк зодчего легко было узнать. Маэстро решительно включал в декор кушеток, кресел и изысканных туалетных столиков сложнейшие орнаментальные и сюжетные мотивы.
Правда, провинциальному дворянству было не по карману заказывать подобные проекты мебели, поэтому приходилось обходиться работой собственных домашних умельцев-крепостных. Пусть элементы такой мебели и были много проще, но общий стиль, лихо подхваченный зорким глазом местного умельца, точно выражал желание дворянина.
В середине XIX века владельцев усадеб начинает захватывать новое увлечение. Архитекторы, художники и историки архитектуры и декоративного искусства награждают его термином, так называемым «вторым рококо».
Особенно заметно это веяние отразилось на убранстве интерьеров и мебели. Этот стиль явился своеобразным откликом, отзвуком на быстрое внедрение новых машин и механизмов в производство. Бурно развивается класс буржуазии, появляются новые господа с новой психологией – энергичные, деятельные, но без особых эмоций, приземленно-практичные и, как правило, не обладающие ни отменным вкусом, ни классической образованностью, ни наследственным воспитанием. Так что именно они-то, с умением используя промышленное производство, лихо штампуют «недорогую роскошь», эдакий «антиквариат для всех».
«Недорогая роскошь» или раритеты родовых гнезд?
Быстро обойдя доходами старинное русское дворянство, новые властители производства умело распространяют эту ультрамоду не только в Европе.
Интерес ко «второму рококо» проявился очень рано и в России. И конечно же первое отражение нового стиля появилось в мебели и интерьерах. Это течение было подхвачено в России фирмой братьев Гамбс, изделия которых для современников были символами красоты, комфорта и респектабельности.
Причем реклама, метко угождая вкусам новых властителей державы – русских буржуа, церемонно предлагала полтора века тому назад «…небольшой, но в полном смысле изящный будуар во вкусе обновления искусства…». Были, естественно, и совсем уж тщедушные зазывальни: «…господин Пети обобьет мебель во вкусе Людовика XIV и XV, недорого». О большом количестве заказов на новую обстановку и мебель для усадебного дворянства и набирающей силы буржуазии говорит нам и неимоверное число мастерских, фабрик, а также и именных поставщиков. Наибольшее их число приходится на XIX век.
Интересно, что и сам стиль «второе рококо» в разных руках мастеров-декораторов, зодчих, лепщиков, резчиков и выглядел-то по-разному. То, что называлось «недорогой роскошью», хотя нередко и стоило немалых денег, было все-таки ширпотребом, предметами для нуворишей.
А вот старинное русское дворянство и обедневшая аристократия предпочитали пользоваться своей еще прадедовской мебелью и пребывать в фамильных интерьерах. Так что многие из них вступали в XIX век, надежно экипированные убранством прежних веков, устоявшим от новых веяний моды. Тем более что у многих и средств-то не было на переоснащение.
Те же из дворян, кто пожелал удачно вписаться в новый, промышленный уклад жизни, примеряли к своим апартаментам и «второе барокко». Но уж, по правде сказать, не полагался при этом на вкусы мастеров, а сам лично диктовал им свою и, как правило, высокохудожественную моду. И чем богаче было воображение у помещика, тем смелее он отходил от новых, пусть и устоявшихся канонов.
Но чем же все-таки увлекали заказчиков в течение четверти века эти стилевые причуды нового стиля? Одним оно создавало ощущение домашнего покоя и комфорта. Другим позволяло чувствовать себя более респектабельными, эдакими денди, петиметрами. Истинному же, столбовому дворянину, пусть и скромного достатка, «второе рококо» позволяло заглянуть не в сумеречное завтра, а в некое романтическое, прадедовское прошлое и еще больше замкнуться в уютных, пока еще сохраняющихся родовых гнездах.
Удивительное дело, но к 20—40-м годам XX века почти не оставалось в архивах, музейных запасниках, исторических библиотеках и краеведческих музеях эскизных проектов былых русских усадеб и их меблировки, разработанных еще в начале и конце XIX века архитекторами А. Брюлловым, А. Штакеншнейдером, К Ухтомским, И. Монигетти, не говоря уже об эскизах интерьеров и мебели художников В. Васнецова, В. Поленова, С. Малютина, княгини М. Тенишевой.
Зато характер типовой меблировки дворянских поместий середины XIX столетия известен доподлинно. И все лишь потому, что интерьеры той поры, уже осуществленные и действующие, оказались интересны акварелистам. И так уж получилось, что одни зодчие интерьеры создавали, а перерисовывали их другие. Делали это с любовью и со знанием дела, как коллеги по профессии. Были и те, кто копировал интерьеры по заказу, чтобы оставить в памяти владельцев, на всякий случай. Так что благодаря такой предусмотрительности можно и сегодня увлеченно рассматривать педантично исполненные акварели интерьеров и экстерьеров городских и сельских поместий, искусно исполненных такими мастерами, как Э. Гау, В. Садовников, Л. Премацци, К. Ухтомский.
Все изображенное прописано настолько четко и подробно, что все предметы обстановки при необходимости нетрудно было бы и воссоздать.
В ту пору в дворянских гостиных можно было обнаружить так называемые оттоманки (мягкие диваны с подушками, иногда заменяющими спинку, и двумя боковыми валиками) и ночники, шезлонги (мягкие удлиненные кресла, в которых можно было полулежать), «дос-а-досы», пате (то есть сиденья по кругу), «лежанки-дюшес» (низкие глубокие кресла, снабженные специальными приставными элементами для ног).
Правда, пате (от фр.pate – пирог), изобретенные в середине XIX века и сразу же вошедшие в моду, все-таки широкого применения не нашли. Несмотря на отменность пропорций, удобный отвал спинок и уют пышных зеленых крон, широкими зонтиками, опахалами ниспадающими над головами сидящих, эти диковинные изобретения занимали много места. Ведь они могли располагаться только по центру залов, гостиных. Поэтому подобные изысканные предметы меблировки редко применялись в дворянских, особенно сельских усадьбах, за исключением лишь особо пышных и знаменитых. И только в Аничковом дворце, в Парадной и Малиновой гостиных Александровского дворца, в помещениях Зимнего это изобретение «второго рококо» могло пленять взоры приглашенных.
Обрусевшие турецкие причуды – оттоманка, конфидант
Другое дело – оттоманка! Она была удобна, проста и уютна и как нельзя лучше соответствовала характеру именно русского дворянина. Какими только формами этот мягкий и низкий диван не обладал! Впервые явившись к нам из страны янычар еще в XVIII веке, эта турецкая софа со всей своей прытью перекочевала и в XIX столетие. А в 50-е годы стала особенно популярной. Зодчие и поставщики мебели были завалены заказами на круглые, прямоугольные и даже восьмиугольные оттоманки. Каркас такой мягкой мебели был надежно укрыт плотной суровой тканью, как правило, с орнаментально-геометрическим, изысканным, истинно-турецким рисунком. Покоились эти уютные безбрежные ложа на крепких изогнутых ножках либо зиждились на простецких основаниях-подиумах.
И конечно же непременной особенностью таких популярных изделий были тугие подушки и плотные цилиндрические валики, украшенные с торцов яркими, красочными кистями.
Оборотистые поставщики нередко предлагали вместе с мебелью дополнить заказ колоритной турецкой одеждой – шальварами и знаменитыми турецкими фесками изысканных, насыщенных тонов (малинового, пурпурного, зеленого), увенчанных темными шелковистыми кисточками из витых нитей.
Именно в те годы стали появляться акварели с изображенными на них владельцами поместий. Они возлежали в небрежно-задумчивых позах на оттоманках. То были изумительные портреты в обрамлении турецкого ореола – среди маленьких подушек с замысловатым рисунком, с чубуком в руке и в фесках. Правда, восточный головной убор надет был непременно по-русски, то бишь на затылок. Среди работ выделялись акварели кисти Григория Гагарина, сына знаменитого дипломата и приятеля Михаила Лермонтова.
Среди обрусевшей турецкой мебели были еще и так называемые «кутаные» оттоманки, у которых деревянные детали скрывались под обивкой. Часто их покрывали восточными коврами и украшали изысканной бахромой. Чаще всего при меблировке помещений в усадьбе архитекторы резервировали для них пространства курительных комнат или совсем небольшое уютное место в рабочих кабинетах хозяина. Тем более если кабинет решался в восточном духе, то, безусловно, без турецких предметов – оттоманок, пуфов, этажерок и особых шкафчиков – было просто не обойтись. Часто зодчие рекомендовали использовать в рабочих кабинетах стилизованную персидскую, ливанскую и даже японскую мебель, кстати, очень легкую и трансформируемую.
Увлечение оттоманками коснулось и обстановки дворцовых покоев. В конце 50-х годов XIX века оригинальную конструкцию этих изделий можно было обнаружить и в Царскосельском дворце, а именно—в Турецкой комнате царя-освободителя Александра II.
Если обрусевшие оттоманки (кстати, просуществовавшие в России вплоть до середины XX века) располагали к уютному отдыху, сну и курению, то конфиданты использовались для долгих, увлекательных и замысловатых бесед. К примеру, многоместный конфидант являл собой диван либо даже сдвоенный диван с общей спинкой, она снабжена была небольшими экранчиками-перегородками, которые разделяли беседующих – одну пару от другой. У конфидантов были деревянные ножки и удобные спинки. Появившись еще в 30-е годы, уже к середине века этот вид усадебной мебели становится непременным атрибутом интерьеров дворянских усадеб.
Тет-а-тет и визави
В меблировке дворянских усадеб особое внимание уделяли подбору кресел и стульев. Причиной тому было большое число гостей, пребывавших в усадьбах. Ведь всех необходимо было удобно разместить. Для застолий использовали один тип стульев, для карточной игры – иной, для отдыха гостям нужны удобные кресла. Для бесед предпочитали канапе: «тет-а-тет» (tete-a-tete) или «визави» (vis-a-vis).
Уютно разместившись на них, можно было вести не столько деловой разговор, сколько светскую беседу.
Эти оригинальные канапе имели не только удобные сиденья, но и своеобразные спинки – в виде буквы «S». Ножки этих изделий дополнялись крохотными колесиками, что позволяло без труда перекатывать мебель в нужную часть зала или гостиной.
Подобные «тет-а-тет» можно увидеть, например, на акварелях П. Ф. Соколова. Это диковинное изделие изображено в Голубой гостиной барона А. Л. Штиглица.
Русские архитекторы и мастера мебельных производств умудрялись создавать даже трехместные «тет-а-тет». Кроме того, в меблировке усадебных гостиных начинают применять и быстро входящие в моду сдвоенные кресла. За компактность и небольшие размеры они получают среди проектировщиков и поставщиков название «сиамских близнецов».
Пудрёз и столик-бобик
Особое, знаменательное место в усадьбах занимали столы. В гостиных размещали игорные, в кабинетах хозяев имений – рабочие. Здесь же при книжных шкафах использовались и специальные консольные доски. Они выдвигались из шкафов и служили для временного размещения снятой с полки книги.
В дамских будуарах располагались маленькие изящные столики с изогнутыми ножками, предназначенные для рукоделия. Под самой крышкой столика (кто бы мог подумать, что она поднимается на скрытых петлях?!) искусными краснодеревщиками была предусмотрена глубокая емкость в виде перевернутой и усеченной деревянной пирамидки для хранения всех многочисленных мелочей и необходимых предметов для рукоделия. По периметру в подстолье поражал воображение целый сонм крохотных ящичков, лоточков и многообразного назначения емкостей для хранения необходимых мелких инструментов, иголок, катушек, булавок и иных важных вещиц.
Непременным атрибутом дамской спальни был небольшой туалетный столик – table de toilette,который позднее получил название «пудрёз» ( poudreuse). А порой в этих же дамских покоях появлялся совсем маленький переносной (либо перекатной) «столик-бобик», терпеливо ожидавший, когда же понадобится он госпоже.
Свое название эта крошка получила благодаря очертанию крышки стола, напоминающей плод боба. Служил он для написания писем и записок. Иногда им пользовались для ведения дневников. А порой на нем подавали и завтрак.
Тайны секретера
В будуарах нелишним был и дамский письменный столик. Но, пожалуй, самым тайным в спальне дамы считался секретер либо изящное бюро. Секретер представлял собой небольшой шкаф вертикальных пропорций с семью – девятью выдвижными ящиками, украшенными нередко инкрустацией, бронзовыми ручками, рельефными вставками по фасаду секретера. Верхнюю же горизонтальную плоскость шкафчика-секретера украшала белая мраморная доска.
Иногда мастера-краснодеревщики делали два-три верхних ящика ложными. Хотя их лицевая поверхность никак не отличалась ни формой, ни пропорциями от настоящих, выдвижных. Нажатием тайной пружины либо поворотом ключа у ложного ящика открывалась верхняя часть секретера. И в считаные секунды оборотная сторона этих ложных (как правило, трех) ящиков превращалась в консольную горизонтальную плоскость – доску или пюпитр для письма. А прямо над ней, но уже внутри секретера, дама могла рассмотреть нужные ей в данный момент ящички различных размеров и назначения: для писчей бумаги, конвертов, марок, дамских ожерелий, кулонов, брошей, серег, колец.
Но если дама отдавала немало времени и литературным опусам, а тем более сочинительству, то она обзаводилась картоньеркой – шкафчиком для бумаг.
Существовали бюро и секретеры и в рабочем кабинете хозяина, но больших размеров и с большим числом различных ящиков и полок. Их изготавливали из палисандрового или фиалкового дерева. Чаще их проектировали П-образной формы. Небольшая стенка психологически изолировала работающего и настраивала на деловой лад.
Кроме того, в усадебных гостиных и обеденных залах в середине XIX столетия устанавливали столы с прямоугольными или круглыми столешницами на S-образных ножках. Использовали также и вспомогательные столы небольших размеров, размещенные в этих же помещениях.
Для «второго рококо» характерны также и так называемые столы-консоли. Традиция их использования в XIX веке пришла из XVIII века. Эти дополнительные плоскости выполнялись из ореха, красного дерева. Иногда применяли и крашеную или офанерованную березу с последующим нанесением декора. Для создания большей парадности зала консоли украшали мраморными столешницами. И на них устанавливали бронзовые с позолотой настольные часы, хрустальные либо фарфоровые вазы, серебряные канделябры и т. п.
Штакеншнейдер – оранжировка усадебного быта
К числу наиболее интересных решений в стиле «второго рококо» относятся проекты А. И. Штакеншнейдера, диапазон которых достаточно обширен. От скромных усадебных построек и их меблировки до усадьбы в Петергофе наследника престола цесаревича Александра Николаевича и его супруги.
Небольшому двухэтажному особняку с блистательно отделанными интерьерами зодчий посвящает семь лет жизни (1843—1850). И если кабинет представал пред взором наследника престола в деловой строгости рабочего пространства, то гостиная, спальня, ванная комната буквально зачаровывали и настенными росписями, и тканями в богатом обрамлении рам, украшенных изысканной резьбой и лепниной.
Мастерство Штакеншнейдера выразилось и в решении ложа в спальне. Над ним возносился резной балдахин, украшенный деликатными складками драпировки. И даже крохотные тумбочки, значимость которых была столь же мала, как и их размеры, тоже поддерживали общий ансамбль – были затянуты аналогичной тканью. Цветовой отклик они находили и в тканевой декорировке стен.
В ванной комнате зодчий удачно разместил туалетный столик, задрапированный кружевами с рюшами и бантами; зеркало в фарфоровой раме, обрамленной цветочным орнаментом. Но что характерно – мебель туалетной комнаты, предложенная талантливым зодчим для супруги наследника престола, стала в середине XIX века популярна и в среде дворянской России. Хотя в рядовых усадьбах помещики и не могли себе позволить затраты великой княгини, но вот сам принцип построения этих помещений и характер необходимых предметов туалетной мебели тотчас же был взят ими на вооружение.
В 70-х годах XX столетия мне довелось беседовать с тогда уже пожилым научным сотрудником Зимнего дворца. Он с особым трепетом упоминал о самых, пожалуй, необыкновенных находках маститого зодчего – его проектах корпусной мебели, фанерованной розовым деревом.
Штакеншнейдер стал своеобразным дирижером петербургских мастеров самых разнообразных специальностей. Под его оком творили и столяры-краснодеревщики, и литейщики, и ювелиры, и лекальщики, и, наконец, мастера и художники по фарфору.
В результате шкаф из гостиной Зимнего дворца, фанерованный розовым деревом и украшенный фарфоровыми плакетками и бронзой, можно было причислить, как они говорили, к одному из семи чудес света.
Отчаянные модники среди состоятельной части дворянства старались заказать себе нечто подобное. Правда, вместо розового дерева использовали орех, а фарфоровые плакетки выполнялись не с ювелирным изображением замысловатых светских сцен, а всего лишь с несложным орнаментальным или цветочным декором.
Примечательно, что во «втором рококо» архитекторы Красовский, Монигетти стараются все чаще вводить фарфор в оформление комнат, не говоря уже о включении в оформление интерьеров стеклянных и хрустальных ваз и статуэток. Становится модным и сочетание двух таких материалов, как фарфор и древесина. Так что плакетки с росписью по фарфору появляются на небольших шкафчиках, секретерах, на ножках столов, на каминах и каминных экранах, даже на замысловатых зеркальных рамах. Иной раз большие зеркальные рамы умудрялись сооружать только из одного фарфора. Однако ж при подобных габаритах это была непростая инженерная конструкция. А поскольку заказы на фарфоровые с горельефным цветочным орнаментом рамы пользовались популярностью в дворянской среде, в эти годы разрабатывается сложная инженерная идея. Суть ее заключалась в многократной повторяемости одной и той же детали – каждый последующий элемент являлся своеобразным «захватом» для предыдущего, эдаким «крючком». Так, деталь за деталью, подобно плетению каната, и выстраивалась необыкновенная фарфоровая рама. А так как сам захват и крепеж находились с тыльной стороны, создавалось полное впечатление парящих в воздухе цветочных гирлянд. Подобные рамы можно было видеть, в частности, в имении Петра Вяземского в Остафьеве.
«Буль» французский – «буль» российский!
В середине XIX века в дворянских особняках начинает появляться мебель, выполненная в технике «буль». Такая мебель изготавливается с применением черного дерева или же его имитации. А украшается она замысловатым орнаментальным декором из металла и черепаховых панцирей. В качестве же функциональных и знаковых акцентов используется и золоченая бронза (для ручек, фасадных наугольных элементов и т. п.).
И если с металлом и позолотой все решалось достаточно просто, то с черепаховыми панцирями были проблемы. А ведь именно они-то и придают особенную красоту этому изделию! Но русские мастера не были бы русскими, если б не нашли в качестве недорогой замены подкрашенный рог. А вместо черного дерева использовали окрашенный орех либо травленую грушу.
К середине XIX века предметы, выполненные в технике «буль», становятся необыкновенно популярны. Всего лишь одно-единственное небольшое мебельное изделие «буль» в общем строе всей меблировки усадьбы придает ей какую-то особую праздничность и элегантность.
Одна из лучших московских мебельных мастерских середины XIX века, работавшая в стиле «буль» и «второго рококо», принадлежала московскому купцу Эрнесту Ивановичу Блехшмидту. Она выпускала всевозможные предметы мебели, используя орех, дуб, резное золоченое дерево, экзотические породы древесины, панцирь черепахи, бронзу, латунь. В мастерской, которая насчитывала около ста рабочих, были свои проектировщики мебели, резчики, столяры и обойщики, краснодеревщики и золотари. Применялись самые разные, в том числе сложные, техники декорировки мебели (резьба, золочение, инкрустация, наборное дерево, фанеровка). Известно, что мастерская Э. Блехшмидта поставила в только что построенный Большой Кремлевский дворец не менее двадцати гарнитуров мебели из резного золоченого дерева с оригинальным рельефным орнаментом. Мебель производилась как по индивидуальным заказам, так и для собственного магазина.
Меблировку усадебных помещений в технике «буль» могли позволить себе лишь очень состоятельные дворяне (общее число их составляло не более 5 процентов ко всему дворянскому сословию).
Основная масса помещиков к середине XIX века продолжала беднеть. Сокращались земли, когда-то принадлежавшие их дедам и прадедам. Хирели и зарастали парки, с когда-то блистательным мастерством спланированные архитекторами и мастерами по ландшафтной архитектуре еще XVIII столетия.
Так что в имениях, как правило, верой и правдой служила простая и надежная мебель времен Петра Великого. Случалось даже, что в глубоко запрятанных от широких трактов уездах были помещики, вполне обходившиеся мебелью собственного, домашнего производства или мастерством своих же деревенских столяров. А порой можно было обнаружить в усадьбах даже отдельные предметы мебели времен Иоанна Грозного.
«Ореховое рококо»
Но была когорта дворян-модников, для которой нарядная корпусная мебель из елки или сосны, фанерованная орехом, оказывалась вполне доступной. И тотчас же на языке и поставщиков, и заказчиков она получает веселое прозвище «орехового рококо».
Столы и стулья, кресла и диваны, шкафы и консоли… Здесь уже не полагалось таких декоративных изысков в решении ножек, сидений и спинок, что позволял себе архитектор И. А. Монигетти, дополняя искусную резьбу по дереву позолотой и шелком. Тем не менее ореховые ансамбли радовали глаз.
Вносятся определенные корректировки в обивку мебели. Хозяевам кажется, что одной лишь раз и навсегда сделанной обивки будет недостаточно. И для того чтобы цветовая гамма интерьера по разным сезонам и разным праздникам могла изменять свой цвет, стали использовать различные чехлы. Пуговицы на них обтягивали тканью того же цвета.
Именно стиль «второго рококо» создал целый мир разнообразных драпировок, цветочных орнаментов, живописных плафонов и вставок на стенах и мебели.
Кроме того, усадебные комнаты украшают лаковой мебелью. Для декора мебели характерны свободно расползающиеся изящные узоры маркетри: цветы, расписанные по желтому, розовому, голубому или светло-зеленому фону. Распространенность моды на китайское искусство привела к появлению особого стиля шинуазри. Китайские мотивы наносились краской или золотом по черному лаку. Резьба по дереву заменяется золочеными бронзовыми накладками.
В 60-е годы XIX столетия «второе рококо» начинает вырождаться, утопая в многочисленных коврах и драпировках, скатертях и шторах, обилии мелких предметов на столах, этажерках и полках. В 90-е годы появляется и очередное стилевое решение интерьеров и мебели. Они стали украшаться причудливыми, изысканными орнаментами, состоящими из рокайльных завитков, резными и лепными узорами. Такой стиль получил название «третьего рококо», на смену которому пришел модерн.