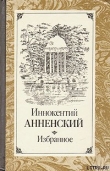Текст книги "Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века"
Автор книги: Сергей Охлябинин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Но бывало, правда, что приглашали поохотиться за компанию их же собственные состоятельные родственники. И порой оказывалось, что какой-то безвестный кобель или сука заштатного помещика обставляли в гоне прославленных губернских борзых.
«В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Илагин, Николай указал ему на его красно-пегую суку.
– Хороша у вас эта сучка! – сказал он небрежным тоном. – Резва?
– Эта? Да, эта добрая собака, ловит, – равнодушным голосом сказал Илагин про свою красно-пегую Ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых. – Так и у вас, граф, умолотом не хвалятся? – продолжал он начатый разговор. И считая учтивым отплатить тем же молодому графу, Илагин осмотрел его собак и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза своей шириной.
– Хороша у вас эта черно-пегая – ладна! – сказал он.
– Да, ничего, скачет, – отвечал Николай. "Вот только бы побежал в поле русак матерый, я бы тебе показал, какая это собака!" – подумал он. И, обернувшись к стремянному, сказал, что он даст рубль тому, кто подозрит, то есть найдет лежачего зайца.
– Я не понимаю, – продолжал Илагин, – как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться; вот съедешься с такой компанией… уж чего же лучше (он снял опять свой бобровый картуз перед Наташей); а это, чтобы шкуры считать, сколько привез, – мне все равно!
– Ну да.
– Или чтобы мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя, – мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф? Потому я сужу…
– Ату – его! – послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре жнивья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно: – А – ту – его! (Звук этот и поднятый арапник означали то, что он видит перед собой лежачего зайца.)
– А, подозрил, кажется, – сказал небрежно Илагин. – Что же, потрафим, граф.
– Да, подъехать надо… да что ж, вместе? – отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в красного Ругая дядюшки, в двух своих соперников, с которыми еще ни разу ему не удалось поравнять своих собак. "Ну что как с ушей оборвут мою Милку!" – думал он, рядом с дядюшкой и Илагиным подвигаясь к зайцу.
– Матерый? – спрашивал Илагин, подвигаясь к подозрившему охотнику и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу…
– А вы, Михаил Никанорыч? – обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.
– Что мне соваться! Ведь ваши – чистое дело марш! – по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померяйте своих, а я посмотрю!
– Ругай! На, на! – крикнул он. – Ругаюшка! – прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала скрываемое этими двумя стариками и ее братом волнение и сама волновалась.
Охотник на полугорке стоял с поднятым арапником, господа шагом подъезжали к нему; гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца; охотники, не господа, тоже отъезжали. Все двигалось медленно и степенно.
– Куда головой лежит? – спросил Николай, подъезжая шагов на сто к подозрившему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил. Стая гончих, на смычках, с ревом понеслась под гору за зайцем; со всех сторон борзые, не бывшие на сворах, бросились на гончих и к зайцу. Все эти медленно двигавшиеся охотники – выжлятники, криком: "стой!", сбивая собак, борзятники, криком: "ату!", направляя собак, – поскакали по полю. Спокойный Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матерый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздавшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленя, по которым было топко. Две собаки подозрившего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем; но еще далеко не подвинулись к нему, как из-за них вылетела илагинская красно-пегая Ерза, приблизилась на собаку расстояния, с страшной быстротой наддала, нацелившись на хвост зайца, и, думая, что она схватила его, покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из-за Ерзы вынеслась широкозадая черно-пегая Милка и быстро стала спеть к зайцу.
– Милушка, матушка! – послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять насела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку.
– Ерзынька! сестрица! – послышался плачущий, не свой голос Илагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жнивьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу; на рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему.
– Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш! – закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный, горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, наддал с страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колена, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что. "Вот это дело марш… вот собак… вот вытянул всех, и тысячных и рублевых – чистое дело марш!" – говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. "Вот вам и тысячные – чистое дело марш!"
– Ругай, нá пазанку! – говорил он, кидая отрезанную лапу с налипшей землей. – Заслужил, чисто дело марш!
– Она вымахалась, три угонки дала одна, – говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают ли его или нет.
– Да это что же, впоперечь! – говорил илагинский стремянный.
– Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает, – говорил в то же время Илагин, красный, насилу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время. Дядюшка сам второчил русака, ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего каурого и поехал прочь. Все, кроме него, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще они поглядывали на красного Ругая, который, с испачканной грязью, горбатой спиной, побрякивая железкой, с спокойным видом победителя шел за ногами лошади дядюшки.
"Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут, держись!" – казалось Николаю, что говорил вид этой собаки.
Когда, долго после, дядюшка подъехал к Николаю и заговорил с ним, Николай был польщен тем, что дядюшка после всего, что было, еще удостаивает говорить с ним…
Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту, ночевать у него (у дядюшки) в его деревеньке Михайловке.
– И если бы заехали ко мне – чистое дело марш! – сказал дядюшка, – еще бы того лучше; видите, погода мокрая, – говорил дядюшка, – отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. – Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное; а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке.
Человек пять, больших и малых, дворовых мужчин высыпало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъезжавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слышать и понимать, что говорят о нем.
– Аринка, глянь-ка, на бочкю сидит! Сама сидит, а подол болтается… Вишь, и рожок!
– Батюшки-светы, ножик-то!..
– Вишь, татарка!
– Как же ты не перекувырнулась-то? – говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе.
Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного, заросшего садом домика и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано все нужное для приема гостей и охоты.
Все разбежалось. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким дощатым ступеням крыльца» ( Толстой Л. Н.Война и мир).
Приложения
Язык мушек
Круглые мушки назывались «убийцами». Мушка, приклеенная посередине лба, называлась «величественная», в углу глаза приклеивали «пылкую», на носу – «бесстыдницу», на губах – «кокетку», наклеенная около глаза – «страстная»; в углу рта «охотница до поцелуев»; на носу – «нахалка»; посреди щеки – «щегольская»; на ямочке щеки, образующейся при смехе, – «развеселая»; на нижней губе – «скромная».
Мушки скрывали недостатки на лице: если вскакивал прыщик, его немедленно заклеивали мушкой-«укрывательницей». Мушки помогали обманывать бдительность ревнивцев: расположенные на лице известным образом, они, например, обозначали час условленного свидания. И грим, и мушки были необходимым добавлением к пудреным волосам, придавали законченность всему облику и костюму в целом (Дворянский язык изящных чувств и жестов. М., 2001).
Язык веерных знаков
Язык этот был известен уже в галантную эпоху рококо. С помощью веера назначались свидания (количество открытых лопастей указывало на его час), принималась или отвергалась чья-либо любовь.
В эпоху ампира появились веера с вмонтированными в них лорнетами или моноклями, а также веера с тюлевыми прозрачными вставками, что позволяло дамам, прикрываясь веером, бросать кокетливые взгляды.
В эпоху романтизма язык вееров постепенно изживает себя, его заменяет сентиментальная переписка. К середине XIX века, когда интерес к XVIII веку возник вновь, кокетки стали возрождать язык вееров. Приведенное ниже описание значения цвета и положения веера следует, по-видимому, отнести к 1850—18б0-м годам, на что указывают ставшие в то время модными цвета: лиловый, фиолетовый, красный, а также упоминание о расшитых блестками веерах.
Как известно, электрическое освещение, не согревавшее, подобно свечному и масляному, бальных залов и гостиных, в конце XIX века вытеснило этот хрупкий предмет женского туалета из обихода.
Чтобы веером сказать «да», следует приложить веер левой рукой к правой щеке.
«Нет» – приложить открытый веер левой рукой к левой щеке.
«Я тебя люблю» – правой рукой указать открытым веером на сердце.
«Ты мой идеал» – дотронуться открытым веером до губ и сердца.
«Я вас люблю» – сделать закрытым веером движение в сторону.
«Я к вам не чувствую приязни» – открыть и закрыть веер, держа его у рта.
«Мои мысли всегда с тобой» – наполовину открыть веер и провести им несколько раз по лбу.
«Верить ли вашим словам?» – закрытый веер держать у левого локтя.
«Будьте осторожны, за нами следят» – открытым веером дотронуться до левого уха.
«Мои слова не должны быть переданы другим» – правой рукой держать открытый веер и прикрыть им левую щеку.
«Твои слова умны» – приложить закрытый веер ко лбу.
«Хочешь меня выслушать?» – открыть и закрыть веер.
«Выскажись яснее» – наклонить голову, рассматривать закрытый веер.
«Не приходи поздно» – правую сторону открытого веера держать перед тем, с кем ведется разговор, а затем быстро закрыть его.
«Я не приду» – держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор.
«Я приду» – держа веер левой рукой перед тем, кому дается знак, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.
«Я жду ответа» – ударить закрытым веером по ладони.
«Я буду исполнять твои желания» – открыть веер правой рукой и снова закрыть.
«Делай, как я хочу» – закрытый веер держать посередине.
«Не приходи сегодня» – провести закрытым веером по наружной стороне руки.
«Ты меня огорчил» – быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.
«Прости меня» – сложить руки под открытым веером.
«Я хочу с тобой танцевать» – открытом веером махнуть к себе, то есть поманить.
«Я сделалась недоверчива» – барабанить закрытым веером по ладони левой руки.
«Молчи, нас подслушивают» – дотронуться закрытым веером до губ.
«Приходи, я буду довольна» – держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки.
Если собеседник, пользующийся особым расположением, просит веер, то следует подать его верхним концом, что означает не только симпатию, но и любовь.
Для выражения презрения подать веер нижним концом (ручкой). Подавать же веер открытым не следует, так как это означает просьбу или же просто напрашивание на любовь».
Значение цвета в веерах
Белый – невинность.
Черный – печаль.
Красный – радость, счастье. Желтый – отказ.
Лиловый – смирение, искренность.
Голубой – постоянство, верность.
Зеленый – надежда.
Коричневый – недолговременное счастье.
Розовый с голубым – любовь и верность.
Шитый золотом – богатство.
Шитый серебром – скромность.
Убранный блестками – твердость и доблесть.
(Самый новый и полный оракул. Евдокия Коновалова и К°. М., 1915).
Язык перчаток
Кроме вышеуказанных секретных знаков для передачи сентиментальных чувств в XIX веке существовал язык перчаток. Особенно он был популярен в периоды, когда в моду входили длинные перчатки – в 1820-е, 1870-е и 1900-е годы.
Чтобы выразить «да», перчатку следует как бы нечаянно обронить.
«Нет» – просто теребить перчатки рукой.
«Я к вам равнодушна» – опустить перчатку до половины левой руки.
«Не уходите» – слегка ударить, как бы шутя, по левому плечу.
«Я вас не люблю» – дотронуться перчаткой до подбородка.
«Я вас ненавижу» – выворотить перчатки наизнанку.
«Я вас люблю» – выронить разом обе перчатки.
«Будьте осторожны, за нами следят» – обернуть перчатку вокруг пальцев.
«Надейся» – дотронуться перчаткой до левого плеча.
«Мне хотелось бы быть около тебя» – разглаживать перчатки в руке.
«Вы меня оскорбили» – свернуть перчатки и спрятать их совсем.
«Я хочу с тобой танцевать» – взять за пальцы перчатки, поманить ими.
«Прости меня» – перчатку правой руки приложить к сердцу.
«Мужайтесь» – встряхнуть перчатку.
Досаду или неудовольствие выражают сильным ударом по руке перчатками.
(Самый новый и полный оракул. Евдокия Коновалова и К°. М., 1915).
Язык цветов
Акация – любовь платоническая.
Аконит (пострел) – месть.
Амарант (бархатник) – бессмертие.
Амариллис (Светлана) – кокетство.
Анемон – непорочность.
Астра китайская – непорочность.
Базилика – бедность.
Бальзамин – предусмотрительность.
Барвинок – приятное воспоминание.
Бирючина – защита.
Боярышник – благоразумие, чистосердечие.
Буквица белая (скороспелка) – молодость, желание любить.
Буль-де-неж – клевета.
Валериана – легкость.
Василек – возвышенное чувство, меланхолия.
Вахта – тишина, спокойствие.
Вьюнок трехцветный (бель-де-жур) – неверность.
Гвоздика – чувствование.
Гераний мускусный – уважение.
Гераний розовый – слабость, изнеможение.
Гераний, имеющий запах лимона, – своенравие, причуды.
Гиацинт – скорбь.
Гортензия – любовь постоянная.
Гранатовое дерево – честолюбие.
Дрок (душица) – слабая надежда.
Дубровка – более на тебя гляжу, более тебя люблю.
Дягиль – восхищение.
Железняк – очарование.
Иван-да-марья – воспоминание.
Иммортель – постоянство вечное.
Ирис (касатик) – доверие.
Кавалерийские шпоры – ветреность.
Каприфолий – узы любви.
Кипарис – печаль, слезы.
Колокольчик – болтливость.
Кресс индийский (настурций) – молчаливость.
Лавровое дерево (дафна; с розовыми цветами – означает красоту и признание, а с белыми цветами – нерешимость в любви.
Ландыш – ветреность, равнодушие.
Левкой – счастье, симпатия.
Лилия – непорочность, величие.
Лимонное дерево – желание вести переписку.
Майоран – всегда счастлив.
Мак – бессилие.
Маргаритка – я о том подумаю.
Медвежья лапа – узы неразрывные.
Медвежье ушко – обольщение.
Миндальное дерево – ветреность, безрассудство.
Мирт – любовь, взаимная любовь.
Мята – пламенная любовь.
Нарцисс – себялюбие.
Незабудка – не забудь меня.
Не-тронь-меня – чувствительность.
Ноготки – мука, скорбь.
Плющ – взаимная любовь.
Подсолнечник – интриги, сплетни.
Полынь – горесть, огорчение.
Померанцевое дерево – кротость, приятность.
Пустоцвет – предзнаменование.
Ранункул – нетерпеливость.
Резеда – кратковременное счастье.
Роза алая – нежность, юность, свежесть.
Роза белая – невинность.
Роза дикая – простота.
Роза желтая – бесчестие, вероломство.
Розмарин – откровенность.
Серебреник – гордость.
Сирень белая – презрение.
Сирень лиловая – первое чувство любви.
Скабиоза – пренебрежение.
Снежнянка – надежда.
Тимиан – деятельность.
Тубероза – сластолюбие.
Тюльпан – объяснение в любви.
Фиалка – стыдливость, скромность.
Элиотроп – упоение любви, отдаюсь во власть тебе.
Ялаппа (бель-де-нюи) – убегает и страшится любви.
Ясмин белый – любовь, страсть.
(Язык цветов или описание эмблематических значений, символов и мифологического происхождения цветов и растений. Посвящение прекрасному полу. СПб., 1849).
Краткий словарь
А
Аби( фр.habut) – в XIX столетии этим кратким словом называли фрак. А веком раньше так величали распространенный среди дворян мужской костюм. Его полное название было «аби а ля франсез». Одежда эта – без воротника. Плотно облегает верхнюю часть фигуры, особо подчеркивая талию. С узкими плечами и рукавами с расширяющимися обшлагами. Книзу расширяется за счет нескольких складок-фалд. Вместо воротника лишь узкая стойка. Русские дворяне шили аби из шелковых и бархатных тканей.
На грани XVIII и XIX веков более сложный силуэт аби становится придворной одеждой, да и то употребляемой в особо торжественных случаях. Его называют «аби де ля кур». Тот, который попроще, продолжает называться аби.
Абрикосовая водка– отменный спиртной напиток, который изготавливался в России в XIX столетии.
Авертиссёр( фр.avertisseur – уведомитель) – в русских усадьбах, в самых торжественных случаях специальные лица, извещавшие гостей о появлении очередного блюда.
Авсень, овсень– древнеславянское блюдо. Название связано с одноименным языческим праздником – первой встречей весны, проводившейся 1 марта по старому стилю. Праздник авсень был распространен во многих губерниях Центральной России. Само блюдо, подававшееся к столу в этот день, состояло из отварного языка и мозгов. К ним полагались чеснок и печеные антоновские яблоки. К середине XIX столетия это древнерусское кушанье постепенно забывалось, сохранялось только в некоторых дворянских усадьбах глубинной России.
Агафьин день– День хлеба и соли. Отмечали его 18 февраля (5 февраля по старому стилю). В это время славяне освящали каравай хлеба и солонку соли, символы домашнего очага, и берегли в течение целого года. Считалось, что они надежно охраняют дом от пожара, а поле – от недорода. Если же и случался неожиданный пожар, то соль бросали в самое пламя, а хлеб – на поле, куда и отвлекали, таким образом, взбунтовавшийся огонь.
Праздник этот существовал в России и весь XIX век, но все его отличие от нынешних подношений «хлеба и соли» состояло в том, что тогда выносили не испеченный по случаю каравай, а именно тот, что был сбережен со времени праздника, то есть с Агафьина дня. Праздник соблюдали в равной степени и русские крестьяне, и дворянство, прежде всего усадебное, непосредственно связанное с сельским хозяйством.
Аграмант( фр.agrements – прикрасы, украшения) – узорчатое плетение из шнура (шерстяного, шелкового) с серебряной, золотой нитью, используемое как украшение платья, головных уборов, штор, портьер, мягкой мебели в дворянском быту. Существовала фабрика, выпускавшая узорчатые плетежки из шнурков, так называемые витейки, витушки.
Аграфены день– поначалу языческий, а впоследствии русский народный праздник каши. Именно в этот день – 6 июля по старому стилю (23 июня) – было принято есть каши. На северо-западе страны – овсяную, а в центральной и южных губерниях – гречневую. Праздник включал также и состязания кашеваров.
Почтительное отношение к кашам бытовало не только среди простонародья. Каши находились и в рационе питания русского дворянства, причем не только среди «недостаточных», то есть бедных, дворян, но и людей с достатком.
Аделаида– красный оттенок липового цвета.
Аллюр( фр.allure – скорость движения) – виды движения лошадей. Это может быть шаг, рысь, галоп, карьер, иноходь, трусца.
Амбигю( лат.ambigere – соединять противоположное) – обед, на котором подавали на первое или на третье сразу два блюда – горячее и холодное, легкое и сытное. Наилучшим примером такого сочетания в русской кухне является подача на первое двух видов супов – горячих, мясных наваристых щей со сметаной и прозрачно-янтарной, легкой ботвиньи из свекольного и крапивного листа, щавеля с осетриной. Кроме того, к последнему первому подавали тарелку с колотым льдом для того, чтобы кусочками льда постоянно охлаждать ботвинью. Подобные амбипо бытовали у коренных, исконно русских дворян. Представители же российского западного дворянства предпочитали амбигю в духе французской кухни. Любили на десерт мороженое с ягодами – клубникой, земляникой, черной смородиной, которое заедали горячими бисквитами, кофе и печеньем.
Ангажант( фр.engageant – привлекательный) – отделка рукавов женских платьев, трехслойные кружевные оборки.
Ансамбль– совокупность зданий, образующих единую архитектурную композицию.
Антре( фр.entree – вход) – закуска, подающаяся за час-полтора до обеда. На званых парадных обедах в русских дворянских усадьбах закуски подавали в другом помещении, как правило, в приемной, смежной с парадным обеденным залом. В России былых времен, в частности XIX века, это преддверие обеда называлось закуски с подноса. Здесь же располагались и различные спиртные напитки, поскольку держать их на обеденном столе в зале считалось неприличным. Однако такого правила придерживались русские дворяне лишь в начале XIX века. В конце же столетия и подносная закуска, да и спиртное уже перебазируются в парадный обеденный зал.
Антреме( фр.entremets) – блюдо, подаваемое между кушаньями либо между основными блюдами, либо перед десертом. Например, французы к антреме относили сыры. В России же эту роль прекрасно исполняли пироги или каши.
Арапник( польск.herapnik) – длинный охотничий кнут с короткой рукоятью, на конце которой – «подцепка» для закрепления на кисти руки. Арапник снабжен и маленьким свинцовым набалдашником – «убойкой». Псовые охотники использовали арапник для вспугивания зверя и управления собаками.
Арка– криволинейное перекрытие между опорами или проем в стене.
Арлекин– гончая собака светло-серого окраса с мельчайшим черным крапом и синевато-белым цветом глаз.
По словам старых охотников, эта порода появилась в России со времен Персидской кампании.
Армяк– верхняя долгополая крестьянская одежда в виде халата из сукна или из грубой шерстяной ткани.
Архалук– легкий кафтан из цветной шерстяной или шелковой ткани, собранной у талии.
Б
Баба– высокое, в виде усеченного конуса кондитерское изделие. Чем выше поднималась на дрожжах баба, замешенная на молоке, тем больше почитали мастерство кулинара. Особенно широко это кондитерское изделие было распространено в XIX веке. Появилось в России примерно в XVI—XVII веках. Существовало много разновидностей баб: ромовая, виноградная, фруктовая и т. д. Приготовлялось изделие в общей сложности около восьми часов. Поэтому в XIX столетии кулинары переключаются на изготовление так называемых бабок, то есть небольших баб.
Баклага– деревянный дорожный узкогорлый сосуд для хранения и переноса жидкостей. Использовалась охотниками.
Балдак– трость, палка, подпорка. Предназначалась для упора руки охотника, на которой сидит ловчая птица. Применялась при верховой охоте с ловчими птицами. Балдак выстругивается из твердых пород древесины. Верхняя его часть, сделанная в виде рогатки, обтягивается толстой кожей.
Балморал( англ.balmoral) – шотландский стиль, существовавший в интерьерах дворянских особняков и усадеб. Традиционная шотландская шапочка без полей, грубый башмак на шнуровке, пестротканая шерстяная юбка. Происходит от названия замка Балморал, расположенного в Шотландии.
Бандо( фр.bandeau) – дамская прическа, широко распространенная в дворянской среде в 1840—18б0-х годах. Волосы гладко укладываются вниз от пробора, а сзади приподнимаются. Иногда они прикрывали уши.
Березов'ица– древнейший русский напиток. Приготавливался из весеннего березового сока, который помещали в бочки, где он должен был перебродить.
Бешамель– соус из сливок с луком. Подается к мясу. Как рассказывают, его изобрел гофмейстер французского короля Людовика XIV – Луи де Бешамель маркиз де Нуантель. В России придумали свой соус бешамель, добавив три столовые ложки свежетертого корня хрена.
Бить– плоская проволочная нить (медная, золотая либо серебряная) с особым зеркальным блеском. Использовалась в дворянских усадьбах, в частности для золотошвейной и золототканой работы.
Битки– старинное русское название отбивных котлет, приготовленных, как правило, из баранины.
Битый пирог– старинное название русских пирогов, простых в изготовлении, воздушных и необыкновенно сытых. Название произошло от теста, взбиваемого на яичных белках. Частенько подавали на десерт в скромных, небогатых усадьбах.
Блинник– слоеный пирог из блинов с яйцами, луком и гречневой кашей.
Блонды( фр.blonde – белокурый) – дорогое тончайшее плетеное кружево из шелка-сырца цвета слоновой кости. Им, в частности, отделывались бальные платья.
Бонбоньерка( фр.bonbon – конфета) – небольшая коробочка для конфет. Создавали бонбоньерки из фарфора и керамики, дерева и металла.
Борканник– старинный русский морковный пирог, который часто пекли в XIX веке в усадьбах Псковской, Новгородской и Тверской губерний. Тесто готовили из ржаной муки, а начиняли пирог морковью с крутыми яйцами.
Брегет– карманные часы, изобретенные знаменитым французом часовщиком А. Л. Брегом (Bremguet; 1747—1823). Почитались дороже иных драгоценностей. Уникальность их конструкции состояла в том, что они отбивали не только часы, но и доли часов, показывали числа месяца, стоило только нажать кнопку особой пружины. Да, кроме того, показывали еще и число месяца.
Брокар( фр.brocart) – изысканная и дорогая шелковая ткань, украшенная рисунком. При ее изготовлении используются серебряные и золотые нити. По внешнему виду похожа на парчу. Если в XVIII веке из брокара шились нарядные мужские аби, то позже ткань использовали для изготовления жилетов.
Броше( фр.broche) – шелковая ткань, характерная сложным переплетением с рисунком, имеющим рельефную поверхность, похожую на вышивку. Этот эффект достигался при помощи особого переплетения нитей утка и основы.
Бурнус( фр.burnous от ар.burnus) – накидка и верхняя одежда разного вида. Это простой плащ с широкими рукавами, а иногда и без них. Вошел он в моду предположительно в 30-е годы, когда форма рукавов «жиго» уже не позволяла носить редингот.
Буфет( лат.bufetum – блестящий, щегольской) – первое основное значение – шкаф для хранения принадлежности к столу. Нижнюю и верхнюю части буфета часто соединял раздаточный стол с нишей. Он был удобен для подготовки приборов, перед тем как вынести их к столу. От этого предмета мебели и помещение стали называть буфетной. В XIX веке, когда появляется необходимость отделять буфет от публики (в общественных заведениях), строятся специальные буфетные стойки.
Быки– старинное русское кушанье из овсяного толокна с растительным маслом. Пользовалось успехом в усадьбах Тверской, Владимирской и Ярославской губерний.
В
Вабельщик– охотник, умеющий имитировать вой волка.
Таким образом можно было выявить место нахождения зверя или волчьего выводка.
Валованчики( фр.vol-au-vent) – пирожки из пресного теста, подававшиеся к разным бульонам. Тесто печется отдельно от начинки, которая закладывается потом в специальную выемку, вырезанную в середине валованчика. Сверху пирожок закрывается тестом.
Вараховица– зеленая каша, одно из любимейших блюд не только простого народа, но и дворян. Лакомство готовили из зеленой недозрелой ржи. Появившись в XVIII веке, уже в XIX она начинает исчезать со столов крестьян.
Варенец– топленое молоко, выпаривавшееся в глиняных кринках русской печи и заквашенное сметаной.
Велигорка– гречневая крупа, отличающаяся от обычной ребристой ядрицы своей круглоокатанностью. Ее круглая, шаровидная форма создана искусственно, исключительно из эстетических соображений. По вкусу она уступает обычной ядрице да и почти полностью лишена питательных, целебных свойств. По одной из версий название крупа получила по имени гусара Михаила Юрьевича Виелыорского, который заботился не только о вкусе блюд, но и о том, как они будут смотреться при подаче на стол.
Веселый стол– пирожный стол. На следующий день после свадьбы собирались вместе с новобрачными лишь самые близкие им люди, к столу подавали только чай и сладкое – пирожки, конфеты и т. п.
Вестон( фр.veston) – подобие пиджака, а также разновидность куртки, которые нередко использовали дворяне средней руки в качестве будничной, рабочей одежды.
Визитка( фр.visite – посещение) – род полуфрака. Застегивалась на одну пуговицу. Появилась в середине XIX столетия. Носили ее с брюками в полоску.
Виндзор( англ.windsor) – холодный оттенок синего цвета. Уже не одно столетие мужские и женские костюмы цвета Виндзор используются при официальных торжественных встречах, на дипломатических приемах и т. д.
Вкусня– яичница с небольшими кусочками белого хлеба, предварительно размоченного в молоке и слегка обжаренного в масле. Особенно популярно это блюдо становится в российских бедных разрушающихся усадьбах в конце XIX столетия.