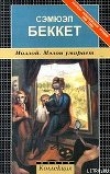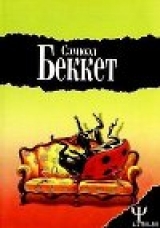
Текст книги "Мерфи"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
6
Как это ни печально, но, кажется, мы достигли такого момента в нашей истории, когда приходится предпринять попытку найти оправдание выражению «внутренний мир Мерфи», или «дух Мерфи», или, если хотите, «ум Мерфи», а еще точнее, все это и многое другое вместе взятое. К счастью, нам не нужно доискиваться до того, как же все это было в действительности, – такая попытка была бы с нашей стороны чистой блажью, а может быть, и просто непозволительным нахальством; мы лишь попытаемся на все взглянуть с точки зрения того, как это виделось самому Мерфи. В конце концов, Мерфиев внутренний мир и является граваменом[128]128
[128]Гравамен – юридический термин, означающий: основные пункты; суть излагаемого; суть обвинения.
[Закрыть] нашего изложения. Если мы посвятим упомянутому предмету немного места в данной главе, это избавит нас от необходимости извиняться за то, что мы займемся этим в каком-нибудь другом месте.
Внутренний мир Мерфи представлялся ему самому как огромная полая сфера, герметично отгороженная от всей вселенной за ее пределами. И то было отнюдь не обеднение, ибо в этой сфере присутствовало все, что должно было присутствовать. Все из того, что было, есть или будет во вселенной за пределами сферы, уже наличествовало внутри этой сферы в качестве наличной или потенциальной реальности, либо в виде потенциальной реальности, становящейся актуальной данностью, либо в виде наличной реальности, опускающейся в потенциальную. Иначе говоря, внутри сферы существовала своя собственная вселенная.
Но сказанное вовсе не значит, что Мерфи засосало болото идеализма. Просто существует реальность духовная и реальность материальная, и та, и другая реальности в равной степени реальны и почти в такой же степени приятны для чувств.
Мерфи проводил грань между действительной и потенциальной реальностями своего внутреннего мира не как между формой и бесформенным стремлением к обретению формы, а как между реальностью, каковую он уже познал в опыте в сугубо духовном и материальном, и реальностью, каковую он познал лишь в духовном опыте. Таким образом, можно было сказать, что пинок под зад для него был бы реальностью актуальной, а ласка – реальностью потенциальной.
Мерфи представлялось, что наличествующая реальность его внутреннего мира пребывает где-то вверху и ярко сияет, а потенциальная располагается где-то внизу и погружена во мрак, но он не связывал эти две реальности этической веревочкой. Духовный опыт он отделял от опыта материального, причем не прилагал к материальному опыту обычные критерии такого опыта – наличный материальный факт в его понимании еще не придавал материальному опыту ценности. Материальный опыт нельзя был устранить просто потому, что он не имел ценности. Он состоял из света, постепенно угасающего и уходящего во мрак, из верха и низа, но не из добра и зла. В нем были формы, имеющие параллели за пределами сферы внутреннего мира Мерфи, но не формы, которые можно было назвать правильными и неправильными. В нем не было антагонизма между светом и мраком, не было и необходимости свету пожирать тьму. Необходимостью являлось нахождение попеременно то в свете, то в полусвете-полумраке, то в полном мраке. Вот и все.
Таким образом, Мерфи ощущал себя словно рассеченным надвое – на тело и на душу. И тело его, и душа сношались каким-то образом, иначе бы Мерфи не знал, что в них есть нечто общее. Но подчас ему казалось, что его душа непроницаема для тела, так сказать телостойка, и ему было непонятно, по какому каналу осуществлялось такое сношение и каким образом духовный и материальный опыты частично перекрывали друг друга. Мерфи, однако, не вникал в такие тонкости – его вполне удовлетворяло знание того, что один опыт не вытекал из другого. Он не помысливал удар ногой в зад, потому что ощущал таковой, и не ощущал удар ногой в зад, потому что помысливал таковой. Возможно, знание об ударе ногой в зад имело отношение к факту удара, подобно тому как две математические величины имеют отношение к третьей. А возможно, то был не-умственно воспринимаемый, не-реально физический Удар, вне пространства и времени, пришедший из вечности, неявственно явленный Мерфи в тех своих формах, которые соотносимы с сознанием и его протяжением за собственные пределы, удар inintellectu[129]129
[129] По уму (лат.).
[Закрыть] и удар inre.[130]130
[130] На деле, фактически (лат.).
[Закрыть]Куда же в таком случае подевалась Наивысшая Ласка?
Как бы там ни было, Мерфи удовлетворялся тем, что принимал это частичное соответствие его внутреннего духовного мира с внутренним, хоть и телесным миром его плоти как проистекающее из какого-то процесса сверхъестественной предустановленности. Однако эта проблема его интересовала мало. Любое решение было бы приемлемым, если только оно не вступало в противоречие с ощущением, которое все усиливалось по мере того, как Мерфи старел, что его внутренний духовный и интеллектуальный мир являл собою закрытую систему, не подверженную каким бы то ни было изменениям, самодостаточную и не поддающуюяся влияниям его тела, в котором изменения происходили постоянно и которое было подвержено всяческим напастям и превратностям.
Значительно больший интерес представляет не то, как все это образовалось, а то, как это могло быть использовано.
Да, Мерфи внутренне раздвоен, одна часть его никогда не покидала его внутренний мир, представлявший собой сферу, наполненную светом, который в нижней части угасал и переходил во тьму, потому что выхода из сферы не было. Но движение в том внутреннем мире зависело от покоя в мире внешнем. Вообразим: некто лежит на кровати, ему хочется спать. Где-то рядом, за стеной, находится крыса, ей хочется двигаться. Человек слышит, как скребется крыса, и заснуть не может, крыса слышит, как ворочается в кровати человек, пугается и дальше двигаться не рискует. И человек, и крыса крайне недовольны – человеку не спится, он ворочается, крысе приходится выжидать, а ведь можно помыслить и благоприятную для обоих ситуацию: человек спокойно спит, крыса бежит, куда ей хочется.
В некотором роде Мерфи мог размышлять и познавать в то время, когда его тело находилось, так сказать, в вертикальном положении и перемещалось в разных направлениях, и такая умственная деятельность являлась своего рода ментальным ticdouloureux,[131]131
[131] Болезненный тик (фр.).
[Закрыть]достаточным для того, чтобы Мерфи мог вести себя хоть в какой-то степени рационально, хотя у него это выглядело как пародия на рациональное поведение.
Тело Мерфи все чаще пребывало в состоянии, так сказать, подвешенной неподвижности, менее всеохватывающей, чем сон, что было и телу удобно, и позволяло уму двигаться. Складывалось впечатление, что от его тела, не входящего в сферу его духа, оставалось все меньше, и эта все еще наличная, но уже сходящая на нет плоть ощущала постоянную усталость. Сосуществование плотского и духовного во внутреннем мире Мерфи казалось ему каким-то тайным сговором между этими двумя его составляющими, столь отличными друг ото друга, и оставалось для Мерфи явлением столь же непонятным, как и телекинез или же Лейденская Банка,[132]132
[132]Лейденская Банка – первый электрический конденсатор, прообраз электрической батареи, изобретенный в Лейдене (Голландия, 1745), действительно представлял собой стеклянную банку.
[Закрыть] и столь же малоинтересным. Но он с удовлетворением отмечал, что такое явление существует и что телесное все более уходит в сферу умственного и духовного.
По мере того как это телесное все более увядало, все живее функционировала его духовно-интеллектуальная сфера, все более высвобождалась она и все более наслаждалась своими богатствами. Тело – это склад всякой рухляди, дух – сокровищница.
В духовно-интеллектуальной сфере Мерфи имелось, как мы сказали, три зоны: свет, полусвет-полутьма и тьма, и каждая зона, естественно, имела свои особенности.
В первой зоне присутствовали формы, имеющие некоторое параллельное соответствие формам внешнего мира, например, там присутствовало некое сияющее абстрактное обобщение того, что представляет собой собачья жизнь; имелись там некоторые элементы материального опыта, которые можно было складывать, как детские кубики, получая новые конфигурации. В этой зоне удовольствие мыслилось как возмездие, удовольствие от переделывания материального опыта; тут Мерфи духовный давал Мерфи материальному удар ногой, то был вполне материальный удар, но отправленный по новой тракетории; в этой зоне могли происходить сколь угодно странные вещи: здесь можно было обрить бакалейщиков, а то и вовсе снять с них кожу, можно было вынудить Тыкалпенни изнасиловать квартирохозяйку Кэрридж и так далее. В этой зоне полное фиаско в материальном становилось восхитительным успехом в ментально-духовном.
Во второй зоне располагались формы, не имеющие соответствий. Здесь удовольствие заключалось в созерцании. В этой системе не имелось того, что могло бы разладиться, и ничего здесь не требовалось чинить. Здесь царили блаженство тихого пребывания на природе рядом со Скалой Белаква и другие едва ли менее замечательные состояния.
В обеих этих зонах своего внутреннего мира Мерфи чувствовал себя полностью свободным и независимым, здесь правил он; в первой зоне он мог вознаградить себя за все то неприятное, что приходило из внешнего мира; во второй зоне он мог перемещаться как ему заблагорассудится, от одного небесного блаженства к другому. Здесь не присутствовало ничего, что могло бы нарушить покой пребывания в благости.
В третьей зоне, во тьме, происходило постоянное движение форм, формы постоянно сливались и распадались. В зоне света присутствовали спокойные элементы нового множества, мир тела здесь разложен на составляющие, как игрушка; в мире полусвета-полутьмы пребывали состояния упокоения. А в зоне тьмы не было ни элементов, ни состояний, здесь находились лишь формы становления и распада, здесь не было любви, ненависти, здесь отсутствовал сам принцип перемен. В этой тьме не было ничего, кроме движения и чистых форм движения. Здесь Мерфи был несвободен, он был маленьким пятнышком во мраке абсолютной свободы. Он не двигался, он был точкой на постоянно, ничем не обусловлено порождаемой и умирающей линии.
Здесь порождались также все иррациональные таинства.
Как приятно было столкнуть в воображении Тыкалпенни и Кэрридж, швырнуть их в объятия гадких механических соитий; приятно было лежать на каменной полке возле Скалы Белаква и наблюдать рождение нового дня в кровавых потугах рассвета. Но насколько приятнее был ощущать себя снарядом, выпущенным ниоткуда и в никуда, захваченным бурным не-ньютоновским движением, в котором не действуют законы тяготения. О, то было настолько приятно, что слово «приятно» уже не в состоянии было описать эту приятность.
Итак, по мере того, как телесность Мерфи уступала все больше места духовно-интеллектуальной его части, он все меньше времени проводил в зоне света, все меньше обращал он внимания на волны бурного мира, ему уже было плевать на все эти бури; все меньше времени проводил он и в зоне полусвета-полутьмы, в которой выбор блаженного состояния предполагал некоторое усилие, а все больше, и больше, и больше времени проводил он в состоянии полного безволия, несомый во тьме из ниоткуда в никуда, пребывая пылинкой в ее абсолютной свободе.
Исполнив эту тяжкую обязанность, мы двигаемся дальше; более никаких подобных бюллетеней о состоянии внутреннего мира Мерфи не воспоследует.
7
Победа Силии над Мерфи (если, конечно, можно назвать победой согласие Мерфи начать поиски работы), воспоследовавшая вскоре после ее откровений, конфиденциально сообщенных деду Келли, имела место в сентябре месяце, а если уж быть педантично точным, то это произошло 12, в четверг, когда солнце находилось еще в Деве, а Англиканская Церковь соблюдала дни и ночи поста и молитвы. Вайли спасал Ниери (это спасение мы описали в четвертой главе) неделей позже, когда солнышко со вздохом облегчения перешло в созвездие Весов. Встреча Мерфи и Тыкалпенни, которая внесла столько беспорядка в жизнь нескольких людей, имела место в пятницу, 11 октября (хотя Мерфи, спроси его кто-нибудь, какое было число и день, не смог бы сказать), когда луна была снова полной, хотя находилась не так близко к земле, как в момент предыдущего великого противостояния.
Давайте теперь ухватим древнего старика, прозываемого Временем, этого облысевшего блудника, за те несколько жалких волосинок, которые у него остались, и перенесемся в октябрь, в семнадцатое число, понедельник, в тот первый день, когда началось возмещение им, Временем, того, что было отобрано у очаровательной девицы, известной под именем Гринвич.[133]133
[133] Все это витиеватое словесное построение вращается вокруг того, что отсчет времени по всей земле происходит от Нулевого, Гринвичского меридиана; Гринвич – местечко в Англии, где расположена астрономическая обсерватория.
[Закрыть]
То был час, когда приличные люди укладываются в постель.
А Виллоуби Келли уже лежал в своей кровати. Красный шелк его воздушного змея был потрепан и потерт ветром и солнцем. Келли, прежде чем приготовиться отойти ко сну, много времени провел за починкой своего змея, работая иглой с ниткой. Теперь шестиугольный кусок ярко-красного шелка, снятого со звездообразной рамы, лежал на одеяле, а вот Келли, в отличие от его змея, выглядел, как огурчик, – ему и дня нельзя было бы дать сверх его годков, которых набежало уже девяносто. Свет его ночника тощими каскадами падал на все безволосые шишки его черепа, иссекая лицо, на которое время наложило своей безжалостный отпечаток. Келли никак не удавалось сосредоточить мысли свои на чем-то одном, они разбредались и где-то терялись; более того, ему казалось, что и его тело, сделавшееся огромным и плоским и занимающее все большее пространство, тоже хочет разъединиться на части и расползтись в разные стороны. Так что нужно за ним, за этим телом, присматривать, а то, вишь, дергается, так ему хочется распасться на кусочки и уползти кто куда. Келли был начеку, бдел, он был взбудоражен, точнее, его бдительность была взбудоражена, в уме он бросался на разные части тела, с одной на другую… А вот собраться с мыслями никак не получалось… К нему в голову пришел невесть откуда взявшийся дурацкий фонетический каламбур: Celia,s'il y a, Celia, s'il y a.[134]134
[134] Если первую часть фразы – имя – произносить по-английски, а вторую – по-французски, то обе части будут звучать приблизительно одинаково: силь-йя; французская часть значит: если есть… (т. е. если некто или нечто имеется).
[Закрыть]И теперь эти французские слова – а когда-то, надо вам доложить, Келли был ох как силен во французском – дергались и прыгали у него в голове, скакали перед глазами, но с другой, так сказать, стороны, Келли никак не удавалось из этого сложить что-нибудь более толковое. Вербально-фонетическое обыгрывание имени внучки его не развлекало, почти никак не тешило. Что он такого сделал или сказал, что она больше не приходит к нему? А теперь у меня никого нет, говорил себе Келли, даже Силии. Как мы уже имели возможность отметить, веки человеческие не слезостойки, им слез не удержать, даже если они плотно сомкнуты, и все кратеры на лице старика, располагавшиеся между носом и скулами, постепенно наполнялись этой ценнейшей влагой. Других слезниц[135]135
[135]Слезница – сосуд для сбора слез; такой сосуд стоял, например, в гробницах римлян; обычно узкий, с длинным горлышком, для сбора слез друзей и родственников усопших.
[Закрыть] не требовалось.
У Ниери тоже слезницы не было, не имелось таковой и у Купера. Ниери сидел в китайском ресторане на улице Стеклянного Дома, запутавшись в густых зарослях своих неурядиц, подобно птичке в колючем кусте, и заливая потопом зеленого чая уже улегшийся в желудке плотный обед, состоявший из супа из птичьих гнезд, чего-то мясного, несколько похожего на котлету, лапши, акульих плавников и сладкого блюда ли-ши. Угадать, из чего оно сделано, не представлялось возможным. Ниери был печален огрызающейся печалью человека, по натуре своей холерика. Палочки для еды, которые он держал, как кости, тихо выстукивали ритм гнева.
Ему требовалось не просто найти Мерфи, ему нужно было найти его так, чтобы самому не оказаться найденным Ариадной, урожденной Кокс. Такие поиски можно было бы сравнить с поисками иголки в стогу сена, в котором кишат гадюки. Город, можно сказать, кишел ее наводчиками, был наводнен множественными проявлениями ее личности, а он был один. В приступе гнева он прогнал Купера, которого ему теперь так хотелось бы вернуть, но которого теперь он никак не мог найти. Ниери написал Вайли письмо, умоляя приехать и поддержать его, помочь ему своей находчивостью, своей практической смекалкой, своим… и своими… короче говоря, всеми своими лисьими качествами, которыми сам Ниери не обладал. А Вайли ответил очень откровенно и открыто, что теперь Кунихэн для него вроде как работа с полной занятостью, что даже если бы он был посвободнее, то и тогда помочь Ниери разрешить все его проблемы было весьма сложным делом, много более сложным, чем то представлялось Ниери. Это письмо прибавило Ниери дурных предчувствий. Его подвел Купер, вроде бы испытанный и верный слуга; его теперь подвел и Вайли, чего можно было вполне ожидать, так как Ниери знал этого Вайли, по сути дела, совсем плохо. И в итоге получилось вдруг так, что Мерфи, человек, за которым он охотился, оказывался единственным человеком среди всех его теперешних знакомых, среди всех тех, с кем он когда-либо был знаком, который не подрывал его веры в человека вообще, точнее в мужчину, независимо от того, как бы плохо он не относился к женщинам. Таким образом, его потребность в Мерфи изменила свой характер. Его желание найти Мерфи оставалось все таким же сильным, как и раньше, но в этом желании необходимость отыскать соперника сменилась необходимостью отыскать друга. Да, как мы уже изволили высказаться, конская пиявка – закрытая система.
Ниери сидел за столиком в ресторане, понурив голову, которой он время от времени потряхивал словно пустой бутылкой, бормоча что-то горькое своим палочкам для еды, и хотелось ему страстно, чтобы рядом был кто-то, кто утешил бы его добрым словом, хотелось этого сильнее, чем женской ласки, будь то жены, будь то любовницы, даже если бы таковой была сама Янг Куэй-Фэй.[136]136
[136]Янг Куэй-Фэй (? – 756) – известная красавица и наложница великого императора Цунга, воспетая во многих выдающихся средневековых китайских поэмах и пьесах.
[Закрыть] Надо думать, что восточный интерьер поспособствовал в какой-то степени возникновению у него такого настроения. Сладкое блюдо ли-ши, непонятно из чего сделанное и столь ему понравившееся, что он съел три порции, оставило приятнейшее послевкусие, которое продолжало играть вкусовыми оттенками, имени которым он не знал – словно за стеной всех его неурядиц звучала нежным вечерним намеком музыка лютни.
Кунихэн сидела у Вайли на коленях, но не в гостинице «У Винни» – где именно, мы не скажем во избежание возможного судебного преследования за навет, – и они обменивались поцелуями, которые тогда назывались устричными. Вайли целовал не часто, но когда уж решался на поцелуй, то относился к этому со вей серьезностью. Вайли был одной из тех неулыбчивых личностей, которые настаивают на том, чтобы, говоря метафорически, изымать у колокола страсти звучания. Поцелуй Вайли можно было бы сравнить с бревисом, стоящим в длинной медленной музыкальной фразе любви, над тактами, соответствующими ему в полушестнадцатой ноте. Кунихэн никогда ранее не испытывала столь острого удовольствия, которое по своему накалу могло бы сравниться с этим замедленным взаимопроникновением слюны любви.
Все слова и выражения предыдущего абзаца были тщательно взвешены и употреблены с тем, чтобы несколько шокировать не очень искушенного читателя и одновременно лишить особо искушенных предвкушаемых ими откровенностей.
Несмотря на свое ирландское происхождение, Кунихэн обладала поразительно явно выраженными антропоидными[137]137
[137]Антропоидный (человекообразный) – это слово может означать не только «имеющий человеческие черты», но и «имеющий обезьяньи черты». Что имеет в виду Беккет, с полной определенностью сказать трудно-, то ли то, что, с точки зрения Вайли, она являлась редким представителем рода человеческого, то ли наоборот (скорее первое, чем второе).
[Закрыть] чертами. Вайли никак не мог для себя определить, нравится ли ему целовать ее губы, весьма, надо сказать, полные. Их площадь, доступная для целования, превышала общую поверхность бутона розы, правда Кунихэновы губы были лишены нежной окраски. А вот ей целоваться нравилось безо всяких оговорок. Было бы совершенно излишне описывать ее полностью, ибо она представляла собой просто красивенькую ирландскую девушку, такую же, как и многие другие, за исключением, может быть, как уже было отмечено, того, что в ней чрезвычайного явственно проявлялись антропоидные черты. А насколько это можно считать достоинством, пускай решают мужчины, каждый для себя лично.
Входит Купер.
Вайли отцепляется от Кунихэн, как ракушка, оторванная от камня грубой рукой.
Кунихэн прикрывает себе рот рукой.
Вайли ни за что не прервал бы своих любовных игр ради Купера самого по себе, он обратил на него не больше внимания, чем на какую-нибудь там кошку или собачку, но его испугала мысль о возможности нахождения поблизости самого Ниери.
– Меня ото узяли и вытурили, – косноязычно и невнятно проговорил Купер.
Вайли оценил ситуацию в одно мгновение. Он повернулся к Кунихэн, которая все еще продолжала тяжело дышать, и принялся ее успокаивать:
– Успокойся, дорогая, это всего лишь Купер, слуга Ниери. Он никогда не стучит в дверь перед тем, как войти, никогда не садится, никогда не снимает шляпу. И наверняка он принес какие-то новости о Мерфи.
– О, если у вас есть новости, – вскричала Кунихэн, – если у вас есть какие-нибудь известия о моем любимом, говорите, говорите поскорее, заклинаю вас!
Кунихэн читала книги запоем и иногда изъяснялась слогом старинных романов.
Между прочим, Вайли сказал чистую правду, когда заявил, что Купер никогда не садился, ибо тот страдал глубоко укоренившейся акатисией[138]138
[138]Акатисия – отвердение участков кожи, вызванное укусами клещей.
[Закрыть] и давнишней акатарсией.[139]139
[139]Акатарсия – тяжелейшие запоры.
[Закрыть] Он вполне успешно мог стоять или лежать, а вот сидеть – нет. Часть пути в Дублин он стоял в поезде, а остальную часть – лежал. И вот теперь он снова стоял, как говорят, вытянувшись в струнку; на голове у него был котелок, на шее – ярко-красный галстук-»удавка», очень туго завязанный, его словно стеклянные глаза воспалены и налиты кровью; его средние пальцы ползали вверх и вниз по швам его молескиновых мешковатых брюк, добираясь почти до колена, и он постоянно повторял одно и то же: «Меня ото узяли и вытурили! Меня ото узяли и вытурили!»
– Ты бы лучше сказал, что тебя взяли и втюрили, – хихикнул Вайли, который в отличие от Мерфи любил шутку, пускай и самую примитивную, правда, с тем условием, что шутит он сам.
Вайли налил в стакан довольно много (по мнению самого Вайли) виски и протянул его Куперу.
– Вот, выпей, глядишь и полегчает.
А вот для Купера выпить то количество виски, которое налил ему Вайли, было все равно, что просто понюхать пробочку, но носа своего Купер не воротил и принял предложенное с достаточной почтительностью. Кстати, большинство пробок, которые ему доводилось нюхать, ничем особенным не пахли.
Рассказ Купера о том, как «его вытурили» (иначе говоря, прогнали; Купер изъяснялся с большим трудом и маловразумительно), очищенный от бранных слов, избавленный от повторов, стилистически отредактированный и сокращенный, сводился к следующему.
После многих дней поисков Купер все-таки разыскал Мерфи и не где-нибудь, а в том месте Гайд-Парка, которое облюбовал себе Мерфи для послеполуденного отдыха; Купер последовал за Мерфи, когда тот отправился домой, и довел его уже до угла той улицы, где Мерфи жил. И надо ж было такому случиться, что на том самом углу располагалось шикарное заведение, дворец, можно сказать, джина. Да, то было замечательное место, там становилось все равно, светит ли солнышко или торчит в небе круглая луна. В тот момент, когда мимо здания проходил Купер, следивший за Мерфи и чуть ли не наступавший тому на пятки, как раз раздвигали решетку на дверях и поднимали ставни. Заветные двери раскрылись, но Купер стойко продолжал преследование. Мерфи подошел к дому, в котором жил, и отпер парадную дверь своим ключом. Из чего Купер сделал заключение – и, заметьте, вполне верное, – что Мерфи живет именно в том доме. Купер записал в блокноте своей памяти номер дома и бросился назад, сочиняя на ходу телеграмму, которую он тут же намеревался дать Ниери.
А на том самом углу он остановился – ну на мгновение, чтоб просто взглянуть на замечательное заведение, подобного которому ему не доводилось видеть. И тут Купер увидел, что у дверей на ступеньках стоит себе какая-то веселая личность, в рубашке и еще в чем-то, кажется, зеленом, и крепко так держит в руке бутылочку виски. И лицо у этой счастливой личности – ну что тебе лик ангельский. И вдруг личность эта рукой махнула, ну вроде как поманила Купера…
Когда Купер вышел из того замечательного заведения пять часов спустя, то почувствовал, что жажда его разыгралась не на шутку. Двери за ним закрылись, две створки решетки сошлись, ставни с грохотом опустились. В Западном Бромптоне надо было в те времена предпринимать серьезнейшие меры предосторожности. Такое вот веселое было это местечко, Западный Бромптон.
Все в Купере клокотало, он был готов, подобно Пантагрюэлю, выпить не одну бочку. Луна по странному совпадению находилась одновременно и в фазе полнолуния и в перигее и, словно издеваясь, заливала Купера, пребывающего в Танталовых муках, своим ярким светом. Купер скрипел зубами, Купер мял руками свои обвисшие мешком штаны, Купер был готов учудить что-нибудь эдакое. И тут он вспомнил про Мерфи. Куперу приказано найти Мерфи и следить за ним. Мерфи найден, но теперь надо следить за ним, а это значит, что Купер не волен распоряжаться собой, он привязан, его свобода перемещений ограничена. Значит – Мерфи враг. Купер отправился назад к тому дому, в котором жил Мерфи. Дверь оказалась приоткрытой. Купер вошел. Прикрыл за собой дверь. В парадном было темно. Купер зажег большую толстую спичку. Увидел на площадке проем двери, а двери самой нет, и из подвала тоже ни звука. Увидел лестницу и стал по ней подниматься. На втором этаже увидел дверь, открыл ее. Зажег другую спичку и увидел туалет. Пошел дальше, наугад дергая за ручки дверей. Двери не открывались. За одной из дверей услышал тяжкие стоны. Дернул за ручку, дверь и открылась. Купер заглянул и увидел Мерфи на полу, а сверху на нем кресло-качалку (подробнее мы описали то, что произошло тогда с Мерфи, в главе третьей). Купер решил, что здесь имело место убийство, да еще очень неумелое, и бросился прочь. А когда он выскакивал из двери, то чуть не столкнулся с красивой молодой женщиной. Таких красивых он раньше никогда и не видел.
– Увы, увы! – театрально вскричала Кунихэн. – Изменник! Жестокий изменник!
Купер поездом метро отправился в Воппинг, где питейные заведения не предпринимали таких мер предосторожности, как в Западном Бромптоне, и пил там целую неделю. Ему по счастливому совпадению удалось утолить свою жажду как раз к тому моменту, когда закончились его деньги.
Купер принялся грабить кружки для сбора пожертвований в пользу бедных, и когда набралась сумма, достаточная для перемещений по городу и отправки телеграммы, Купер бросился назад в Западный Бромптон. По пути он успел дать телеграмму Ниери, сообщая, что Мерфи найден. Когда Купер добрался до улицы, где жил Мерфи, он увидел, что дом Мерфи уже снесен и грузовики вывозят, мусор. Он подумал, что местные власти решили привести всю улицу в архитектурное соответствие с питейным дворцом на углу и возвести на месте снесенного дома нечто, с этим дворцом сравнимое.
Купер спешно отправился «домой» – в комнату, которую снимал, – и по пути дал телеграмму, в которой сообщал Ниери, что Мерфи снова потерялся.
Ниери объявился на следующее же утро. Купер, ничего не скрыв от Ниери и рассказав во всех подробностях, как все произошло, отдался на милость разгневанного хозяина и был с позором и напутственными оскорбительными выражениями рассчитан. «Ото взяли и вытурили».
Через несколько дней его усадили в каталажку за попрошайничество – оказалось, он нарушал какой-то там закон, прося денег просто так, не распевая при этом каких-нибудь религиозных или жалобных песен. Просидел он десять дней, но время, которое бы тянулось мучительно медленно, не найди он себе занятия, пролетело быстро – а занимался он тем, что подделывал дату на обратном билете, чтобы по выходе на свободу немедля отправиться назад, в родное отечество. Вернувшись в Ирландию, он несколько дней искал в Дублине Кунихэн – она съехала из гостиницы, не оставив адреса, по которому ее можно было бы найти. И вот теперь Купер наконец-то нашел ее – такой был приятный сюрприз увидеть ее в объятиях господина Вайли, которого он помнил еще по временам, проведенным в Корке. Счастливое было времечко, увы, ушедшее безвозвратно. Купер даже слезинку смахнул со щеки.
Все марионетки, выведенные на сцену в этой книге, начинают рано или поздно хныкать и скулить – все, за исключением Мерфи, которого марионеткой не назовешь.
Вайли, выслушав рассказ Купера, спросил с некоторой угрозой в голосе.
– А ты бы мог снова разыскать Мерфи?
– Ну, наверное, это вот, мог бы.
– А Ниери мог бы разыскать?
– А чего ж нет? Можно.
– Ты знаешь, что Ниери… бросил свою жену? И уже давно.
– Ну, это вот, знаю.
– А ты знаешь, что она в Лондоне?
– Ну, знаю.
– А почему же ты не обратился к ней за помощью после того, как Ниери рассчитал тебя?
Куперу этот вопрос почему-то очень не понравился. Он стал вертеть головой в разные стороны, давая возможность своему мучителю обозревать его профиль то с одной, то с другой стороны. Вайли обнаружил мало сходства между обоими профилями.
– Так почему нет? – продолжал Вайли мучить Купера своими вопросами.
– Я, это вот, ну… мне, это вот, господин Ниери, ну, он мине наравица.
– Это неправда, ты лжешь, – сурово заявил Вайли.
Поскольку это заявление не прозвучало вопросом, Купер никак на него не откликнулся и терпеливо продолжал ждать следующего вопроса.
– Ниери знает слишком много, – туманно высказался Вайли.
Купер ждал вопроса.
– Ты что, боишься, что если настучишь на него, он настучит на тебя? Так или нет?
Купер хранил молчание и ничем, даже жестом, не показывал, правильно высказано предположение или нет.
– Тебе нужно проявить некоторую уступчивость, – смягчился Вайли, – и увидишь, очень скоро благодаря нашей с госпожой Кунихэн денежной помощи ты сможешь и сидеть нормально, и вообще, делать все то, что сейчас никак тебе сделать невозможно. Мы с Кунихэн твои друзья.
У Купера сделался очень довольный и радостный вид; вряд ли он был бы более обрадован, если бы он был монстром, созданным Франкенштейном, а Вайли – самим Де Лейси.
– А теперь, Купер, будь добр, выйди из комнаты и подожди за дверью, – приказал Вайли. – Когда я сочту нужным, я позову тебя.
Первым делом, как только Купер вышел, Вайли поцелуями собрал слезы Кунихэн с ее щек. У него для этой цели имелся особый поцелуй, который он называл «собирающим» и при котором губы работали как машинка для стрижки волос. А расстроило Кунихэн вовсе не описание окровавленного Мерфи, находящегося в странной позе, а сообщение о красавице, заходящей в дом, где жил Мерфи. Памятуя об ошибке, допущенной Ниери на могиле Отца Праута (чья истинная фамилия была Мэхони), Вайли указал Кунихэн на то, что нет никаких оснований как-то увязывать красивую женщину, увиденную Купером, когда он выбегал из дома, с Мерфи. Однако Кунихэн неожиданно обиделась за Мерфи, считая, что предположение Вайли об отсутствии оснований связывать эту красавицу с Мерфи является грубой недооценкой и умалением достоинств Мерфи. К кому еще могла идти красавица в том доме, как не к Мерфи? И Кунихэн полила слезы еще более обильным потоком частично для того, чтобы показать, насколько она оскорблена, а частично, чтобы и далее наслаждаться теми слезособирающими поцелуями, которыми ее обсыпали. Они явились для нее совершенно неожиданным открытием.