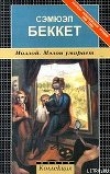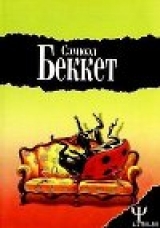
Текст книги "Мерфи"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Сэмюел Баркл Беккет
Мерфи
1
Светило солнце – а что еще ему оставалось делать? – и освещало обыденное. Нет ничего нового под солнцем.[1]1
[1]Нет ничего нового под солнцем – см.: Экклезиаст: «Суета сует… Что было, то и будет… и нет ничего нового под солнцем» (1: 1–9).
[Закрыть] Мерфи сидел так, чтобы солнечные лучи на него не попадали. Казалось, он обладал свободой выбора! Но как раз выбора-то у него и не было, ибо находился он в своей комнатке-клетушке в тупике Младенца Иисуса в Западном Бромптоне, где он вот уже как полгода ел, пил, спал, надевал и снимал одежду. Такая себе клетушка среднего размера, с одной стеной, обращенной на северо-запад и с окном, из которого открывался вид на юго-восток, заставленный такими же клетушками. А скоро ему придется перебираться, потому как дом, в котором располагается его клетушка, обречен. Да-с, скоро ему нужно будет собраться с силами души и тела и начинать привыкать к тому, что придется есть, пить, спать, надевать и снимать одежду в совершенно другом месте, во враждебном окружении.
Мерфи, голый, сидел в своем кресле-качалке, сработанном из обнаженного, неполированного тика, древесина которого, как утверждалось изготовителями, не трескалась, не коробилась, не усыхала, не подгнивала и не поскрипывала даже в ночи, когда умирали все прочие звуки. Кресло это принадлежало Мерфи, он с ним никогда не расставался. Угол, в котором он располагался, был отгорожен от солнца занавеской. Бедное солнышко – сколько миллиардов раз оно уже оказывалось в Деве.[2]2
[2]…оказывалось в Деве – очевидно, имеется в виду вхождение Солнца в зодиакальный знак Девы (в тексте, однако, использовано слово Virgin, а не Virgo, а отсюда можно сделать вывод о дополнительной аллюзии на Деву Марию).
[Закрыть] Семью шарфами Мерфи был привязан к креслу-качалке. Два шарфа, зацепленные за полозья, опутывали его лодыжки, один обматывал бедро и цеплялся за сиденье, два шарфа через грудь и живот привязаны к спинке кресла и еще один держал запястья. Свобода движений была предельно ограничена. С Мерфи катил пот, путы увлажнялись и становились от этого еще более плотными. Никаких внешних признаков дыхания не наблюдалось. Глаза, холодные и неподвижные, как у чайки, смотрели на игру света, расплесканного по лепным украшениям карниза. Световая игра становилась все более вялой и все менее яркой. Где-то часы с кукушкой принялись объявлять то ли четверть часа, то ли половину и эхом влились в шум улицы. Попав в Мерфиеву клетку, кукушечно-часовые звуки, казалось, повторяют: квипрокво, квипрокво…[3]3
[3] Quid pro quo (лат.) – квипрокво, путаница, недоразумение, основанное на принятии чего-то одного за что-то другое; услуга за услугу, компенсация.
[Закрыть]
Все, что Мерфи слышал, и все, что он видел, относилось к разряду тех звуков и тех зрительных образов, которые ему не нравились. Они удерживали его в том мире, к которому принадлежали и к которому он сам, как он трепетно надеялся, не принадлежал.
Он вяло подумал: а что это загораживает солнечный свет и что это там выкрикивают уличные торговцы, однако и мысли и интерес оказались исключительно вялыми, прямо-таки увядшими еще до того, как они распустились.
А сидел он в кресле таким образом просто потому, что это доставляло ему удовольствие. Прежде всего такая поза – привязанность к креслу – ублажала его тело, успокаивала его. Затем освобождался его разум. Ибо до тех пор, пока не укрощалось его тело, разум его не мог раскрепоститься (подробнее эта взаимосвязь описана в главе шестой). А жизнь, начинавшая кипеть в его мозгу, давала ему столь высокое удовольствие, что само слово «удовольствие» становилось совершенно недостаточным для верного описания того, что он ощущал.
Мерфи в не очень отдаленном прошлом проходил в некотором роде обучение у человека из Корка[4]4
[4]Корк – графство в провинции Мюнстер в юго-западной Ирландии; столица графства также называется Корк; город древний, основан еще скандинавами в IX – Х вв.
[Закрыть] по имени Ниери.[5]5
[5]Ниери – у Беккета часто встречаются значащие фамилии. В силу особенностей характера и поведения данного персонажа, его фамилия могла бы звучать как Близкоу.
[Закрыть] В те времена этот человек мог останавливать собственное сердце в любой момент, когда ему заблагорассудится, и не запускать его снова столь долго (ну, естественно, в разумных пределах), сколь ему бы вздумалось. «Желудочки, – говорил он тогда, – остановитесь над Гаваоном, а вы, сердечные ушки, остановитесь над долиною Аиалонскою».[6]6
[6] И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим», – Иисус Навин воззвал к Господу в сражении между израильтянами и аморреями, которое затянулось до темноты (Иис. Н. X, 12,13.)
[Закрыть] К этой редкой способности, которой он овладел после многих лет особых упражнений, проведенных где-то к северу от Нербудды, он прибегал достаточно редко и умеренно, стараясь не исчерпать ее и оставляя на те тяжкие случаи, когда неостановимо тянуло выпить, а раздобыть спиртное никак – по разным причинам – не удавалось, или когда он оказывался среди злобствующих кельтов[7]7
[7] Коренное население Ирландии в этническом отношении не англосаксы, а кельты; можно предположить, что Ниери – не кельтского происхождения и относится к ирландцам свысока; дальнейшее повествование никак эту проблему не высвечивает.
[Закрыть] и не было никакой возможности найти удобный повод, чтобы с ними тут же распрощаться, или же тогда, когда он испытывал мучительные приступы похоти, которые никак нельзя было удовлетворить.
Отправляясь на научение к Ниери, Мерфи вовсе не собирался освоить умение останавливать свое сердце (он полагал, что для человека его темперамента такое умение быстро обернулось бы фатальными последствиями); ему хотелось лишь немного приобщить душу свою к тому, что Ниери, как раз в те времена исповедовавший пифагорейское учение, называл «Апмонией».[8]8
[8]Апмония – надо полагать, это слово значит: напоминание, увещевание, предупреждение, уговаривание; слово греческого происхождения, содержит аллюзию на Пифагора. См. у Диогена Лаэртского: «Пифагором его звали потому, что он вещал истину непогрешимо, как пифия» («О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», VIII, 21).
[Закрыть] Душа Мерфи, которая у него ассоциировалась с его сердцем, вела себя самым непредсказуемым образом, и соответственно так же вело себя его сердце, и при обследованиях врачи никак не могли разобраться, отчего же сердце ведет себя так странно. Его сердце прослушивали, пальпировали, аускулировали, перкуссировали,[9]9
[9]…пальпировали, аускулировали, перкуссировали – значение слов примерно одинаково: прослушивание сердца, но различными способами (простукиванием и т. п.).
[Закрыть] радиографировали и кардиографировали и ничего такого необычного не обнаруживали. Сердце как сердце. Все, фигурально выражаясь, застегнуто должным образом, все вроде бы исправно работает, а однако же что-то было вроде не в порядке. Сердце его выделывало номера на манер кукольного Петрушки. То трудилось с таким надрывом, что, казалось, вот-вот остановится, то вскипало какой-то непонятной страстью, что, казалось, еще немного и взорвется. Состояние между такими двумя крайностями Ниери и называл «Апмонией». Ну а когда ему это слово приедалось, он называл это состояние «Исономией».[10]10
[10]Исономия – дословно исономия означает: равенство прав, равенство перед законом; в пифагорейской философии – это лад (гармония) сил организма, нарушение такого равновесия ведет к болезни.
[Закрыть] Когда же вконец надоедало даже само звучание слова «Исономия», он прибегал к слову «Созвучие». Но какое бы название не давал Ниери тому срединному состоянию меж двух крайностей, в сердце, а соответственно и в душу, Мерфи оно никак не могло проникнуть. Не удавалось Ниери сплавить противоположности в Мерфиевой душе.
Их прощание оказалось памятным событием. Ниери вышел из того состояния, которое можно было бы назвать «мертвой спячкой», и заявил:
– Мерфи, жизнь – это число и земля.[11]11
[11][11] …жизнь – это число и земля – здесь и далее появляются некоторые философские понятия древнегреческой философии, в частности пифагорейства (в весьма, конечно, условном виде): число, земля как один из основных составляющих элементов мира; снятие, отрицание и т. д.
[Закрыть]
– Но она также и странствие в поисках дома, – ответствовал Мерфи.
– Жизнь – это лицо, – говорил Ниери, – или группа лиц, выстроенная по определенной системе на фоне бурлящего и гудящего хаоса… Мне вспоминается лицо госпожи Двайер.
Мерфи подумалось, что с таким же успехом можно было бы вызывать в памяти и лицо Кунихэн. Ниери стиснул руки в кулаки и поднял их вверх, на уровень лица.
– Вот если бы мне добиться расположения девицы Двайер, – проговорил Ниери подрагивающим голосом, – пусть даже всего лишь на какой-нибудь часик, как бы взыграла моя душа!
Костяшки на кулаках Ниери выпирали белыми бугорками и, казалось, вот-вот прорвут кожу; впрочем, так всегда бывает, если сжимать руки слишком сильно… Сжатый кулак как символ утверждения… А затем руки Ниери стали раскрываться, пальцы выпрямились, растопырились во всю свою длину. Растопыренные пальцы как символ отрицания. Мерфи представлялось, что существует два равноправных способа завершить этот жест и достичь того, что в философии называют «снятием». Руки можно было бы крепко приставить к голове жестом, изображающим отчаяние, либо же безвольно опустить и позволить им плетями висеть по бокам, вообразив при этом, что именно из этой позиции началось изначальное движение. Можете сами догадаться, каково было раздражение Мерфи, когда Ниери сделал с руками нечто, не совпадающее с предположениями Мерфи, – он снова сжал кулаки, еще сильнее, чем раньше, и размашисто и гулко стукнул ими по своей собственной груди.
– Ну, еще полчаса, – вскричал Ниери, – ну, хотя бы еще пятнадцать минут!
– А потом что? – спросил Мерфи. – Отправишься назад на остров Тенерифе к обезьянам?[12]12
[12]…к обезьянам – очевидно, по ассоциации с ударами человекообразных обезьян себя в грудь.
[Закрыть]
– Смейся, смейся, издевайся, – с трагическим изломом простонал Ниери, – все бренность, тщета, все дрянь, по крайней мере в данный момент, все пусто без девицы Двайер. Закрытое число в бесформенном хаосе, в бескрайней пустыне, в холодной пустоте… О мой тетрабрюх![13]13
[13]Тетрабрюх – tetrakyt – неологизм Беккета, можно предположить, что слово имеет отношение к пифагорейской тетрактиде или тетрактису (четверке), священному числу, «числу справедливости»; слово, конечно, греческое, но его концовка kyt очень напоминает шотландское kyte – брюхо, пузо; если это слово разложить, то по звучанию получится нечто вроде тетрабрюха.
[Закрыть]
Вот какова была любовь Ниери к девице Двайер, которая любила капитана авиации Эллимана, который любил некую мисс Фаррен из Рингсакидди-Кольцекозленка, которая любила Преподобного Фитта из Боллинклэшета, который, если уж говорить начистоту, вынужден был бы признать, что испытывает некоторую слабость по отношению к некоей госпоже (имя опустим) из Западного Прохода, которая любила Ниери.
– Разделенная любовь, – вещал Ниери, – это короткое замыкание, – и в уме добавлял: «Шаровая молния, сыпящая искрами, готовая взорваться…»
– Такая любовь, которая, терзаясь муками, возводит очи горе, которая жаждет приложить кончик своего маленького пальчика, обмакнутого в китайский лак, к собственному языку, чтобы охладить его, – вот такая любовь тебе, Мерфи, насколько я понимаю, чужда.
– Да, все что ты говоришь, для меня как китайская грамота, – признался Мерфи.
– Ну, давай тогда скажем иначе, – с готовностью предложил Ниери. – Любовь – это как один сверкающий плотный, структурированный сгусток в вихре возбуждающих гетерогенных ласк… Как звучит?
– Сгусток… вот это подходит больше, – промямлил Мерфи.
– Ну вот видишь, – наставительно сказал Ниери. – А теперь обрати внимание вот на что. Ты по какой-то там причине не в состоянии любить… но ведь все-таки есть у тебя какая-то пассия – зовут ее, кажется, Кунихэн, я не ошибся?
– Нет, не ошибся.
– Ну, раз так, давай-ка попробуем определить… как бы это назвать поточнее… твое отношение к этой самой Кунихэн. Ну, Мерфи, как бы ты это сделал? – понукал Мерфи Ниери.
– Ну, я бы сказал, пользуясь медицинской, так сказать, терминологией, что мое отношение к ней «предсердечное», а не сердечное, вялое, сдержанное, лишенное ярких эмоций, несколько порочное.
– Вот именно! – воскликнул Ниери. – Идем дальше. По каким-то там причинам ты не в состоянии любить так, как люблю я, а можешь мне поверить, любить по-настоящему – это значит любить так, как люблю я, и никак не иначе, и вот по тем же самым причинам, каковы б они ни были, сердце твое и соответственно душа твоя такие, как есть. И опять-таки, по тем же причинам…
– Каковы бы они ни были, – вставил Мерфи.
– Вот именно. Так вот, по этим самым причинам я ничего не могу для тебя сделать, – закончил Ниери.
– Ну, видит Бог, так оно и есть.
– Вот именно, – заключил Ниери. Я сильно не удивлюсь, если предмет твоей мужской гордости уменьшится до размеров булавочной головки.
Мерфи раскачал кресло-качалку до крайней степени, а затем замер и позволил качалке качаться самой по себе. Мир за пределами стен его комнаты понемногу замирал, тот большой мир, в котором Quidproquoвыкрикивалось так, словно это делал уличный торговец, и в котором свет угасал так, словно это никогда не происходило дважды одним и тем же образом; большой мир замирал, а тот малый мир, в котором Мерфи мог любить самого себя, оживал, как это описано в шестой главе.
В полуметре от его уха истерически зазвенел телефон. Эх, трубку-то он перед тем, как усаживаться в кресло, забыл снять! А теперь что? Если он не ответит сейчас же, прибежит его хозяйка или кто-нибудь из других ее жильцов. Найдут его примотанным к качалке. Дверь-то не заперта. Даже если б он захотел, этого все равно не удалось бы сделать. В странной комнате он живет, однако, – дверь перекособочена, того и гляди с петель совсем сорвется, зато телефон имеется. До Мерфи эту комнату снимала увядшая блудница, давно отошедшая от блудных дел. Даже в те времена, когда она разгарно занималась своим ремеслом, телефон являлся, можно сказать, весьма важным инструментом, а уйдя на покой, она обнаружила, что телефон сделался для нее вещью вообще незаменимой и обходиться без него она совершенно не может. Дело в том, что ей удавалось заработать кой-какие гроши лишь тогда, когда кто-нибудь из ее давних клиентов вспоминал о ней и звонил по телефону. А когда клиент являлся, она получала небольшую компенсацию за то, что ее побеспокоили понапрасну.
Телефон звонил, а Мерфи никак не мог освободить хотя бы одну руку, чтобы поднять трубку. И он, внутренне сжимаясь, ожидал услышать, что в любую секунду могут раздаться на лестнице торопливые шаги его хозяйки или кого-нибудь еще из ее жильцов. Наконец ему удалось вызволить одну руку, и он схватил трубку, но вместо того, чтобы швырнуть ее на пол, он, пребывая в состоянии крайней нервной возбужденности, приставил ее к уху.
– Черт бы тебя взял! – заорал Мерфи в трубку.
– Он это и пытается сделать, – ответил спокойный голос.
А, это Силия.
Мерфи бросил трубку к себе на колени. Та часть его души, которую он терпеть не мог, жаждала общения с Силией, а та часть, которую он пестовал, тут же ссыхалась при одной мысли о Силии. Телефонный голосок о чем-то жаловался прямо ему в ляжку.
Мерфи некоторое время сносил писклявые неразборчивые стенания, а потом схватил трубку и прокричал в нее:
– Ты что, и в самом деле не собираешься возвращаться?
– У меня уже все есть, – так же спокойно сказала телефонная трубка.
– Я и так об этом знаю.
– Я не то имею в виду, – стала разъяснять Силия. – Ты же меня сам просил достать…
– Не надо мне ничего объяснять, я и так все понимаю.
– Ладно, в таком случае встречаемся на обычном в обычное, – дала указания Силия. – Я захвачу с собой.
– Это невозможно, – поспешно заявил Мерфи. – Я не могу прийти, я ожидаю одного своего друга.
– У тебя нет друзей.
– Ну, как тебе сказать, это не то чтобы друг, просто один забавный старый знакомый. Я с ним недавно случайно встретился. Очаровательный старик. Чистый, глухонемой, – рассказал Мерфи.
– Встречайся себе со своим знакомым, но отправь его пораньше, и как раз успеешь, – непререкаемым тоном заявила Силия.
– Нет, это невозможно, – отнекивался Мерфи.
– Ну, в таком случае я тебе сама занесу, – объявила Силия.
– Heт, не надо этого делать, – испугался Мерфи.
– А почему ты так не хочешь меня видеть? – поинтересовалась Силия.
– Ну сколько раз тебе говорить, что я…
– Послушай, – прервала его Силия. – Я вообще не верю, что у тебя есть какой-то там старый, как ты выразился, забавный знакомый. Таких животных в твоем мире просто не существует.
На это Мерфи ничего не ответил. Та часть его души, которую он пытался любить, стала испытывать усталость.
– Итак, я буду у тебя в девять, – сказала Силия, – я захвачу то с собой. А если тебя дома не окажется…
– Да-да, вот именно, – ухватился Мерфи за предоставленную возможность, – что если мне понадобится выйти?
– В девять. Пока.
Мерфи еще некоторое время вслушивался в замолчавшую трубку, затем бросил ее на пол, вернул руку в прежнее положение, закрепил ее снова и принялся раскачивать кресло-качалку. Мало-помалу он стал успокаиваться, в голове роились мысли, он чувствовал себя много лучше, он пребывал в состоянии свободы, даваемой игрой света и тени, которые не сталкивались, не сражались друг с другом, не менялись местами, не становились ни ярче, ни тусклее, они лишь тесно общались, как это описано в главе шестой. Раскачивание все убыстрялось, амплитуда колебаний все росла, свечение сникло, в комнате-клетке никаких голосов не слышалось – о скоро, вот уже совсем скоро тело начнет успокаиваться! А в подлунном мире все постепенно и медленно замирало, а потом и вовсе замерло; кресло-качалка, завершив свои быстрые колебания, замерла тоже. Скоро, скоро охватит его тело успокоение, скоро он будет свободен…
2

Силия вихрем выскочила из телефонной будки, а вместе с ней столь же стремительно выскочили ее восхитительные бедрышки ну и все прочее. Стрелы огненных взоров, обычно обильно метаемые в нее теми, кто по натуре своей склонен к любвеобилию, в этот раз падали в ее кильватер тлеющей паклей. Она залетела в закусочную и заказала бутерброд с креветками в томатном соусе и большой стакан белого портвейна, который она ловко подхватила с оцинкованной стойки. Выпорхнув из закусочной, она, сопровождаемая взглядами четырех футбольных букмекеров, берущих четыре шиллинга с каждого фунта, быстрым шагом направилась в Тибурнию,[14]14
[14]Тибурния – район Лондона.
[Закрыть] где находилась квартира ее деда по отцу, Виллоуби Келли. Она ничего не скрывала от своего деда, ничего, если не считать того, что могло бы причинить ему душевную боль, а это значит, что она рассказывала почти все.
Между прочим, она уехала из Ирландии, когда ей было всего четыре года.
Лицо у господина Келли было узкое и изборожденное обильными складками и морщинами, порожденными тусклым, скаредным бездельным существованием. По мере того как всякая надежда на нечто лучшее все более терялась, верхняя часть головы освобождалась от волосяного покрова, обнажая прекрасной формы голый череп. Казалось, еще немного и соотношение между весом и объемом мозга и весом тела упало бы до уровня, наблюдаемого лишь у маленьких птичек. Келли лежал в постели и ровным счетом ничем не занимался, если, конечно, не называть занятием подергивание время от времени одеяла.
– Кроме тебя у меня на всем белом свете никого нет, – сообщила деду Силия.
Келли устроился поудобнее на кровати.
– Никого-никого, кроме тебя, ну и, возможно, Мерфи.
Это сообщение произвело на старика Келли какое-то странное впечатление. Глаза его не могли, как говорится, вылезти из орбит, настолько глубоко они сидели в глазницах, но они могли открываться, и именно это они и сделали.
– Я тебе ничего не говорила про Мерфи, – пояснила Силия, – просто боялась, что это тебе может быть неприятно. Я не хотела причинять тебе боль.
– Боль? Видал я в заднице боль! – буркнул Келли.
Келли откинулся на подушку, и в тот момент, когда его голова коснулась ее, глаза его закрылись, точно у куклы, укладываемой в постельку. Ему бы очень хотелось, чтобы Силия куда-нибудь уселась, а не шагала из угла в угол, нервно сцепляя и разъединяя руки, как это она обычно делала. Крепкая дружба двух рук.
Рассказ Силии, приглаженный, сокращенный, украшательный и сжатый, о том, почему ей пришлось говорить о Мерфи, сводится к нижеследующему.
Когда родители Силии погибли – он в теплых объятиях своей любовницы, а она соответственно своего любовника – на борту судна «Замок Морро», совершавшего злосчастный рейс, Силия, бывшая единственным ребенком, осталась без средств к существованию и ей пришлось пойти, так сказать, на панель. Хотя Виллоуби Келли и не считал возможным приветствовать такое решение, однако и переубеждать Силию он не стал. Силия хорошая девочка, говаривал он, она не пропадет.
А Мерфи она повстречала во время одной из своих прогулок год назад, вечером, завершающим день летнего солнцестояния,[15]15
[15] 24 июня, день св. Иоанна.
[Закрыть] когда Солнце находилось в раке.[16]16
[16] Знак Зодиака.
[Закрыть] Она свернула от Эдис Гроув на Креморн Роуд, намереваясь пройтись по участку Риич, идущему вдоль Темзы, и несколько освежиться миазмами реки, а потом двинуться по Лоте Роуд, однако случайно глянув направо, она увидела одинокого мужчину, стоявшего в самом начале улицы Стадионной и бросавшего взгляды то на небо, то на свою газетку. Тем мужчиной и был Мерфи.
– Молю тебя, – воззвал к Силии старик Келли, – не надо всех этих подробностей! Мне совершенно все равно, где ты его повстречала, на Стадионной ли улице, на Креморн Роуд или где-нибудь еще. Рассказывай об этом человеке.
Силия запнулась.
– Ну давай же, не томи! – по-стариковски вскричал Келли.
И Силия продолжила рассказ. Она остановилась в таком месте, чтобы взгляд этого мужчины, проделывающий путь от небес к газетке, неизбежно бы чиркнул по ней. Когда же его голова безвольно опустилась подбородком на грудь, произошло это столь быстро, что взгляд его прошелся по Силии, но тут же ушел в сторону. Он не сразу поднял его на тот уровень, на котором он мог бы с удобством рассмотреть Силию, и посвятил некоторое время своей газетке. А вот если при движении взгляда назад к небесам, к горней вечности, Силия будет находиться на том же самом месте, то имелась вероятность того, что он попросит взгляд свой остановиться и оглядеть ее более внимательно и оценочно.
– А откуда ты все это знаешь? – спросил старик Келли.
– Что именно?
– Ну, все эти дурацкие подробности про взгляд и все такое прочее.
– Он мне все рассказывает, – пояснила Силия.
– Избавь меня от подробностей, – сердился Келли. – Рассказывай о своем мужчине.
Так вот, после того как Мерфи некоторое время водил взглядом по странице своей газетки, он наконец поднял его и отправил в путешествие к небу. Судя по всему, это стоило ему немалых усилий. Вздымаемый взгляд был остановлен на полпути, и, явно благодарный за передышку, он устремился на Силию. Минуты две она терпеливо позволяла этому взгляду ползать по себе, а затем, расставив руки в стороны, начала медленно кружиться на одном месте. «Брава» (именно так, с явным «а» в конце слова), – произнес старик Келли, чем-то напоминающий манекен Русселя, что на улице Регентской. Завершив полный оборот, она обнаружила (как, собственно, и надеялась), что взгляд Мерфи, не скрывшийся под веками, все еще устремлен на нее. Но в следующее мгновение глаза его закрылись, словно не выдержав чрезмерного напряжения, челюсти крепко сомкнулись, подбородок ушел вперед, рот приоткрылся, голова слегка откинулась назад. Мерфи изготовлялся вернуться к созерцанию сияющего закатным светом небесного свода.
Силии более всего хотелось броситься… куда?… В воду. Соблазн войти в нее был очень силен, но она переборола его. И этому придет свое время. Силия двинулась вдоль Темзы и на полпути между мостами Альберта и Баттерси остановилась и уселась на скамейку, вклинившись между каким-то челсийским пенсионером[17]17
[17]Челсийский пенсионер – один из солдат-ветеранов, живших в Челсийском Инвалидном Доме; носили особую фирменную одежду, Челсийский Королевский Инвалидный Дом (Chelsea Royal Hospital), в районе Челси, основан в 1682 г. для инвалидов войны.
[Закрыть] и продавцом мороженого «Эльдорадо», который, поставив в сторонку свой лоток с мороженым, позволил себе немножко передохнуть. Райское дело – отдых. А по набережной прогуливались всякого рода творческие личности: писатели, писаки, «невидимки», пишущие для других, безымянные «негры», творящие, но нигде не поименованные, журналисты, музыканты, поэты-лирики, органисты, художники, декораторы, скульпторы, создающие произведения малых и больших форм, бродячие псы, критики и обозреватели, неизвестные и знаменитые, совершеннолетние и несовершеннолетние, самцы и самки, пьяные и трезвые, смеющиеся и плачущие, стайками и по одному. У другого берега виднелась целая флотилия барж, нагруженных пестро-цветной макулатурой, стоящих на якоре или просто уткнувшихся в прибрежный ил. Высокая дымовая труба, говоря метафорически, снимала перед мостом Баттерси шляпу. На воде буксир грудью весело толкал баржу, пенившую реку. Эльдорадовый мороженщик заснул и обмяк, приличный пенсионер теребил свою невероятного красного цвета гимнастерку и приговаривал: «Черт бы побрал эту погоду, как она меня достала!» Часы на башне Челсийской Старой Церкви неохотно пробили десять. Силия поднялась и отправилась назад, по тому же самому пути, по которому и пришла. Но вместо того, чтобы побыстрее добраться на Лоте Роуд, как ей того хотелось, она совершенно неожиданно для себя оказалась на Креморн Роуд. А тот мужчина по-прежнему стоял в устье Стадионной улицы, хотя уже и в несколько иной позе.
– Черт бы побрал эту твою историю, – ворчал старик Келли. – Я уже совсем запутался.
А Мерфи стоял, засунув руки в карманы и скрестив ноги; газетка валялась перед ним, а сам он смотрел прямо перед собой. Вот тогда Силия уже безо всяких обиняков сама подошла к нему («Развратная девица!» – возмутился старик Келли), а потом они рука об руку пошли себе прочь, а газетка с гороскопом на июнь так и осталась лежать в придорожной канаве.
– Темно уже, включи-ка свет, – попросил старик Келли.
Силия включила свет и поправила старику подушки.
И начиная с этого момента, они, Мерфи и Силия, сделались неразлучными и незаменимыми друг для друга.
– Подожди, подожди! – вскричал старик. – Не так быстро! Ты многое пропустила! Вернись к тому, как вы пошли себе рука об руку. Ну а дальше что было?
Силия влюбилась в Мерфи, а Мерфи влюбился в Силию, то была любовь с первого взгляда, поразительный случай разделенной любви. Да, все началось именно с того первого долгого взгляда, которым они обменялись, стоя в самом начале Стадионной улицы, а не с того момента, когда они уже шли рука об руку, или с какого-нибудь более позднего события. В том, как они двинулись прочь со Стадионной, все уже и обозначилось. Мерфи много раз ей потом об этом говорил, когда они сиживали в «Барбаре», «Бакарди», «Барокко»… а вот, правда, в «Брамантипе» они никогда не бывали… Всякий раз, когда они расставались, время в разлуке казалось ей бессмысленной вечностью; нечто подобное испытывал и Мерфи, и выражал он свое настроение, возможно, еще более решительно, чем Силия, в таких словах: «Что такое моя жизнь теперь без Силии?»
А в следующее воскресенье, когда луна пребывала в конъюнкции,[18]18
[18]Конъюнкция – соединение; наибольшее кажущееся сближение небесных тел.
[Закрыть] он сделал ей предложение в крытом саду субтропических растений в Парке Баттерси, сразу после того, как прозвенел звонок, предупреждающий посетителей, что сад закрывается и пора уходить…
Старик Келли простонал:
– Ну и?…
Силия приняла предложение.
– Вот дурочка! – воскликнул старик Келли. – Просто архидура!
Мерфи, почерпнув кое-какие идеи из «Города Солнца» Кампанеллы,[19]19
[19]Томмазо Кампанелла (1568–1639) – итальянский философ; наиболее известное его произведение – «Город Солнца» – своего рода философская утопия, в которой он описал эгалитарное теократическое государство; в советские времена считался чуть ли не одним из предшественников марксизма, коммунистам импонировали идеи Кампанеллы о тоталитарном подавлении личности государством.
[Закрыть] заявил, что им следует пожениться, причем обязательно, несмотря ни на какие препятствия, еще до того, как луна попадет в оппозицию.[20]20
[20]Оппозиция – период, когда Луна находится на наибольшем расстоянии от Земли.
[Закрыть] Стоял сентябрь, солнце снова находилось в Деве, их отношения еще не были, так сказать, узаконены.
Старик Келли не мог более сдерживаться, он даже привскочил на своей кровати, отчего у него открылись глаза – а он так и предполагал, что от такого движения глаза его обязательно раскроются, – и потребовал, чтобы ему немедленно сообщили все подробности: кто, как, что, где, каким образом, почему, каким способом и когда. Слегка копнуть – и почти в каждом старике обнаружится оратор, не хуже самого Квинтилиана.[21]21
[21]Марк Фабий Квинтилиан (ок.35 – ок.96) – древнеримский оратор и учитель риторики; его книга по риторике и ораторскому искусству служила многим поколениям ораторов, вплоть до эпохи Возрождения.
[Закрыть]
– Так все-таки, кто же такой этот твой Мерфи, ради которого, насколько я понимаю, ты и работу свою забросила!? Что он из себя представляет? Откуда он взялся? Из какой он семьи? Чем он занимается? Есть ли у него деньги? Имеются ли у него какие-нибудь виды на будущее? У него вообще за душой что-нибудь есть?
Силия начала отвечать на вопросы старика в том же порядке, в каком он их задавал. Мерфи – это Мерфи. Продолжая давать ответы, она сообщила, что у него нет никакой определенной профессии и никакого определенного занятия; прибыл он из Дублина… («Боже мой, какой ужас!» – воскликнул тут Келли)…у него, насколько известно Силии, имеется один дядя, некий Квинси, преуспевающий бездельник, живущий в Голландии; Мерфи пытался вести с ним переписку; Мерфи, насколько она может судить, нигде и никогда не работал; иногда у него заводились кой-какие деньжата, достаточные для того, чтобы купить билет в турецкие бани; Мерфи считал, что его ожидает великое будущее; и никогда он в разговорах не возвращался к прошлому. Мерфи – это Мерфи, вот и все. И у него есть его Силия.
Старик Келли собрался с силами и возопил:
– А на что же он живет?
– Ну, ему немножко перепадает от добрых людей. Старик рухнул на подушку. Он свое сказал, выстрел сделан. Теперь пропади оно все пропадом.
А Силия в своем рассказе подошла к той части своих отношений с Мерфи, объяснить которую старику было бы очень трудно, хотя бы потому, что она сама здесь многого не понимала. Она чувствовала, что если бы ей каким-нибудь образом удалось растолковать суть проблемы деду, то тут же ситуация была бы проанализирована его огромным церебральным устройством, которое немедленно и исправно выдало бы ответ. Силия, все ускоряя свои шаги, меряющие комнату, насиловала свой собственный мозг, не очень, мягко скажем, большой, пытаясь разгадать, отчего же возникли проблемы в отношениях с Мерфи. Она сознавала, что их отношения подошли к некоей критической точке, еще более поворотной, чем та, что находилась на пересечении улиц Эдис Гроув, Креморн Роуд и Стадионной.
– Знаешь, никого у меня нет на свете, кроме тебя, – пробормотала Силия.
– Да уж, никого. А как же твой Мерфи?
– Да нет больше на свете человека, с которым я могла бы обо всем этом говорить. А с Мерфи ни о чем таком не поговоришь.
– Ну, ты меня утешила! Силия, остановившись, высоко подняла сжатые руки, хотя знала, что дед этого жеста не увидит, потому что глаза его снова были закрыты, и попросила:
– Пожалуйста, послушай внимательно и поясни мне, что все это значит и что мне делать дальше?
– Подожди, подожди! – вскричал старик. Его рассеянное внимание плохо слушалось призывов и сосредоточивалось медленно. Причин тому было много. Одна из них заключалась в его кэкуме,[22]22
[22]Кэкум – слепая кишка.
[Закрыть] которая стала снова, да позволено будет так выразиться, вилять своим хвостом; другая причина заключалась в его конечностях, которые не хотели слушаться его воли, подобно дрейфующему судну, не слушающемуся руля и волочащему за собой якорь; еще одна причина лежала в его детстве ну и так далее. Все эти причины следовало уважить, каждой уделить должное внимание. И вот когда старик решил, что сделано в этом смысле достаточно, он окликнул Силию:
– Ну вот, теперь я готов внимательно слушать.
Силия тратила все то малое, что она зарабатывала, Мерфи не зарабатывал ни пенни. Его благородная независимость зиждилась на некоей договоренности с хозяйкой, у которой он снимал квартиру; смысл этой договоренности заключался в следующем: она отправляла прекрасно препарированные счета и деньги, полученные от квартиронанимателей, господину Квигли, владельцу дома, и отдавала Мерфи то немногое, что оставалось в результате такой обработки счетов; правда, она кое-что вычитала и для себя в качестве комиссионных, что было вполне резонно. Такое замечательное взаимодействие с хозяйкой позволяло Мерфи вести не очень голодное существование, но для семейной жизни, даже очень скромной, получаемых таким образом малых денег никак не могло бы хватить. Ситуация осложнялась тем, что дом предполагалось снести, а обращаться к великодушию господина Квигли не было никакой возможности. «Имею ли я право кусать руку, которая морит меня голодом, с тем, чтобы она меня удавила?» – вопрошал Мерфи. Конечно же, они, если бы постарались, могли бы вдвоем заработать достаточно, чтобы сводить концы с концами. Мерфи тоже так считал, но при высказывании этого соображения у него было такое гадкое выражение на лице, что Силию брала оторопь, ей хотелось бежать куда подальше, но она чувствовала, что жить без него пока не может. Мерфи испытывал глубочайшее почтение к непостижимым таинствам человеческого духа, и он весьма легко воспринимал свою неспособность делать какие-либо вложения в поддержание семейного очага. А если она тоже не в состоянии их обеспечить, говорил Мерфи, ну что ж, значит так и будет. Либерализм его иногда заходил слишком далеко, но таков уж был Мерфи.
– Ну, пока я вроде бы все понимаю, – сообщил старик Келли. – Но вот только… как быть с тем, что он ничего не может вносить в семейную копилку?