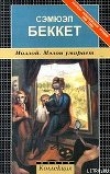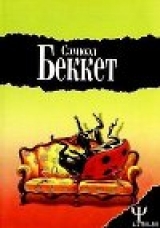
Текст книги "Мерфи"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Усталость и сонливость сморили Мерфи, и он, нырнув головой вперед на кровать, обрушился на доску. Фигуры разлетелись во все стороны со страшным грохотом. В потухающем сознании Мерфи несколько мгновений еще присутствовал образ Эндона во всем роскошестве его одеяний, причем почти столь же яркий, как и сам оригинал, однако и этот образ быстро потух. Мерфи уже ничего не видел, он погрузился во тьму без образов и без оттенков и цветов, что так редко случается с нами после того, как мы выбираемся из утробы; в том мире безобразной и без-цветной тьмы, в который погрузился Мерфи, отсутствовала даже возможность не столько percipere,[220]220
[220] Воспринимать (лат.).
[Закрыть]сколькоpercipi[221]221
[221] Быть воспринимаемым (лат.).
[Закрыть] (если мы проигнорируем то тонкое различие, которое присутствует в этих словах), что оказалось такой нежданной радостью. И это было не тупое упокоение, возникшее в результате того, что все чувства замерли, и не уверенное спокойствие, которое возникает тогда, когда что-то уходит из Ничто либо, наоборот, просто прибавляется к Ничто, к тому ничто, которое насмешник из Абдер[222]222
[222]…насмешник из Абдер – имеется в виду Протагор, древнегреческий философ (середина V в. до Р.Х.) из Абдер; до нас не дошли произведения Протагора, однако некоторое представление о сути его учения можно почерпнуть из упоминаний в произведениях других древних философов и историков; Протагор учил, что небытие и бытие обладают равной реальностью; Протагору принадлежит широко известное изречение «человек – мера всех вещей».
[Закрыть] считал более реальным, чем сама реальность. Время не остановилось – это уж было бы слишком! – однако остановился круговорот обходов и отдыха, ибо Мерфи продолжал лежать на кровати – голова на шахматной доске среди разлетевшихся во все стороны шахматных армий – и впитывать через все тайные отверстия своей усохшей души то без-событийное Одно-Единственное, которое так удобно называют «Ничто». Затем и это исчезло, а точнее, просто распалось, и Мерфи вернулся в реальность, тут же окунувшись в обычные для этой реальности дурные запахи, суровые необходимости, гадкие звуки, от которых вяли уши, и мерзостные виды, от созерцания которых хотелось поскорее закрыть глаза… И вернувшись в эту реальность, Мерфи увидел, что Эндона ни на кровати, ни в палате нет.
А Эндон некоторое время бродил по коридорам, нажимая там и сям на выключатели и кнопки специальной сигнализации, сообщающей о посещениях палат (об этой системе мы уже рассказывали). На первый взгляд показалось бы, что он это делал совершенно произвольным образом, однако на самом-то деле он следовал какой-то аментальной[223]223
[223]Аментальный – лишенный разума.
[Закрыть] системе, в своем роде столь же точно разработанной, что и его система игры в шахматы. Побродив по коридорам, Мерфи обнаружил Эндона перед «мягкой комнатой», в которой был заключен гипоманиак. Эндон стоял в грациозной позе перед дверью и нажимал поочередно то кнопку, сигнализирующую о посещениях, то кнопку выключателя. Делал он это самими разнообразными способами: то подолгу держал нажатую кнопку, то нажимал и тут же отпускал. Выходило приблизительно таю свет для начала включен, потом нажата кнопка, сигнализирующая о посещении, затем свет тут же выключен; снова включен, нажата кнопка, выключен, и так далее в самом разнообразном порядке. В тот момент, когда Мерфи обнаружил Эндона, тот серьезно обдумывал, не включить ли ему свет снова. Мерфи остановил его руку, когда она уже тянулась к выключателю.
А гипоманиак все это время, растревоженный постоянными вспышками безжалостного света, бросался на мягкие стены своей камеры.
На следующее утро Бом обнаружил у себя на панели сигнализации, что гипоманиака исправно посещали каждые десять минут, начиная с восьми часов вечера и до четырех часов утра, а затем в течение нескольких минут было зарегистрировано множество посещений, которые после этого вообще прекратились. Такое невиданное количество посещений, сделанных в такое невиданно короткое время, его невероятно озадачило – даже потрясло – и эта загадка мучила его, не находя разрешения, да самой гробовой доски. Не найдя никакого толкового объяснения этому странному событию, он объявил, что Мерфи просто сошел с ума, и добавил при этом, что это его ничуть не удивляет. Такое заявление Бома в какой-то степени помогло спасти честь его отделения, но отнюдь не помогло успокоить его взбудораженный ум. А в М.З.М. до сих пор вспоминают Мерфи – вспоминают как санитара, который прямо на работе лишился рассудка, вспоминают с жалостью, насмешкой, презрением и даже с некоторой долей благоговейного страха. Но это его не утешает. Он уже вообще не доступен ни утешению, ни какому-либо другому чувству.
Вернемся к той ночи: Эндон, застигнутый Мерфи перед дверью гипоманиака, спокойно вернулся к себе в палату. Его никоим образом не затронуло то, что его руку остановили как раз в тот момент, когда он пытался, как он сам считал, вернуть своего Падишаха на положенное ему поле шахматной доски, а затем и не допустили снова включить свет в камере гипоманиака. Так уж было написано на роду Эндона, что он постоянно оказывался зависимым от прихотей то ли своей, то ли чужой руки.
А Мерфи, вернувшись в палату Эндона, спокойно сложил шахматные фигуры в коробку, снял с Эндона халат и пулены, уложил его в постель и подоткнул одеяло. Эндон откинулся на подушку и устремил свой взор на нечто невероятно от него удаленное, возможно, на ту букашку, которая видится некоторым людям в безвоздушных пространствах воображения. Мерфи, став на колени рядом с кроватью – весьма низкой, – обхватил голову Эндона руками и повернул ее так, чтобы глаза Эндона смотрели на него или, точнее, чтобы его собственные глаза смотрели в глаза Эндона. Две пары их глаз разделяла теперь совсем узенькая воздушная пропасть, не шире ладони, поставленной на ребро. Мерфи и раньше осматривал глаза Эндона, но никогда ранее не делал это с такой тщательностью, как в тот раз.
А глаза у Эндона были замечательной формы и весьма необычного вида: глубоко посаженные и одновременно на выкате; Природа подшутила над его лицом, расставив глаза столь широко, что брови Эндона и скулы так далеко сдвинулись в стороны, что, казалось, они вообще соскользнут с лица. И цвет глаз Эндона тоже вполне заслуживал быть названным замечательным, хотя бы уже потому, что какой-либо определенный цвет отсутствовал. Белки глаз – а белая полоска наблюдалась даже непосредственно под верхним веком – заполняли, казалось, всю видимую поверхность глаза; зрачки очень сильно расширены, словно Эндон постоянно смотрел на яркий – притом излишне яркий – свет. Радужные оболочки обнаруживались лишь при пристальном рассматривании и представляли собой некое подобие тонкого ободка бледного, светло-зеленого или светло-голубого цвета какой-то зернистой структуры. Ободок этот, казалось, вот-вот начнет вращаться, словно на подшипниках, сначала в одну, а потом в другую сторону, и если бы это произошло, то Мерфи ничуть бы не удивился. Все четыре века – два верхних и два нижних – были вывернуты каким-то непостижимым, но очень выразительным образом, каждое веко немножко по-своему. Такая выворочен-ность придавала глазам выражение, в котором просматривались и хитрость, и растленность, и восхищенное внимание. Приблизившись еще больше, Мерфи разглядел слизь, поблескивавшую крошечными точечками во всех тех слегка красноватых местах, которые были явно воспалены; в одном месте воспаление было несколько побольше и венчиком нагноения окружало корень одной из ресниц. Мерфи рассматривал кружево тончайших сосудиков, чем-то напоминающее сетку мельчайших трещинок на ногте пальца ноги, а в роговице видел свое собственное отражение, ужасно искаженное, крошечное и неясное. Мерфи и Эндон словно изготовились для легкого поцелуя, которым обмениваются бабочки, если, конечно, такое описание их поз здесь уместно.
Коленопреклоненный Мерфи, запустивший пальцы в свои волосы, торчавшие между ними черными грубыми пучками, как гребни скал меж полосами грязного снега, почти касающийся губами, носом и лбом губ, носа и лба Эндона, глядящий на свое отражение, искаженное до почти полной, болезненной неузнаваемости в Эндоновых ничего и никого не видящих глазах, услышал вдруг мысленным слухом слова, которые, казалось, настойчиво требовали, чтобы их произнесли вслух, громко, прямо в лицо Эндону. И это требовалось от Мерфи, который обычно сам ни с кем не заговаривал и от которого можно было услышать что-либо лишь в том случае, если ему нужно было отвечать на вопрос, к нему обращенный, и то не всегда!
«… конец его виден
наконец
но сам он не виден
молодец
вот тебе и весь сказ…»
Смолкли. И снова:
«В последний раз Мерфи видел Эндона тогда, когда Эндон уже не видел Мерфи. Тогда же Мерфи увидел и себя в последний раз, крошечным и отраженным».
Смолкли. И снова:
«Отношения между Мерфи и Эндоном, пожалуй, наилучшим образом можно было бы описать как грусть первого, испытанная от того, что он увидел себя в глазах последнего, который перестал видеть что-либо или кого-либо кроме себя самого».
Слова умолкли надолго. А потом снова:
«Мерфи – пылинка в глазу Эндона, видящего невидимое».
Вот и весь метеорический афлятус![224]224
[224]Афлятус – Беккет соединил два слова: afflatus u flatulence в одно и получил afflatulence. Первое (afflatus) означает: вдохновение, озарение, откровение, божественное откровение; второе (flatulence) – метеоризм, скопление газов в кишечнике, вспучивание. Как всегда, у Беккета в подобных случаях смысл ощутим, но зыбок: слова, прозвучавшие в голове Мерфи как некое откровение одновременно явились и чем-то, «вспучившим» его рассудок.
[Закрыть] Мерфи уверенным движением уложил голову Эндона на подушку, поднялся с колен, вышел из палаты, а потом ушел из корпуса, без сожаления, но и без облегчения.
Хотя до рассвета оставалось уже немного времени, стояла полная тьма, холодная и сырая, а Мерфи, можно сказать, светился внутри, однако он даже не удивлялся тому, что не излучает свет. За час до его выхода из корпуса луна вынуждена была подчиниться законам движения небесных тел и скрыться, а солнцу до восхода оставалось не менее часа. Мерфи поднял лицо к небу, опустевшему, терпеливо чего-то ожидающему – эти определения относятся к небу, а не к лицу, ибо лицо Мерфи выглядело хоть и опустевшим (если бы его кто-нибудь смог разглядеть в темноте), но ничего не ожидающим. Мерфи стащил с себя туфли и носки и выбросил их в ночь. Он медленно шел, волоча ноги по траве, меж деревьями парка по направлению к дому, где жили санитары. По дороге он снимал с себя одежду, одну вещь за другой и швырял их наземь, совершенно забыв при этом, что все эти вещи ему выданы, что они ему не принадлежат. Раздевшись донага, он улегся на траву, совершенно мокрую от росы, и попытался вызвать в памяти образ Силии. Не получилось. Образ матери? Тоже тщетно. Образ отца (Мерфи был вполне законнорожденным ребенком своих родителей). И это не получилось. Ничего удивительного в том, что образ матери не приходил к нему – обычно старания воскресить ее образ в памяти оканчивались безуспешно. Но вот то, что ему не удалось воссоздать в памяти образ подруги, явилось неожиданностью. И ему всегда удавалось явственно увидеть внутренним взором отца, а вот теперь и это не удалось. Ему явственно явились сжатые кулачки и вздернутое личико Младенца Христа, уже знающего, что Его ждет, на картине «Обрезание» Джованни Беллини.[225]225
[225]Джованни Беллини (ок.1430–1516) – художник итальянского Возрождения, один из самых значительных представителей Венецианской школы живописи; у него учились Джорджоне, Тициан, Пальма Веккио.
[Закрыть] Затем возникла картина: кому-то выдирали глаза, кому-то незнакомому, а потом и Эндону. Пытаясь прогнать эти мысленные картины, Мерфи снова и снова старался оживить в памяти образы отца, матери, Силии, Вайли, Ниери, Купера, Розы Росы, Кэрридж, Нелли, овец, бакалейщиков, даже Бома со всей его Компанией. После того как все эти попытки завершились крахом, он стал перебирать в памяти всех тех мужчин, женщин, детей и животных, которых ему когда-либо приходилось знавать, и все напрасно – их образы не хотели являться ему. Ни единого образа не удалось вызволить из завалов памяти. Перед его умственным взором всплывали отдельные части тела, пейзажи, руки, глаза, какие-то линии и цветные бесформенные пятна и куда-то уплывали, словно разворачивалась дефектная кинолента. Ему казалось, что бобина, на которую она намотана, находится у него где-то глубоко в горле. Надо остановить эту ужасную ленту, а для этого следует прервать существование того, кто являлся ее носителем, то есть его самого. Надо успеть это сделать, пока не начнут появляться еще более ужасные картины. Мерфи поднялся с травы и бросился бежать к дому, в котором на чердаке располагалась его комната. Пробежав некоторое расстояние, он запыхался и, чтобы несколько отдышаться, перешел на шаг, потом снова бросился бежать. Пробежав немного, опять перешел на шаг. Добравшись к себе, он затащил наверх лестницу, зажег свечу, закрепленную на полу в застывшей лужице того непонятного вещества, из которого она была сделана, и привязал себя к креслу-качалке. В нем присутствовало смутное намерение немного покачаться в кресле и, если бы он почувствовал себя лучше, подняться, одеться и отправиться на Пивоваренную улицу, к Силии, к их серенадам, ноктюрнам, альбам. Пускай Тыкалпенни выслушает музыку, музыку, музыку, МУЗЫКУ, МУЗЫКУбрани из-за того, что его протеже сбежал. Мерфи раскачивал кресло. Вспомнились слова Сука из гороскопа: «…Луна в четверти и Солнечная орбита воздействуют на Хилега. Гершель в Водолее останавливает воду».
Раскачиваясь в качалке, Мерфи поочередно видел то свечу и обогреватель, то застекленный люк в потолке-стене. Свеча мерцала, обогреватель, казалось, улыбался, а люк обещал вид на звездное небо. Понемногу он почувствовал себя лучше, в голове стало проясняться, началось шевеление мыслей. Свободное сочетание света и темноты в комнате, их сосуществование, а не столкновение, их постоянство без каких бы то ни было изменений интенсивности – все это воздействовало на Мерфи благотворно. Кресло раскачивалось все сильнее, время колебаний становилось все короче. Свет померк, померкла улыбка обогревателя и люковое обещание звездного неба померкло – вот-вот и тело Мерфи успокоится. Все в подлунном мире замирало, останавливалось – замерло. Раскачивание кресла-качалки, некоторое время убыстрявшееся, замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Вот-вот, вот уже совсем скоро тело его угомонится, успокоится, скоро он будет свободен…
Незажженный газ с тихим шипением сочился из баллона, превосходный газ, сверхзамечательный хаос…
И вскоре тело Мерфи угомонилось, успокоилось, застыло…
12
Позднее утро, среда, 23 октября. В небе ни облачка.
Купер сидел – да, да, представьте себе, Купер обрел способность сидеть! – так вот, Купер сидел рядом с водителем; Вайли сидел между Силией и Кунихэн; Ниери сидел, спиной к дверце, на одном из откидных сидений, положив ноги на другое, занимая позу, весьма, надо сказать, чреватую для него скрытой опасностью. Ниери считал, что ему повезло с местом в машине больше, чем Вайли, так он мог видеть лицо Силии, голова которой была постоянно повернута к окну. А вот Вайли считал, что повезло больше ему, чем Ниери, особенно в те моменты, когда они ехали по участкам дороги, которые были вымощены булыжником, или делали крутой поворот. К тому же Вайли уставал от созерцания лиц значительно быстрее, чем Ниери.
Лицо Кунихэн тоже было повернуто к окну, но увы, оно не привлекало такого же внимания, как лицо Силии. И она это явственно ощущала, настолько явственно, что, казалось, об этом написано на стекле. Однако это обстоятельство не вызывало в ней чрезмерного беспокойства. Они никогда не получат большего, чем имеют сейчас, решила она, даже того малого, что имеет в данный момент, даже простого нахождения рядом с ней! И даже это малое вскоре у них отнимется. А потом – потом они все равно прибегут к ей, на задних лапках!
Кунихэн обладала способностью думать плохое о своих любовниках, прошлых, нынешних и даже просто еще только предполагаемых, при этом о себе самой думая лишь только хорошее. Эту способность должны развить в себе молодые люди, и женщины, и мужчины, вступающие на арену половых игр.
Всем, кроме Силии, эмоциональные механизмы души которой словно приостановились и замерли, казалось, что они уже присутствуют на похоронах и едут в машине ближайших друзей и родственников усопшего, настолько сильным было чувство освобождения от того, что давило на них. И в самом деле, жизнь на Пивоваренной улице сделалась просто невыносимой. Там продолжала раскручиваться старая цепочка любви, терпимости, безразличия, омерзения и отвращения.
Ниери и Вайли, после того, что произошло, разместились наверху, в комнате, которую когда-то занимал старик, а Кунихэн – прямо под ними, вместе с Силией. Кунихэн была бы не прочь подняться в комнату к Вайли при условии, что Силия не возражала бы против того, чтобы Ниери спустился к ней в комнату. Вайли же никоим образом не возражал бы против того, чтобы спуститься к Силии, если бы Кунихэн наотрез не отказывалась подняться к Ниери. И Ниери, возможно, был бы только рад спуститься вниз или принять даму у себя в комнате, если бы и та, и другая безо всяких обиняков не выказывали полное нежелание общаться с Ниери ни вверху, ни внизу.
Вследствие всех этих желаний, нежеланий и отвращений Силии и Кунихэн пришлось размещаться в одной (поскольку единственной) кровати в большой комнате. Кунихэн рассказывала Силии такие вещи о Мерфи, которые не делали ей чести и не сообщали Силии ничего нового. Ниери и Вайли поочередно спали в кровати в той комнате наверху, в которой когда-то обитал старик, и каждый из них думал о Силии, причем каждый из них, вызывая перед своим мысленным взором образ Силии, делал это сугубо по-своему, в зависимости от своих индивидуальных наклонностей.
Итак, постепенно и Ниери и Силия начинают терять свою потребность в Мерфи. Он переносит свою потребность на Силию, а она жаждет отдохнуть от своей потребности.
В довершение ко всему надо было где-нибудь разместить Купера, и ему устраивали импровизированную постель на полу в кухне. Подглядывая в замочную скважину, Кэрридж наблюдала за тем, как Купер укладывается спать, в носках, в брюках из плотной ткани, в рубашке. Не снимал Купер даже шляпы. Разве интересно подсматривать за человеком, который укладываясь спать, остается практически полностью одетым? Да, Купер разочаровал Кэрридж.
В течение двух дней и трех ночей они не выходили из дому. Ниери не выходил из дому потому, что не доверял своим сообщникам, ни Вайли ни Кунихэн, ни ей, ни ему по отдельности, ни им двоим вместе, особенно теперь, когда они сошлись под одной крышей; к тому же он опасался того, что Мерфи может объявиться, по закону ехидства, именно в его отсутствие.
Вайли и Силия не выходили по приблизительно тем же причинам, с той только разницей, что они, каждый по отдельности, и он, и она вместе взятые, не доверяли Ниери. Купер не выходил из дому просто потому, что ему запретили это делать. Силия не выходила на улицу потому, что ей и в голову не приходило это сделать. А Кэрридж не выходила потому, что на это у нее не было времени. Казалось, никто из них вообще никогда уже из дома не выйдет, но тут пришло спасение в виде записки от доктора Ангуса Убифсиха, из которой стало ясно, что, по крайней мере, одна причина, удерживавшая всех в доме, отпала: опасаться того, что Мерфи может нежданно нагрянуть, уже не приходилось. А раз так, то они уже могли спокойно отправиться подышать свежим воздухом безо всякого опасения, что во время их отсутствия может объявиться Мерфи…
Когда они выходили из дома и шли к машине, никто не проронил ни слова. То немногое, что они знали о правильности своих предчувствий, не заслуживало ни того, чтобы искать этим предчувствиям подтверждений, ни того, чтобы пытаться их опровергнуть. Силия, откинувшись спиной на сиденье и склонившись лицом к окну, ничего не замечала вокруг себя, кроме цветных полос, несущихся за окном, убегающих в прошлое, и ничего не чувствовала, кроме сиденья, толкавшего ее в спину. Кунихэн прижимала грудь к тому, кого считала меньшим из двух зол, и делала это со смутным удовольствием, хотя и не без некоторой горечи. Прежде, пока вероятность того, что Мерфи все-таки может вернуться к ней, не исключалась полностью, сохранялся и риск того, что Мерфи покинет ее просто так, без ухода к какой-нибудь другой женщине; было бы ужасно, если бы он окончательно и бесповоротно ушел от нее к Силии или к какой-нибудь другой шлюхе – последнее не было бы столь ужасно, как первое, но тоже было бы достаточно неприятно. А теперь ничего такого можно было не опасаться… В некотором роде подобное же облегчение испытывал и Ниери, для которого созерцание Силии превратило желание общения с Мерфи из цели в себе в ощущение того, что Мерфи сделался в некотором смысле препятствием. Да, вполне можно было испытывать удовлетворение от того, как все повернулось… А у Вайли, которого трясло на всех ухабах и бросало из стороны в сторону на всех поворотах, крутилась в голове одна и та же фраза: а разве я вам всем не говорил, что она так или иначе приведет нас к нему?
Вежливость и чистосердечие обычно идут бок о бок, и если в той или иной ситуации вежливость неуместна, неприменимо и чистосердечие, и соответственно наоборот. В такой ситуации следует просто молчать, воздвигать стену молчания между собой и другими, эту на самом-то деле тонкую перегородку между тем, что плохо скрываемо, и тем, что плохо высказываемо, между ложью неловкой и ложью вынужденной.
В М.З.М. их принял доктор Ангус Убифсих, магистр всяческих наук (получивший свое магистерское звание на Внешних Гебридах), большой авторитет местного масштаба, благочестивый моттист.[226]226
[226]Моттист – последователь Джона Мотта (1865–1955), активного миссионера, проповедника христианства в его евангелической форме; Мотт получил (вместе с Эмили Балч) Нобелевскую премию мира в 1947 г.
[Закрыть] Гебридский магистр был большим костлявым мужчиной, сутулым, розовощеким, грубовато-равнодушным, его украшали бакенбарды такой конфигурации, которую можно увидеть у старомодных продавцов в антикварных лавках; его руки, покрытые странным розовато-рыжеватым пушком, были в пятнах, какие бывают у садовников; глаза у него были красными, очевидно, от постоянного и напряженного всматривания в пациентов для выявления у них симптомов регресса. Убифсих, пригладив бакенбарды, обратился к Силии:
– Госпожа Мерфи?
– Видите ли, – ответила за нее Кунихэн, – боюсь, что мы все… просто его очень хорошие друзья.
Убифсих вытащил из кармана конверт, который выглядел так, словно он побывал в огне, но его успели вовремя вытащить. Убифсих поднял руку, державшую конверт, с видом фокусника, вытащившего из колоды карт заказанного туза. На конверте можно было ясно прочитать, что содержимое адресовано «г-же Мерфи», проживающей по такому-то адресу на Пивоваренной улице. Буквы, выведенные карандашом, выглядели и шатко и валко.
– Вот и все, что мы имеем, – сообщил собравшимся Убифсих. – Если у него и были какие-то иные бумаги, боюсь, оне все пагыбли в охне (последние слова Убифсих произнес, надо думать, на гебридский манер).
Ниери, Вайли и Кунихэн, словно сговорившись, вскинули руки вверх картинным жестом удивления и отчаяния.
– Давайте я возьму, – вызвался Ниери, – я обязательно передам его.
– Да, да, не сомневайтесь, будет доставлено, – подтвердил Вайли.
– Мы все тут его лучшие друзья, – напомнила убифсиху Кунихэн.
Убифсих вернул конверт в свой карман, встал из-за стола и жестом предложил следовать за ним.
Покойницкая выглядела, как веселое бунгало, и вовсе не походила на морг: кругом росли кусты и тис; плющ и виноград с красными листьями так густо оплетали стены, что почти полностью скрывали кирпичную кладку. На отполированной до блеска мраморной ступеньке рядышком сидели Бим и Тыкалпенни, плотно прижимаясь друг к другу, а на лужайке перед домом стоял человек, облаченный в черный пиджак и полосатые брюки, и гибкими движениями размахивал зонтиком, словно клюшкой для гольфа, мощно и резко посылая невидимые мячи в разных направлениях. Его ладный котелок стоял на траве тульей вниз. Черный пиджак и полосатые брюки наводили на мысль, что этот человек коронер.[227]227
[227]Коронер – служебное лицо, производящее дознание в случаях насильственной или скоропостижной смерти.
[Закрыть] Так оно и оказалось.
Вошли в морг после того, как небольшая дуэль между Магистром Медицины и коронером, уступавшими друг другу право пройти первому, завершилась дружественным примирением и без потери чести для кого-либо из них. Входили в следующем порядке: Магистр Медицины и коронер почти одновременно, Силия, Вайли, Купер, Тыкалпенни и Бим – последние двое, словно сплетенные в погребальный венок. Войдя, проследовали по короткому коридору, по обеим сторонам которого в два яруса тянулись огромные холодильники, и попали в помещение, где проводились вскрытия, неожиданно засверкавшее белым и серебряным. Одна стена этого помещения оказалась полностью застекленной, причем нижняя часть ее на метра два от пола – матовым стеклом.
Развилки ветвей тисов,[228]228
[228] Ветки тиса – традиционный знак траура.
[Закрыть] растущих вокруг морга, имели очертания гавани, в которую не удалось бы заплыть ни одному кораблю; некоторые ветви походили на руки, вскинутые вверх, безуспешно пытающиеся дотянуться еще выше, или на руки, воздетые в мольбе, в смиренном бессилии взывания к подаянию или в молитве…
Бим и Тыкалпенни остались в коридоре, так как им предстояло достать Мерфи из холодильника. Открыв дверцу, они легким, скользящим движением вытащили нечто похожее на огромный поднос, сделанный из алюминия, на котором покоился Мерфи, отнесли его в зал для аутопсий[229]229
[229]Аутопсия – вскрытие трупа для установления причины смерти.
[Закрыть] и положили на мраморную плиту, выглядевшую так, словно она была добыта в каких-то археологических раскопках. Плита эта лежала на столе, стоящем у стеклянной стены.
Доктор Убифсих и коронер, разместившись у головного конца плиты, приняли профессорские позы, словно собирались что-то демонстрировать студентам-медикам на трупе. Бим стоял у изножья алюминиевых носилок, а Тыкалпенни у изголовья. В руках они держали концы задубевшей простыни, ко торой был укрыт Мерфи. Все остальные расположились полумесяцем у двери. Силия смотрела на след от утюга, оставшийся на простыне, сделавшейся плащаницей, после, очевидно, недавнего неуклюжего глаженья. Вайли поддерживал под локотки Кунихэн, обладавшую способностью падать в хорошо рассчитанный обморок.
Кунихэн, закрыв глаза, прошептала:
– Скажешь мне, когда уже можно будет смотреть.
Ниери, взглянув на Купера, к своему величайшему удивлению обнаружил, что Купер снял шляпу и что голова у него имеет вполне нормальный вид, если не считать того, что волос у него было больше, чем обычно бывает у мужчин его возраста, и волоса эти были невероятно спутанны. Только тогда Ниери вдруг вспомнил, что Купер сидел в машине по пути в М.З.М.!
– Это… эти останки, – проговорил коронер голоском жеманного педераста, – оказались… как это ни прискорбно… с сердечной болью вам сообщаю, что они находятся в пределах подведомственного мне района… Мне предстоит выполнить ряд, так сказать, формальностей, перед, некоторым образом, захоронением…
Коронер закрыл глаза и произвел такое движение, словно наносил сильный удар клюшкой для гольфа по воображаемому мячу. Мысленным взором он проследил за полетом мяча, который, издавая сладостные звуки, напоминающие тихий свирельный напев, пролетел над зеленью лужайки, ударился о загородку, отскочил прямо в ямку, затрепыхался там и замер…
Коронер вздохнул и быстренько продолжил:
– В мои обязанности входит… в силу занимаемой должности, я, некоторым образом, должен проинформировать вас о том… мой долг сообщить вам… Первое: кто умер, второе: каким, непосредственно, образом умер… Касательно второго пункта… он, к счастью, не должен… на нем не придется задерживаться, потому что… вследствие того, что… как бы это получше выразить…
– Установить смерть не составляет труда, – вмешался Убифсих, – вследствие несомненности отсутствия каких бы то ни было проявлений жизни и присутствия всех бесспорных признаков смерти. Продемонстрируйте, будьте добры.
И Бим с Тыкалпенни хорошо скоординированным движением подняли простыню. Силия подалась вперед.
– Подождите, будьте добры, – учтиво остановил Убифсих порыв Силии. – Благодарю вас, верните в прежнее положение.
И Бим с Тыкалпенни послушно опустили простыню. Силия, сделав шаг вперед, замерла на месте.
– Итак, я безо всяких и каких бы то ни было сомнений смею утверждать, – заявил коронер, – что она, то есть смерть, воспоследовала в результате болевого шока, вызванного ожогами.
– Совершенно верно, – подтвердил Убифсих. – В этом нет ни малейших сомнений.
– Когда говорят, что смерть наступила в результате ожогов, то такое утверждение, посмею сказать, является полностью ненаучным, – продолжил пояснения коронер. – Ожоги всегда вызывают шоки… наверное, правильнее было бы сказать шок? Я прав, мой дражайший Ангус? Прошу извинить мою грамматическую некорректность, если таковая имела место… так вот, шок, знаете ли, бывает более сильный или менее сильный. Все зависит от силы ожогов, их местоположения на теле пострадавшего, ну и конечно, от подверженности пострадавшего токам… шоку. Ожоги, хочу вам напомнить, могут вызываться разными причинами, и обварение кипятком тоже вызывает болевой шок…
– Сепсис отсутствует, – ввернул свое Убифсих.
– Я, видите ли, давно не штудировал физиологию – признался коронер, – но в этом и не было необходимости.
– Когда мы прибыли на место происшествия, то все было уже… все было кончено, и сепсис не успел развиться, – пояснил Убифсих. – Болевого шока оказалось вполне достаточно.
– Да, наверное, будет правильнее сказать так: тяжелейший болевой шок, воспоследовавший за получением ожогов, – дал еще одно уточнение коронер. – Такая формулировка должна внести абсолютную ясность.
– Да, верно, но можно и расширить: очень сильный болевой шок, вызванный исключительно сильными ожогами, – добавил Убифсих. – Я думаю, и такая формулировка не будет преувеличением или искажением.
– Не возражаю, пожалуйста, пусть будет так. Исключительно сильные ожоги? Пусть будут исключительно сильные ожоги, вызвавшие сильнейший болевой шок, – согласился коронер. – Ну, я полагаю, с modus morendf покончено. Да, вот именно, вот таков у нас modus morendi.[230]230
[230] Способ смерти (лат.); коронер строит эту фразу по аналогии с modus vivendi – «способ, образ существования».
[Закрыть]
– Несчастный случай? – Ниери сжал свой вопрос до предельной краткости.
Коронер застыл в полной неподвижности. Вид у него был крайне озадаченный, почти, можно сказать, идиотский, а выражение на его лице было таким, какое бывает у человека, никак не могущего взять в толк, является ли услышанное шуткой, и если да, то в чем ее соль. Помолчав некоторое время, коронер осторожно сказал:
– Простите, не понял.
Ниери повторил вопрос погромче, и в голосе его зазвучали рассерженные нотки. Коронер стал открывать и закрывать рот, воздел руки горе, а потом почему-то отошел в сторону. А вот Убифсиха способность к членораздельной речи никогда не подводила (если бы он вдруг потерял дар речи, это было бы для него равносильно потере способности думать), и он, проведя рукой по усам, сказал:
– Перед нами классический случай несчастного случая.
«Однако, как он коряво изъясняется, – подумала Кунихэн, – к тому же, совершенно нет в нем ничего романтического, сухарь до мозга костей».
– Имеются кое-какие технические детали, – проговорил коронер, снова обретя дар речи, – которые могут заинтересовать присутствующего здесь господина…? Хотя, поспешу сделать признание, что в технике я не силен… могу лишь высказывать некоторые предположения, не более… Например, зажигание чего вызвало взрыв газовой смеси – спички или зажигалки? Может быть, в умной беседе темнота моя будет рассеяна светом знаний господина…?
Ниери, упорно не желавший подсказать свою фамилию, с детской непосредственностью или же, наоборот, с дерзким вызовом хорошим манерам занимался своим носом. И Вайли, пожалуй, впервые ощутил гордость за своего знакомца.