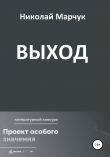Текст книги "Божий Дом"
Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
– Опоцелена?
– Боб Поцель, ее частник, забыл? Он пользуется стандартной методикой: госпитализируй СБОП, назначь тест, проведи процедуру, которая приведет к осложнениям, сделай следующий тест для диагностики осложнения, получи следующее осложнение, пока она не гомеризуется и не станет НЕСПИХИВАЕМОЙ. Ты хочешь превратить эту милую СБОП в Ину Губер? Пресеки это в зародыше! Сделай что-нибудь незамедлительно. Ты должен ее выписать!
– Но как?
– Назначь что-нибудь болезненное. Она этого не любит.
– Я не могу ничего придумать.
– Ну, например, у нее болит голова, и ее дневная температура слегка повышена. Не обращай внимания на то, что в отделении 35 градусов и температура повышена у всех, это неважно, так как ее история болезни ПОДЛАТАНА с задокументированной повышенной на градус температурой. Да, у нее еще напряжена шея. Итак, головная боль, напряженная шея и температура. Диагноз?
– Менингит.
– Процедура?
– Спинномозговая пункция. Но у нее нет никакого менингита!
– А вдруг? Не сделаешь пункцию, можешь его пропустить, как Потс с желтым человеком. И не бойся, что повредишь Софи. Она сильная. Серая пантера. Возьми Молли в помощь. – Уставившись в газету, Толстяк пробормотал: – Доу-Джонс поднимается, детка. Отличный климат для изобретения!
– Для чего?
– Изобретения! Изобретения! Величайшего Изобретения Американской Медицины.
С поднимающимся Доу-Джонсом при виде великолепной американской задницы в радугу и цветочек, как я мог не радоваться возможности сделать пункцию? Молли никогда раньше не ассистировала при спинномозговой пункции и была готова помочь. Вместе мы прошли в палату Софи. Потерянный Леви, мой студент, сидел в палате, поцеля [39]39
Putzelling – деепричастный оборот, образованный от того же несчастного доктора Поцеля.
[Закрыть]ее руку, собирая анамнез. Он только начал:
– Что привело вас в больницу?
– Что привело? Доктор Поцель. В своем «континентале».
Я прервал Леви и проинструктировал Молли о том, как лучше держать Софи, свернутой в позе эмбриона спиной ко мне. Когда она склонилась над Софи, руки в стороны, как у распятого Христа, я заметил, что две верхних пуговицы на ее блузке расстегнуты, и вырез ее великолепной груди прыгал на меня из тесного лифчика. Она заметила, что я заметил, и сказала, улыбаясь: «Начинай». Какой сумасшедший контраст между этими женщинами. У меня было искушение засунуть член в вырез Молли. Потс заглянул в палату и спросил, не знаем ли мы, где Библия.
– Библия? Для чего?
– Объявить пациента мертвым, – ответил Потс, вновь, исчезая.
Я попытался вспомнить, как делается спинномозговая пункция. В ЛМИ я делал это особенно плохо, а пункция у стариков осложнялось тем, что межпозвоночные связки кальцифицировались и становились тверже окаменелого гуано. А еще был жир. Жир – смерть для терна. Все анатомические образования скрываются под жиром и, пытаясь нащупать межпозвоночное пространство Софи в своих плохо подогнанных перчатках, я сообразил, что это невозможно. В какой-то момент я подумал, что нашел и ввел иглу, Софи вскрикнула и задергалась, я повел иглу дальше, и она завопила и задергалась сильнее. У Молли растрепались волосы, каскад светлых волос над старым и потным телом Софи. Каждый раз я возбуждался, заглядывая к ней в вырез, и бесился, когда Леви что-то комментировал, а Софи кричала каждый раз, когда я пытался ввести иглу поглубже. Я попытался найти другую точку на жирной спине Софи. Неудача. Еще раз. Ни хрена. Я увидел, что из иглы идет кровь, что значило, что я попал не туда. Куда я попал? Скользкий от пота, мои очки падают на стерильное поле. В тот же момент Молли ослабила хватку, Софи развернулась, как пружина, и чуть было не УСТРЕМИЛАСЬ ВНИЗ с высоты чуть ниже ортопедической, но мы ее поймали в последнюю секунду. [40]40
Нормальная ситуация. Мелкие процедуры делаются резидентами по принципу «See one, Do one, Teach one». Обычно, без представления о назначении или побочных эффектах процедур.
[Закрыть]Смущенный, с утонувшей в поту самоуверенностью, я велел Леви прекратить ухмыляться и позвать Толстяка. Тот вошел, одним движением установил Молли и Софи в нужную позицию, и, напевая джингл из телерекламы «Я люблю сосиски Оскара Сосисочника», движением, как у Сэма Спэйда, [41]41
Известный гольфист.
[Закрыть]прошел через все жировые слои и вошел в субдуральную полость. Я был потрясен его виртуозностью. Мы смотрели, как вытекает прозрачная спинномозговая жидкость. Толстяк отвел меня в сторону, приобнял и прошептал: «Ты был далек от середины и попал либо в почку, либо в кишечник. Молись, чтобы это была почка, так как, если это кишечник, мы попадаем в Город Инфекций, и Софи ждет финальный СПИХ в патологию.
– Патологию?
– Морг. Оттуда не возвращаются. Но, мне кажется, сработало. Послушай.
– Я ХОЧУ ДОМОЙ, ХОЧУ ДОМОЙ, ДОМОЙ…
Я был в ужасе при мысли о том, что устроил инфекционный процесс, который окончательно уделает Софи. Как знак свыше, в соседней палате, Потс разбирался со своим первым покойником. Его пациент, молодой отец, свалившийся вчера на первой базе, умер. Потса позвали, чтобы объявить смерть положенным по закону способом. [42]42
Действо, обычно сваливаемое на резидентов, чтобы потом свалить на них всю возню с бумагами и посмертной выпиской.
[Закрыть]Мы заглянули в комнату: Потс стоял у койки, его студент рядом с Библией, на которой лежала рука Потса. Другая рука была поднята и протянута в сторону тела; оно было белое, как труп, каковым оно и являлось. Потс произнес:
– Властью данной мне этим великим штатом и страной я объявляю тебя, Эллиот Реджинальд Нидлман, покойником.
Молли прижалась ко мне, так что я почувствовал ее грудь, и спросила: «Это что, обязательно?» Я сказал, что не знаю и спросил Толстяка, который ответил: «Конечно нет. Единственное, что ты обязан сделать по закону государства и штата, это положить две монетки из своего кошелька на глаза умершего».
Уничтоженный Потс сидел с нами около поста медсестер. Еле ворочая языком, глаза красные от недосыпа, он пробормотал:
– Он мертв. Может, я должен был раньше послать его на операцию. Я должен был что-то сделать! Но я так устал, я не мог даже думать!
– Ты сделал все что мог, – утешил его я. – У него лопнула аневризма, ничего бы его не спасло. Хирурги отказались его брать». [43]43
Хирурги неприкасаемы. Как бы ни был уверен терапевт в необходимости операции, убедить в этом хирурга очень сложно. Особенно ночью и на операцию с шансом на провал.
[Закрыть]
– Да, они сказали, что уже слишком поздно.
– Хватит об этом, – приказал Толстяк. – Послушай меня, Потс. Есть ЗАКОН, который ты должен выучить. ЗАКОН НОМЕР ЧЕТЫРЕ: «ПАЦИЕНТ – ТОТ, КТО БОЛЕЕТ». Понял?
Но, прежде, чем мы успели переварить информацию, нас прервал шеф-резидент, Рыба. У него на лице было озабоченное выражение. Как выяснилось, и Желтый Человек и Нидлман не были пациентами Частников, а, наоборот, пациентами Дома, и Рыба нес долю ответственности.
– Болезни печени меня особенно интересуют, – заявил Рыба. – Я недавно получил возможность просмотреть мировую литературу, посвященную быстротекущему некротизирующему гепатиту. [44]44
Фраза с использованием слова «литература» – любимый аргумент, когда надо унизить нижестоящего. Проваливается в случае, если нижестоящий не очень задавлен авторитетом и знает «контр-литературу».
[Закрыть]На самом деле, этот случай может стать очень интересным исследовательским проектом. Возможно, домработники в какой-то момент решат провести такое исследование?
Добровольцев не оказалось.
– В любом случае, и я, и Легго считаем, что вы, доктор Потс, ждали недопустимо долго с назначением стероидов.
Потерянный Потс согласился.
– Я сейчас устраиваю импровизированный консилиум, посвященный Лазлоу. Мы пригласили Австралийца, мировая знаменитость и эксперт по этой болезни. Со стороны выглядит не очень. Вы ждали слишком долго. Да, еще, – заявил Рыба, глядя на Чака в грязном халате и рубашке с расстегнутой верхней пуговицей, – то, как ты одеваешься, Чак. Не слишком профессионально. Неподобающе для Дома. Чистый халат и галстук завтра же. Тебе ясно?
– Да, да, – сказал Чак.
– А ты, Рой, – сказал Рыба, кивая на только что зажженную мной сигарету, – наслаждайся, пока можешь, так как каждая из них отнимает три минуты твоей жизни.
Я сдерживал гнев. Рыба свалил на свой консилиум. Болезненная тишина окутала нас. Толстяк нарушил ее, сплюнув:
– Урод! Теперь послушай меня, Потс, если ты хочешь стать таким же дерьмом, то верь ему. Если нет, то слушай меня: «ПАЦИЕНТ – ТОТ, КТО БОЛЕЕТ».
– Ты серьезно собираешься одеваться прилично? – спросил я у Чака.
– Конечно, нет, старик, конечно, нет. В Мемфисе мы не носим галстуков даже на похороны. Старик, эти гомеры – что-то. Ни один из четырех поступивших пациентов не верит, что я их доктор. Они думают, что я сутенер.
– Сутенер?
– Сутенер, сутенер. Цветной сутенер.
Уставившись в окно, Потс бормотал что-то о том, что должен был дать Желтому Человеку роиды, но Толстяк прервал его, приказав:
– Иди домой, Потс.
– Домой? В Чарльстон? Знаешь, сейчас мой брат, который занимается строительством, наверное лежит в гамаке на пляже, потягивая коктейль. Или в усадьбе, где прохладно и все цветет. Я не должен был уезжать. Рыба прав в том, что он сказал, но, если бы мы были на юге, он бы этого не сказал. Не таким тоном. У моей мамы было название для таких: «Простонародье». Но все-таки я сделал выбор, не так ли? Что ж, я пойду домой. Слава Богу, Отис дома.
– Где твоя жена?
– На дежурстве в ЛБЧ. Только я и Отис. Это хорошо, так как он меня любит. Он будет лежать лапами вверх и храпеть. Будет приятно пойти домой, к нему. Увидимся завтра.
Мы смотрели, как он, спотыкаясь, шел по коридору. Он прошел мимо консилиума у палаты Желтого Человека и постарался незамеченным проскользнуть мимо них к выходу.
– Это безумие! – сказал я Толстяку. – Эта интернатура совсем не то, что я ожидал. Что мы в конце концов делаем для этих людей? Они либо умирают, либо мы их ЛАТАЕМ и СПИХИВАЕМ другим резидентам Дома.
– Это не безумие, а современная медицина.
– Я не верю! Пока нет.
– Конечно, нет. Ты был бы ненормальным, если бы поверил? Но это лишь твой второй день. Подожди до завтра, когда мы вместе дежурим. А пока молись, чтобы Доу-Джонс не падал, Баш, молись, чтобы ублюдок стоял.
Кому какое дело!
Я покончил с работой и направился к выходу. Толпа вокруг австралийского эксперта у комнаты Желтого Человека подалась в стороны, и оттуда выкатился Рант. Он выглядел еще хуже, чем за обедом. Я спросил, что происходит.
– Австралиец сказал, что мы должны попробовать обмен плазмы. Это когда выкачиваешь старую кровь и закачиваешь новую.
– Это же никогда не работает. Новая кровь в любом случае проходит через печень, которая полностью выключена. Он умирает.
– Да, он сказал то же самое, но так как пациент молод и вчера еще ходил и разговаривал, они хотят попытаться. Они хотят, чтобы я это сделал сегодня ночью. Я парализован от страха!» [45]45
B семидесятые резиденты сами делали большинство анализов, давали химиотерапию, переливание крови. Сейчас достаточно поставить катетер и позвонить технологу. Врач за это время может осмотреть много пациентов и заработать много денег.
[Закрыть]
Из палаты раздавались крики. Желтый Человек бился в конвульсиях, как огромный тунец на крючке. Уборщик прошел мимо нас, толкая тележку, заваленную грязным бельем, робами, вещами из операционной и двумя огромными полиэтиленовыми пакетами с надписью: «Опасность. Заражено». Старшая сестра сообщила Ранту, что кровь для обмена будет готова через полчаса и что только одна медсестра согласилась ему помогать, остальные отказались из-за боязни уколоться и подхватить смертельную инфекцию. Рант посмотрел на меня, ужас застыл в его глазах, положил голову мне на плечо и заплакал. Уборщик, насвистывая, удалялся по коридору. Я не знал, чем ему помочь. Я бы вызвался ему помогать, но я так же не хотел заболеть чем-то, что в один день болтающего и флиртующего человека, превратило в тунца, бьющегося на крючке.
– Сделай доброе дело, – попросил Рант. – Если я умру, возьми деньги с моего счета и организуй фонд в пользу ЛМИ. Пообещай награду первому студенту, который поймет безумие всего этого и согласится сменить специальность.
Я помог ему надеть стерильные причиндалы, завязать робу, надеть перчатки, маску и шапочку. Как астронавт, он неловко вошел в палату, стараясь ничего не задеть, и начал процедуру. Пакеты со свежей кровью начали прибывать. Чувствуя ком в горле, я направился к выходу. Крики, запахи, странные видения проносились в моей голове, как пули в военном кошмаре. Хотя я и не трогал Желтого Человека, я направился в туалет и как следует простерилизовал руки. Я чувствовал себя ужасно. Мне нравился Рант, который собирался уколоть себя, заболеть разрывающим печень гепатитом, пожелтеть, биться в конвульсиях, как пойманная рыба, и умереть. И ради чего?
Как будто из-под воды, я слушал Бэрри и читал новое письмо от отца:
«Теперь ты уже не новичок, и работа должна казаться рутиной. Тебе нужно еще столько узнать, и ты потихоньку разберешься. Врач – великая специальность, и это счастье – излечить ближнего. Я вчера прошел восемнадцать лунок на жаре, и это стало возможным, только благодаря галлону воды и трем ударам на лунке номер…»
В отличие от отца, Бэрри не столь интересовалась сохранением моих иллюзий, сколько пыталась понять, что я испытываю. Она спросила меня, на что это было похоже, но я не смог описать, так как понял, что это не похоже, ни на что.
– Что же делает это таким ужасным, усталость?
– Нет. Мне кажется, это гомеры и этот Толстяк.
– Расскажи мне об этом, милый.
Я объяснил ей, что не могу понять, безумие ли то, чему учит Толстяк. Чем больше я вижу, тем больше смысла во всем, что он говорит. Я уже чувствую себя сумасшедшим за то, что считал сумасшедшим его. Для примера, я рассказал ей о том, как мы смеялись над Иной в ее футбольном шлеме, избивающей сумочкой Потса.
– Называть стариков гомерами представляется мне психологической защитой.
– Это не просто старики! Толстяк говорит, что любит стариков, и я ему верю, он плачет, рассказывая о своей бабушке и котлетках из мацы, которые они едят на лестницах, соскребая остатки супа с потолка.
– Смеяться над Иной – ненормально.
– Сейчас это кажется ненормальным, но не тогда.
– Почему ты смеялся над ней тогда?
– Я не могу объяснить. Это казалось дико смешным.
– Я пытаюсь понять. Объясни.
– Нет, я не могу.
– Рой, разберись во всем этом. Ну же. Давай.
– Нет, я не хочу туда возвращаться, не хочу думать об этом.
* * *
Я ушел в себя. Она начала беситься. Она не понимала, что все, что мне сейчас нужно – забота. Все происходило слишком быстро. Два дня – и я как будто плыву в бурном потоке, и вечность отделяет меня от берега. Плотину прорвало. До этой минуты мы с Бэрри были в одном мире. Вне Божьего Дома. Мой мир был там, в Доме с Желтым Человеком и Рантом, покрытыми кровью, с молодым отцом моего возраста, у которого лопнула аневризма на первой базе, с Частниками, Слерперами и с гомерами. И с Молли. Молли знала, что значит гомер, и почему мы смеемся. Пока что с Молли не было никаких разговоров, одни лишь прямые наклоны, вырезы и округлости, красные ногти и голубые веки, и трусики в цветочек и радугу, и смех, среди гомеров и умирающих. Молли была обещанием груди, прижатой к руке. Молли была убежищем.
Но в тоже время Молли была убежищем от того, что я любил. Я не хотел смеяться над пациентами. Если все настолько безнадежно, как представляет это Толстяк, то мне лучше сдаться прямо сейчас. Мне не нравился этот разлад с Бэрри, и, думая про себя, что Толстяк и вправду мог быть лунатиком, и, что, если я поверю ему, я потеряю Бэрри, я примирительно сказал: «Ты права. Это ненормально, смеяться над стариками. Прости меня». В ту же секунду я представил себя настоящим врачом, спасающим жизни, и мы с Бэрри вздыхаем и обнимаемся, и раздеваемся, и сплетаемся в любви, тесной, и теплой, и мокрой, и этот разрыв меж нами затягивается.
Она спала. Я лежал без сна, в ужасе предвкушения своего первого дежурства.
5
Следующим утром я отправился разбудить Чака, который тоже выглядел уничтоженным. Его прическа в стиле афро приплюснута, вмятины от простыни шрамами проступали на лице, один глаз покраснел, а другой опух и не открывался.
– Что произошло с твоим глазом?
– Укус клопа. Ебаный клопиный укус! Прямо в глаз! В этой дежурке обитают злющие клопы. [46]46
Правда-правда. В дежурантской нашей реанимации терна покусали клопы. На его жалобу администрация ответила предположением, что это он принес клопов из дома и теперь несчастной администрации придется раскошелиться на профилактику. Профилактикой оказалось не морение клопов, но покупка наматрасников для всех дежурок больницы. Возмущенный интерн написал еще кучу жалоб, пока ему не велели заткнуться в административном порядке. Мы пару недель наслаждались перепиской под bcc.
[Закрыть]
– Другой глаз также выглядит не очень.
– Старик, ты его еще вблизи не видел. Я звонил уборщикам, чтобы принесли свежее белье, но ты знаешь, какие они. Я тоже никогда не отвечаю на звонки, но к этим можно с тем же успехом посылать письма. Есть только один способ разобраться с уборщиками! [47]47
И это – реально. Проблема уборок в дежурке за время моей резидентуры не решилась, хотя были и ежемесячные обсуждения, и письма с жалобами. Самое печальное – было дежурить после резидента, который ел в дежурке. Особенно, если резидент был из Индо-Пакистанского автономного округа.
[Закрыть]
– Какой же?
– Любовью. Главную у постелеуборщиков зовут Хэйзел. Огромная женщина с Кубы. Я уверен, что смогу ее полюбить.
Во время разбора карточек, Потс спросил Чака, как прошло его дежурства.
– Прелестно. Шесть поступлений, самому молодому семьдесят четыре.
– Во сколько же ты лег?
– Около полуночи.
Потрясенный Потс спросил:
– Как? Как тебе это удалось?
– Легко. Дерьмовые истории болезни, старик, дерьмовые истории.
– Еще одна важная концепция, – добавил Толстяк. – Важно всегда думать, что ты делаешь хреновую работу. Главное делать, а так как мы в десятке лучших тернатур в мире, работа окажется, что надо, отличная работа. Не забудьте, что четыре из десяти тернов в Америке не говорят по-английски. [48]48
Количество врачей-иностранцев в штатах растет вместе с ростом стоимости американского медицинского образования. Может, оно и к лучшему.
[Закрыть]
– То есть все было не очень плохо? – спросил я с надеждой.
– Неплохо? О нет, это было ужасно. Старик, прошлой ночью меня поимели.
Еще худшим предвестником моего кошмара оказался Рант. Когда я вошел утром в Дом, уже угнетенный переходом из светлого и яркого июля в тусклый неон и демисезонную вонь отделения, я прошел мимо палаты Желтого Человека. Снаружи стояло два мешка с надписью «ОПАСНОСТЬ. ЗАРАЖЕНО», заполненных окровавленными хирургическими формами, масками, простынями и полотенцами. Палата была залита кровью. Специализированная сестра в костюме химзащиты сидела настолько далеко от Желтого Человека, насколько позволяли размеры палаты, и читала журнал «Улучшение домов и садов». Желтый Человек был неподвижен, абсолютно неподвижен. Ранта нигде не было видно.
Увидел я его только во время перерыва на обед. Он был пепельно-серый. Глотай Мою Пыль Эдди и Гипер-Хупер тащили его за собой, как собачку на поводке. На его подносе не было ничего, кроме столовых приборов. Никто ему об этом не сказал.
– Я умру, – заявил Рант, доставая пузырек с таблетками.
– Ты не умрешь, – сказал Хупер. – Ты будешь жить вечно.
Рант рассказал нам про обмен плазмы, о заборе крови из одной вены и вливании ее в другую: «Все шло неплохо, я уже собирался начать переливать последний пакет с кровью в бедренную вену, когда эта идиотка, эта медсестра Селиа, короче она держала иглу, побывавшую в животе Желтого Человека. И она… Она ткнула меня в руку». [49]49
Судя по описанному в 70-х, это был диковатый процесс. Сейчас опасная часть состоит в постановке специализированного катетера. Дальше все делает технолог с машиной.
[Закрыть]
Его рассказ был встречен молчанием. Рант умрет.
– Вдруг я почувствовал, что теряю сознание. Я увидел, как вся жизнь пронеслась перед глазами. И Селия сказала «прости», а я сказал, что ничего страшного, это всего лишь значит, что я умру, а Желтяку-Добряку [50]50
Mellow-Yellow
[Закрыть]двадцать один, и я уже жил на шесть лет дольше, чем он, и что я провел последнюю ночь своей жизни, делая что-то, что не могло принести никакой пользы, и мы умрем вместе, я и он, но, Селия, это ничего». Рант остановился, но затем заорал: «Ты слышишь меня, Селия? Все нормально! Я пошел спать в четыре утра и я не думал, что проснусь».
– Но инкубационный период от четырех до шести месяцев!
– И? Через шесть месяцев вы будете обменивать мою плазму.
– Это все я виноват, – сказал Потс. – Я должен был вдарить по нему роидами.
После того, как все разошлись, Рант сказал, что он должен кое в чем признаться:
– Понимаешь, это было мое третье поступление. Во время всего этого бардака с Желтым Человеком. Я не мог этого вынести. Я предложил ему пятерку за то, что он пойдет домой. Он взял деньги и ушел. [51]51
Деньги мы не предлагали, но рецепты, да и все что угодно, за уход домой – стандартно.
[Закрыть]
Подгоняемое моим ужасом перед его наступлением, время, когда меня оставили одного, пришло. Потс оставил на меня своих пациентов и отправился домой к Отису. Испуганный, я сидел в одиночестве перед постом медсестер, глядя, как умирает грустное солнце. Я думал о Бэрри и желал быть с ней, делая то, что молодые, как мы, должны были делать, пока позволяло здоровье. Мой страх разрастался, как атомный взрыв. Чак подошел, рассказал о своих пациентах и спросил:
– Эй, старичок, заметил кое-что необычное?
Я не заметил.
– Мой пейджер. Он выключен. Теперь они меня не достанут!
Я видел, как он удаляется по длинному коридору. Я хотел позвать его, попросить: «Не уходи, не оставляй меня здесь одного», – но я не стал этого делать. Мне было так одиноко! Хотелось заплакать. Ранее, когда я начинал нервничать все сильнее, Толстяк пытался подбодрить меня, говоря, что мне повезло оказаться с ним на дежурстве.
– К тому же сегодня, великая ночь, – сказал он. – Волшебник Изумрудного Города и Блинчики.
– Волшебник Изумрудного Города и Блинчики? – переспросил я. – Что это?
– Ты что, не помнишь? Ураган, дорога из желтого кирпича, великолепный Железный Дровосек, пытающийся забраться к Дороти под платье. Отличный фильм. А вечером, в десять, дают блинчики. У нас будет вечеринка.
Это меня не спасло. Я пытался разобраться с хаосом в отделении, успокаивал наполненную жидкостью и особенно злобную Ину Губер и ухаживал за Софи, у которой началась лихорадка, и она была настолько не в себе, что напала на Поцеля. Я практически дрожал от страха перед грядущим. А когда грядущее наступило, я чуть не задохнулся. Я сидел в туалете в ту минуту, когда шестью этажами ниже, оператор пейджинговой службы нанесла прямой удар:
ДОКТОР БАШ, ПОЗВОНИТЕ В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ НОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ, ДОКТОР БАШ… [52]52
Наверное, Рой преувеличивает, но не намного. Иногда на дежурстве пейджер входит в состояние эпилептического статуса. Обычно, во время смены медсестер или в четыре часа утра, когда безумные ночные медсестры будят пациентов, чтобы проверить, не болит ли чего, а потом звонят интерну, требуя снотворное и обезболивающее.
[Закрыть]Кто-то умирал в приемнике, и они требовали меня? Они что, не знают, что нельзя появляться в обучающей больнице в первую неделю июля? [53]53
Запомните это.
[Закрыть]Они не увидят доктора, они увидят меня. Что я мог знать? Я паниковал. Картофелина Петера опять пронеслась через мой мозг, и вот, с тяжело бьющимся сердцем, я отправился на поиски Толстяка, который оказался в комнате отдыха, погруженный в Волшебника Изумрудного Города. Поедая салями, он пел вместе с героями: «Из-за того, из-за того, из-за того, что он может творить чудеса. Мы идем к нему, к Волшебнику, Волшебнику Изумрудного Города»…
Его было нелегко оторвать от фильма. Я был удивлен, что ему нравилось нечто столь невинное и наивное, как Волшебник Изумрудного Города, но вскоре выяснилось, что, как и многое из его увлечений, его интерес был извращенным:
– Сделай это, – бормотал Толстяк, – Дороти, сделай это с жестянкой. Натяни ее, Рэй, [54]54
Рэй Болджер играл Железного Дровосека в первой постановке «Волшебника».
[Закрыть]натяни ее.
– Я должен тебе что-то сказать.
– Выкладывай.
– Там новая пациентка в приемнике.
– Ну что ж, иди осмотри ее. Ты теперь врач, забыл? Врачи осматривают пациентов. Давай, Рэй Болджер, сделай с ней это, БЫСТРО!
– Я знаю, – пропищал я, – Но там же кто-то, наверное, при смерти, а я…
Толстяк оторвался от телевизора и посмотрел на меня и мягко сказал:
– Понятно. Ты струсил, да?
Я кивнул и рассказал, что все о чем я думаю – большая Картофелина Петера. [55]55
Отсылка к поговорке, упоминаемой также в третьей главе. Они очень навязчивы и могут застрять в голове.
[Закрыть]
– Да. Понятно. Значит, ты напуган. Ну, а кто не напуган в первую ночь на дежурстве?! Я тоже был в ужасе. У нас осталось полчаса до начала ужина. Из какой она богадельни?
– Я не знаю, – сказал я, направляясь к лифту.
– Не знаешь? Черт! Они уже, наверняка, продали ее койку в богадельне, так что нам не удастся СПИХНУТЬ ее обратно. Реальная экстренная ситуация – продажа богадельней койки гомера.
– Откуда ты знаешь, что это гомересса?
– Шансы, обычные шансы.
Двери лифта распахнулись и мы увидели интерна северного крыла шестого отделения, Глотай Мою Пыль Эдди, толкающего каталку со своим первым поступлением: три сотни фунтов обнаженной, не считая грязного белья, плоти, огромные грыжи на брюшной стенке, огромную голову с маленькими участками для глаз, рта и носа, бритый череп, весь в шрамах от нейрохирургических вмешательств, выглядевший, как банка собачьего корма. И у всего этого были судороги.
– Рой, – сказал Глотай Мою Пыль. – Познакомься с Максом.
– Привет, Макс, – сказал я.
– ПРИВЕТ ДЖОН ПРИВЕТ ДЖОН ПРИВЕТ ДЖОН, – ответил Макс.
– Макс повторяется. У него была лоботомия.
– Болезнь Паркинсона в течение шестидесяти трех лет. Рекорд Дома. Макс поступает с непроходимостью. Видишь эти грыжи с выпирающими кишками?
Мы видели.
– Если сделать рентген, то все что там увидишь – фекалии. В предыдущее его поступление потребовалось девять недель, чтобы его вычистить и все, что его спасло, была маленькая ручка японской виолончелистки и, по совместительству, студентки ЛМИ, вооруженной специальными особо прочными перчатками и обещанием любой интернатуры, в случае успеха ручной раскупорки. Хотите услышать «Исправь грыжу»?
Мы хотели.
– Макс, – сказал Толстяк. – Что ты хочешь, чтобы мы сделали?
– ИСПРАВЬ ГРЫЖУ ИСПРАВЬ ГРЫЖУ ИСПРАВЬ ГРЫЖУ, – ответил Макс.
Глотай Мою Пыль и его студент поднажали и, набирая скорость, Макс отправился к неоновому закату. В одной упряжке они казалось взбираются на гору в Чистилище. Придя в себя по пути в приемник, я спросил у Толстяка, откуда он знает этих пациентов. Ину, Макса, Мистера Рокитанского.
– Количество гомеров Дома конечно, – пояснил Толстяк, – а так как ГОМЕРЫ НЕ УМИРАЮТ, они проходят по кругу Дом – Богадельня – Дом по несколько раз в год. Кажется, что они получают свое расписание на год в июле, совсем как мы. Ты научишься различать их по крикам. Но, все же, что с твоей гомерессой?
– Не знаю. Я еще ее не видел.
– Не важно. Выбери орган. Любой.
Я замолчал, настолько перепуганный, что даже не мог придумать орган.
– Да что с тобой? Где они тебя нашли? По квоте? Теперь появилась квота на евреев? Что находится за грудиной и бьется?
– Сердце.
– Отлично. У нее застойная сердечная недостаточность. Что еще?
– Легкие.
– Прекрасно. Теперь ты начал думать. Пневмония. У нее пневмония и сердечная недостаточность, сепсис от постоянного мочевого катетера, она отказывается есть, хочет умереть, она слабоумна и с давлением, настолько низким, что ты не сможешь его измерить. Что надо сделать в первую в очередь? Основное твое действие?»
Я подумал о септическом шоке и предложил спинномозговую пункцию.
– Нет. Это в книжках. Забудь о них. Я – твой учебник. Ничего из выученного в ЛМИ тебе не поможет. Послушай, ПЯТЫЙ ЗАКОН: «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ РАЗМЕЩЕНИЕ».
– Это уж слишком. Серьезно, ты делаешь эти допущения, даже не увидев пациента. Ты относишься к ней, как к багажу, а не к человеку.
– Да?! Я злой, жестокий и циничный, так?! Я не сочувствую больным? Так вот, я сочувствую. Я плачу в кино. Я справил двадцать семь Песахов с самой нежной бабушкой, о которой бруклинский мальчик может мечтать. Но гомересса в Божьем Доме из другой реальности. Сегодня ночью ты это поймешь.
Мы стояли на посту медсестер приемного отделения. Там было еще несколько человек: Говард Гринспун, который дежурил в приемном отделении, и двое полицейских. Я знал Говарда по ЛМИ. У него были черты, которые оказались очень полезными в медицине: он не видел своих недостатков и плевал на других. Не слишком умный, Говард прошел через ЛМИ и Дом, делая какие-то исследования мочи, то ли прогоняя мочу через компьютер, то ли заставляя компьютер работать на моче. Это и сблизило его с другим любителем мочи, Легго. Хитрец и интриган, Говард также начал использовать IBM для принятия решений в терапии. К началу интернатуры у него уже был великолепный подход к пациентам, способный скрыть его нерешительность. Говард пытался рассказать нам с Толстяком о пациенте, но тот его проигнорировал и обратился к полицейским. Один из них – огромный, бочкообразный, с полным лицом, покрытым рыжими волосами. Второй был худым, как спичка, угловатый, бледнолицый и темноволосый, с острыми глазами и большим подвижным ртом, заполненным зубами.
– Я сержант Гилхейни, – сказал бочкообразный, – Финтон Гилхейни, а это офицер Квик. Доктор Рой Г. Баш, привет тебе и шалом.
– Вы не похожи на евреев.
– Не надо быть евреем, чтобы любить горячие бэйглы и, к тому же, евреи и ирландцы похожи в одном аспекте.
– Каком же?
– В семейных ценностях и в единовременном сумасшествии своей жизни.
Говард, взбешенный тем, что его игнорировали, вновь попытался рассказать про пациентку. Толстяк заставил его заткнуться.
– Но вы же ничего о ней не знаете, – запротестовал Говард.
– Скажи мне, как она кричит, и я расскажу тебе о ней все.
– Как она что?
– Крик? Какие она издает звуки?
– Она не кричит. Она издает РУДУДЛ.
– Анна О. – сказал Толстяк. – Еврейский Дом Неизлечимых. Приблизительно, это будет поступление номер восемьдесят шесть. Начни со ста шестидесяти миллиграмм диуретика, Лазикса, и посмотрим, что будет.
– Откуда ты знаешь? – поразился Говард.
Продолжая его игнорировать, Толстяк обратился к полицейским:
– Мне очевидно, что Говард не сделал самого главного, смею ли я надеяться, господа, что вы сделали это?
– Хотя мы и скромные патрульные областей города рядом с Домом, мы часто болтаем и пьем кофе с гениальными молодыми докторусами и иногда принимаем экстренные терапевтические решения, – сказал Гилхейни.
– Мы люди закона, – добавил Квик. – И мы следуем ЗАКОНУ НОМЕР ПЯТЬ: «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ РАЗМЕЩЕНИЕ». Мы сразу же позвонили в Еврейский Дом Неизлечимых, но, увы, койку Анны О. уже продали.
– Жаль, – сказал Толстяк. – Ну, что ж, хотя бы она отлично подходит для обучения. Она научила бесчисленное количество тернов Дома медицине. Рой, иди осмотри ее. У нас двадцать минут до ужина. Я пока поболтаю с нашими друзьями-копами. [56]56
Не люблю слово «менты», так что будет международное «копы».
[Закрыть]
– Прекрасно! – сказал рыжий с широкой ухмылкой. – Двадцать минут общения с Толстяком – дареный конь, у которого мы осмотрим все, но не зубы.
Я спросил у Гилхейни, откуда им с Квиком известно о принятии важных медицинских решений и его ответ меня озадачил:
– Полицейские мы или нет?
Я оставил Толстяка и полицейских, склонившимися друг к другу и оживленно болтающими. Я подошел к палате 116 и вновь почувствовал себя одиноким и напуганным. Глубоко вздохнув, я вошел. Комнаты были выложены зеленой плиткой, и неон отражался в стальном оборудовании. Было ощущение, как будто я зашел в могилу, так как не было сомнения, что в этой комнате, каким-то образом, я соприкоснулся с ней, смертью. В центре палаты стояла каталка, в центре которой находилась Анна О. Она была неподвижна, колени согнуты, плечи приведены к коленям и голова, без поддержки, но напряженная, практически касалась талии. Со стороны она была похожа на W. Была ли она мертва? Я позвал ее. Никакого ответа. Я пощупал пульс. Отсутствует. Сердцебиение? Нет. Дыхание? Нет. Она умерла. Какая ирония! После смерти все ее тело приняло форму ее выдающегося еврейского носа. Я испытывал облегчение, забота о ней теперь не висела на мне. Я смотрел на пучок тонких седых волос у нее на голове. Такие же были у моей бабушки в день ее похорон. Грусть утраты захлестнула меня. Я ощутил ком в груди, который медленно поднялся к горлу. Я чувствовал ту странную теплоту, которая становится предвестником слез. Мои губы дрожали. Я вынужден был сесть, чтобы прийти в себя.
Толстяк ворвался в палату:
– Давай, Баш, блинчики и… Да что с тобой?
– Она умерла.
– Кто умер?
– Эта несчастная, Анна О.
– Лабуда. Ты что сошел с ума?
Я ничего не сказал. Возможно я сошел с ума. Может быть полицейские и гомеры были всего лишь галлюцинацией. Чувствуя мою боль, Толстяк присел рядом:
– Я когда-нибудь обращался с тобой неподобающе?
– Ты слишком циничен, но все, что ты говоришь, оказывается правдой. Даже если это звучит безумием.