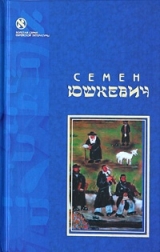
Текст книги "Еврейское счастье (сборник)"
Автор книги: Семен Юшкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
"Не пойду, не пойду", – твердил он себе, следуя уже однако за ней, и не умея победить все усиливавшегося желания обладать этой женщиной.
– Совершенно идиотское приключение, – жалко улыбаясь, сказал он ей. – Меня ждет женщина, а я вот что делаю.
– А разве это не интересно, – "сладко" заглянув ему в глаза, спросила она. – Вам будет хорошо со мной, – шепотом повторила она.
– Ты мне очень понравилась, – признался как бы в свое извинение Владимир Петрович. – Я чувствую, что мне не надо с тобой идти, а между тем, помимо своей воли, иду. Как будто кому-то надо, чтобы я пошел к тебе, – сказал он вслух свою прежнюю мысль...
– Во всяком случае, ты об этом не будешь жалеть, милый мой, – перешла и она на ты.– И вечер такой славный, правда, – спросила она, – и я сама как будто влюбилась в тебя...
– Только уговор, я недолго останусь у тебя,– с усилием произнес он, опять вглядываясь в нее.
И тут ему вдруг представилась хрупкая, стройная Сюзи, со своим невинным, детски-ясным лицом, уныло бродящая по пустынной, жуткой улице, где было назначено свидание... Но звезды были так хороши в синеве неба, и рука женщины так нежно прижимала его руку, и так обольстителен был таинственный шепот улицы, что Владимир Петрович тотчас забыл о девушке, и, снова умиленный, как всегда, когда переставал чувствовать свое "я", уже совершенно предался неизвестной подруге. И она это почувствовала и благодарно молчала. Только тесней, нежней, значительней сжимала его руку, и Владимиру Петровичу казалось, что она объясняется ему в любви.
Пожимая плечами и ругая себя за бесхарактерность, Владимир Петрович стал подниматься с ней по лестнице какой-то гостиницы, где скоро их ввели в просторный, на первый взгляд хорошо убранный номер с большой, широкой кроватью, с потертым ковром на полу.
Лишь только лакей ушел, Владимир Петрович тотчас же страстно обнял ее и повернул лицом к себе. Она улыбнулась. При свете она еще больше ему понравилась. "В болоте иногда растут прекрасные цветы", – промелькнула у него мысль, и, покраснев от желания, он опять обнял ее и крепко поцеловал в губы.
– Я знала, что понравлюсь тебе, – промолвила она. – Чем тебя угостить, кофеем, или чаем?
– Да, да, – не слушая ее и пожирая глазами ее тонкую девичью фигуру, сказал он и потянулся рукой к ее груди, по привычке испытать, хороша или плоха грудь. – Распорядись. Пусть принесут конфет для тебя...
"Прекрасная женщина, – мысленно решил он, – может быть, даже и не проститутка".
Она тоже разглядывала его. Быстрым движением тонких, чуть длинных рук она сняла с головы шляпу, куда то бросила ее и вдруг, как бы отчаянно, прильнула к его горячим, сухим губам.
Когда оба очнулись, кофе был уже холодный. Она взяла с ночного столика коробку с конфетами, предложила ему, взяла себе... Владимир Петрович лежал, приятно усталый и необыкновенно довольный. Таких нежных ласк еще ни одна женщина ему не расточала.
Она лежала на боку, на его руке, лицом к нему, а он думал о том, что сейчас никому не уступил бы ее.
И на ее вопрос:
– Теперь уйдешь?
Владимир Петрович, смеясь, ответил:
– Конечно, уйду.
И крепко поцеловал ее.
– Вот видишь, милый мой, я же тебя предупреждала, что не пожалеешь. Помоги мне сесть, я заплету косы на ночь.
Он посадил ее и смотрел, как она это делала. Поднимались синевато-белые, худые руки, проворно бегали длинные пальцы. Вот упала на двигающуюся лопатку первая черная коса. Какие волосы! Все у нее настоящее! Зажегся где-то в мозгу образ худенькой Сюзи, но как он ни старался, чтобы образ ее тронул его, оно не удавалось. Сюзи, словно мстя за обиду, ускользала из памяти и скоро потонула где-то среди стоячих мыслей.
И другая такая же коса полетела на плечо, и обе они опять вызвали у него прилив любви. Снова было забытье, необыкновенные ласки и счастье...
Они лежали лицами друг к другу, и она ему рассказывала о себе.
Она полька из Варшавы, хорошей семьи. В шестнадцать лет она влюбилась в своего репетитора и убежала с ним. Вскоре тот ее бросил. Домой она из стыда не вернулась.
Пошла в гувернантки, но и тут ей не повезло. За ней стал ухаживать офицер, брат ее госпожи, и она ему отдалась. Забеременела, где-то рожала, ребенка бросила...
Офицер уехал в полк. Потом уже от голода и отчаяния пошла на содержание к старику, однако долго не выдержала и бросила его.
Увлеклась студентом евреем, а от него уже, со ступеньки на ступеньку, стала переходить из рук в руки, пока не докатилась до улицы. Тут и осталась...
– Конечно, – вполголоса продолжала она, играя его короткими пальцами, – я могла бы и вверх покатиться, но не повезло. Мало ли удачливых кокоток. А у меня не вышло. Из родного города пришлось уехать. Жила долго в Москве, в Киеве. Теперь уже год как живу здесь.
– Отчего же ты не займешься честным трудом? – серьезно спросил Владимир Петрович. – Ты бы могла быть продавщицей, кассиршей, телефонисткой... Может быть, я бы тебя встретил и влюбился. Ну не я, так другой.
– Мужчины или притворяются, – спокойно возразила она, посмотрев на него, – или в самом деле глупы. И ты такой, как все. Точно вы сговорились друг с другом предлагать ночной бабочке, – сказав "ночная бабочка", она улыбнулась, – всегда одно и то же. Какая я честная труженица, если меня с ума сводит ночная жизнь? Без ночной толпы я себе теперь жизнь не могу представить. Не мужчина же, в самом деле, мне всегда нужен. Толпа моя, и я принадлежу толпе, и нас нельзя разделить. Нет, не в том дело, милый мой, и не будем в тысячный раз повторять историю наивного гимназиста и добродетельной проститутки. Лучше скажи, хорошо ли тебе со мной, милый мой?
– Очень, – ответил Владимир Петрович, – и если бы иметь такую жену, как ты... – не окончил он. – Как жаль того, который лишился счастья быть твоим мужем, – как бы себе сказал Владимир Петрович.
Они долго после этого молчали. Ее глаза медленно налились слезами.
Длинным мизинцем она незаметно смахивала их.
И он угрюмо молчал, боясь неловким словом обидеть ее... и... вдруг вспомнил Сюзи. Встать, побежать, отыскать ее, была первая мысль, но сейчас же явилось возражение: поздно, Сюзи давно домой вернулась.
"Нет, уже поздно, – опять подумал он, чувствуя, что ему лень сейчас подняться. – Да и не хочется к ней. Лучше до завтра подождать. Бог с ней, с Сюзи! Ни целоваться с ней, ни шептаться не тянет..."
– Самое главное, – вдруг сказала она, и он вздрогнул от звука ее голоса, – что меня мучит, это мое будущее. Ведь я все знаю, понимаю и не обманываю себя. Красота уходит... Если бы ты знал меня в шестнадцать лет... Когда я, бывало, гимназисткой выходила под вечер на улицу, вся Варшава гналась за мной. Красота уходит... – повторила она, после того, как от нее отошел образ гимназистки Зоей, – а желания растут. Чем меньше имеешь прав на счастье, тем больше требуешь его. Зубы у меня начали портиться, и я себе не представляю, как смогу надеть фальшивые зубы. А ведь придется. Ну, Бог с ними, с зубами, – не знаю, зачем о них вспомнила.
– Честное слово, ты очень хорошая, – произнес Владимир Петрович, растроганный. – Ты задела мою душу.
– А завтра забудешь обо мне, не спорь, не возражай, милый мой, я опытнее тебя. Я благодарна тебе за сегодняшнюю ночь, и мы квиты. И еще тревожит меня страх, – вернулась она к прежним мыслям, – что я непременно заболею... ну, нашей болезнью. Однажды уже была больна, – вывернулась. Раз вывернулась, другой, но не всегда же счастье. Постарею, стареем мы скоро. Мне уже двадцать восемь лет. Ну, до сорока можно работать, а дальше? Осталось двенадцать лет, самых трудных. И далеко, и близко. Так близко кажутся иной раз эти сорок лет, будто через дорогу перебежать. Ты представь себе, что я в сорок лет буду делать? Больная, беззубая, с вылезшими волосами... Не будет у меня вот этих кос.
Дрожь пробежала по телу Владимира Петровича, и он, как испуганный ребенок, зашептал:
– Не мучь меня, не говори больше!
– Так ведь это же правда, Володя! Ни к чему не способная, больная! А душа будет такая же, еще более жадная, еще более требовательная... Дайте, дайте и мне радости... Я себя знаю, милый мой. Буду лежать где-нибудь в каморке и мечтать о прекрасной молодости, буду косы свои вспоминать...
– А я всегда, даже когда счастлив, думаю о том, что умру неестественной, необыкновенной смертью, и всю жизнь мучаюсь этим, – вдруг ужасно откровенно сказал Владимир Петрович.
– В самом деле, – удивившись, медленно проговорила она.
Она долго смотрела на него, потом с порывом поцеловала.
– Ты хорошая, – опять повторил он.
– А может быть, и нехорошая, – смеясь, ответила она. – Не в том дело. Дай, я твою руку буду целовать, я люблю целовать мужские руки.
И целуя коротенькими касаниями губ его волосатую руку, она тихо сказала:
– Вот отчего, милый мой, я решилась умереть. Я уже полгода как задумала это. Некуда дальше, милый мой. И не все ли равно, раньше или позже? Третьего дня чуть-чуть было не сделала, да в последнюю минуту испугалась. Скучно показалось одной умереть, – поправилась она.
– То есть как, скучно? – не понял сразу Владимир Петрович и почувствовал легкий испуг, колющим холодком пробежавший в сердце.
– Как же ты этого не понимаешь? – отозвалась она. – С револьвером в руках, и одна... Невесело это! А вот вдвоем...
– Пожалуй, ты права, – подумав, одобрил он ее, и успокоился. – Но где же найти этого второго?
– Второго? – удивилась она его вопросу. – Да сколько угодно. Любой попавшийся мне на улице гость и есть второй. Чуть он заснет, я сначала его, потом себя. Вот какой ты, испугался...
Владимир Петрович присел от страха и схватил ее за руку.
"Еще, пожалуй, убьет, – молнией пронеслось у него в голове. – Влопался же я в историю. Нет, надо сейчас убраться отсюда. Вздор, не убьет. Фантасмагория, фантасмагория..." – почему-то несколько раз повторил про себя это слово Владимир Петрович.
Он быстро нагнулся, поднял с пола носки и дрожащими руками стал надевать их.
– Так почему же я тебя убью, – словно угадав его мысли, смеясь, сказала она, шутливо вырывая у него вывернутый наизнанку носок. – Какой ты глупый! Я могу убить несимпатичного, грубого, но зачем же я стану убивать хорошего? Мне ведь только второй нужен. Какой ты глупый, – опять сказала она, и слегка потянула его, чтобы он лег. Когда же Владимир Петрович не сразу дался и со страхом посмотрел ей в глаза, она положила его руку на свою грудь и прижалась нежно и страстно к нему. Коса упала на его плечо.
И он вдруг притих, успокоенный этой вызывающей лаской, и снова как на улице почувствовал себя во власти неведомого, мистического обаяния.
"Конечно, мой страх – вздор! Мне ведь предсказали, что я должен только моря бояться, – успокаивал он себя. – Фантасмагория, – опять началась музыка в голове, – гория... гория... Да и уйти ведь не хочется, вот в чем трудность", – как бы оправдываясь перед кем-то, чуть не сказал он вслух.
И, устав бороться с ней, с собой, бросил носки, лег и жарко обнял ее...
– Я это сегодня хотела сделать, – услышал он ее чистый грудной голос, – и решила: первый, которого я встречу, умрет со мной. Но первым оказался ты, и потому я это сделаю завтра, через неделю. Ты опять забеспокоился? Глупенький, если бы я хотела с тобой умереть, разве я бы тебя предупреждала об этом? Дай мне свою руку...
Он кивнул головой. Вздор, решил он и стал ласкать ее. По ее знаку подставлял губы для поцелуя, отвечал шалостью на ее маленькие шалости и удивленно думал, что иногда настоящую женщину можно найти там, где всего меньше ждешь этого, среди проституток.
– Вот и не верь Достоевскому, – целуя ее, сказал он вслух и даже засмеялся от радости.
И позже, когда засыпал, то все еще думал: "А Тургенев швах со своей "Первой любовью". Проведи он одну ночь с Зосей, и совсем бы другой рассказ написал. Нет, мы, незаметные люди, часто бываем талантливее наших писателей".
И еще о многом он думал: о себе, о своей не совсем удавшейся жизни, о Сюзи и ее милом профиле, о ее матери, его давнишней, хорошей знакомой, с которой лет пять тому назад у него чуть не завязался роман, и нежно сжимала его слабеющая рука руку Зоси...
Когда Владимир Петрович уснул, Зося, подождав, осторожно сошла с кровати и начала босая ходить по комнате. Стараясь неслышно ступать по ковру, она часто взглядывала на Владимира Петровича, не проснулся ли он. Лицо ее было нахмурено, глаза щурились от света.
Одно время она долго стояла подле Владимира Петровича и разглядывала его чуть одутловатое лицо, его сероватый лоб и небольшие мешки под глазами. Из полуоткрытого рта, в глубине желто мелькнул золотой зуб.
Она отвернулась, подошла к дивану, где лежал ее ридикюль, и вынула из него револьверик.
Точно загипнотизированная, крепко сжимая его в руках, она вернулась к Владимиру Петровичу. Косы болтнулись на ее спине и разбежались по бокам, когда она нагнулась и приложила револьвер к его лбу. В этот миг он проснулся, может быть, инстинктивно... Но, не разобрав со сна, что происходит, еще весь во власти приятного сновидения, он улыбнулся ей и, потягиваясь, нежно сказал, словно жене своей:
– Зося!
И даже не услышал звука выстрела...
В коридоре тотчас послышался тревожный топот ног. Кричали. Орали. Кулаками стучали в дверь.
Зося торопливо подняла посиневшую руку Владимира Петровича, и поцеловав ее, сказала:
– Мы сейчас увидимся, милый мой!
И пока стучали, пока трещала дверь от навалившихся на нее людей, она подошла к окну, раскрыла его. На нее пахнула прохлада апреля. Бледно горели звезды на небе. Едва слышно шумела улица...
Зося прощально кивнула кому-то головой, легла животом на окно, и вложила дуло револьверика себе в рот. И тотчас строго опустились ее руки, и как бы в мольбе повисли над улицей.
На спине слабо затрепетали толстые косы.
АЛГЕБРА
Петру Нилусу
В записной книжке, в потертом, теплом сафьяновом переплетшее было написано так: «Это было очень странное время, не то доброе, старое время, когда все в мире было на своем месте, когда каждая вещь, предмет, растение, человек знали свое место, когда верх был верхом, а низ низом и банальное, милое солнце, точно департаментский чиновник, неизменно всходило на голубом восходе, когда богачи были богаты, а бедняки безропотно бедны, когда цари были царями, а народы подданными, – нет, это время было пасынком того времени и в нем все шло вверх дном: солнце отказалось служить и пропадало где-то по целым дням, – рассказывали, что оно вступило в связь с неким высокопоставленным лицом, от которого зачало; и низ перестал быть низом. Богачи поравнялись с бедняками и потому все стали голодать. Пропали цари и верноподданные. И сгинули все золотые и серебряные пуговицы. Да, не было еще такого времени среди всех времен на земле и потому люди, кто только мог, без оглядки бежали во все стороны: бежал и брюхатый купец Савельев. Прискакал Савельев в чужой городок и забился в дыру».
Так начал свое жизнеописание купец Савельев, поставил кавычки и бросил. Беспокоила его фраза, что солнце вступило в связь с неким высокопоставленным лицом. Он-то, конечно, знал, что она означает и мог бы даже доказать, но со стороны выходило смешно и непонятно.
"Еще обвинят в потере разума, – предусмотрительно подумал он о ком-то, и стал увядать. – Нет, жизнеописания пусть пишут другие".
И гордо и горько закрылся от мира, как Господь однажды закрылся от мира, в тучу завернувшись.
И все.
* * *
Савельев, прячась от хитрого, всегда пьяного и убежденного провокатора, номерного гостинички, где он проживал, улучил минуту, прошмыгнул в людскую, дрожащими руками схватил свой драгоценный ключ и, перескакивая через три ступеньки узенькой, дрянной лестницы, понесся к себе на шестой этажик, как самая простая мышь, быстро помахивая хвостиком, который только что у него вырос. В номерке Савельев, слившись с темнотой, то есть став сам темнотой, долго к чему-то прислушивался. И улетел куда-то. Вернувшись, он зажег малую дробь свечи и тотчас от полетевших во все стороны до ужаса знакомых светлых чертей, переполнился до краев отвращением. Курносая кроватка умильно подмигнула ему, точно своему возлюбленному, и вслед за ней стали насмешливо, приподняв картузики, кланяться хромой рыжий стол, похожий на разбойника на большой дороге и другие монстры: чемодан-медведь с зонтиком подмышкой, мальчишка-плутишка-пальтишко, без пуговиц и с котелком на воротнике, прелестно бесформенная тень неизвестно от какого предмета на стене и два коленопреклоненных кресла.
Савельев величественно ответил всем общим поклоном и приказал не воздавать себе почестей. Стихла и пауза. В мозгу овально проскакал, желтея звуками, конец знакомого марша, выскочил из уха и растаял за окном. Посыпалась зеленая пыль. Савельев подчинился ночному и стал с адской быстротой размышлять. Бегая по комнате, он то скрывался в жестяном круглом зеркале над диванчиком, то выскакивал из него какой-то взъерошенный, подбитый, с головой, словно из картона, размалеванного детской рукой: одна бровь полезла вверх, другая повернула косо вниз и выбила глаз, нос лежал на щеке вместе с шестью зубами. За ним с веселым рычанием скакали два коленопреклоненных кресла, а курносая кровать, полная вожделений, от восторга рыдая, танцевала в своем углу.
Савельев сбоку посмотрел на все это, от стыда залез в зеркало и долго не выходил оттуда.
"Вот и конец пришел, – думал Савельев, снова объявившись, и сердито замахнулся на кресло, чтобы не мешало, – а какая жизнь была, Боже мой, какая жизнь! Тремя жизнями эту одну нельзя было бы измерить!"
И он вспомнил эту жизнь и от любви и боли закрыл глаза. Вспомнил Савельев свои утра и божественно творческое состояние души, когда с сигарой между вторым и третьим пальцем шел из спальной в столовую, вспомнил свои полдни, вечера и ночи, вспомнил жену, детей, слуг, приказчиков, конторщиков, бухгалтеров, московский дом, склады с товарами, все отделения в разных городах, друзей, просителей. Ах, что это была за жизнь! А Маринка! А жеребец Ричард Третий! Всему, всему пришел конец. Была тысячу лет жизнь и умерла и не воскреснет! Жена с дочерьми не то в Сибири, не то на Кавказе, Бог их знает, а старший сын пропал с товаром в Костроме, о, Боже мой, почему в Костроме?
Савельев полез на давно поджидавшую его кровать, свернулся, как песик, калачиком и стал решать пустую алгебраическую задачу:
(А+В) – (А+В)
причем А – это он, Савельев, его жена, дети, а В – все остальное, богатство, влияние, радости, Маринка, Ричард Третий. А плюс В – это вся Савельевщина.
– Если, – стал, он рассуждать, – от А плюс В отнять А плюс В, что останется?
Приподнялись картузики. Кресло зарычало. Тени на стене насупилась. Закачало. Побежали паузки.
* * *
Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал.
Он повидался с женой, с приказчиками, отдал распоряжения на завтра, посидел с Маринкой на ковре в крошечном будуаре, горько поплакал на кладбище и пьяный, в зимнюю, морозную ночь, помчался на тройке к цыганам.
И кончилось.
Савельев поднялся, будто и не спал. Оглянулся. А за окном стояло зелено-синее утро в пурпурной юбке с солнцепоющим венком на голове. И увидев это утро, Савельев сразу понял его глубокое значение, прочно вобрал в себя смертельный страх и быстро, страшно торопясь, стал решать свою алгебру.
"Нет, ошибки не было! Если от А плюс В отнять А плюс В?"
– Так как же? Конец?
– Конец, – до земли склонив венок, ответило зелено-синее утро.
Савельев терпко моргнул одним глазом, снял с чемодана-медведя веревку, сунул ее в карман, и, крадучись по лестнице, чтобы с провокатором не встретиться, пошел в глухой уголочек двора.
И взяв его нежно под руку, шло зелено-синее утро в пурпурной юбке с солнцепоющим венком на голове, и оба они были как жених и невеста, идущие в церковь.
Во дворе было небо, травка под ногами, и был еще стройный белый петух с курами. Савельев, увидев петуха, беззаботного и прекрасного, как сама природа, начал, умиляться, но смертельный страх тотчас прикрыл все бледностью своей.
И умер петух в сердце Савельева.
В глухом уголочке Савельев, помахав хвостиком, стал неверными руками вязать петлю. И, делая петлю, он незаметно задумался о своей жизни от ее начала до последнего конца. Мог ли он, будучи на высоте, ожидать, что жизненная линия приведет его сюда?
За что ему такое наказание? Какое преступление он совершил? Но как он ни старался вспомнить, ни преступлений, ни ошибок не было. Смерть – вещь неизбежная, и еще неизвестно, где бы ему было легче умереть, на своей ли кровати в Москве, или здесь, в глухом уголочке, но ни ошибок, ни преступлений не было. Был закон жизни, и он никогда не шел против закона: не упирался, когда поднимался из низов вверх и не упирался, когда падал, радовался в меру, а плакал вволю.
Все не выходит петля. И думает теперь, терпеливо трудясь над ней, Савельев о другом, совершенно о другом. Мысль медленно пробивает себе дорогу в дремучем лесу мозга. Там, в чаще его, словно в полусне, то появляясь, то пропадая, бродят тигры, волки и кроткие боги, – и несущий Истину сам Христос чутко дремлет, готовый возвестить свою правду.
Что увидел, что познал, что понял Савельев в мире, куда его послали? Ему сказано было славить дыхание свое, глаз свой, разостлаться и развернуться во все концы мира, а он делал другое. Ему надо было радоваться тому, что какой-то крохотной частичке мира дано было небесное счастье увидеть солнце, познать любовь, посидеть в саду, услышать птиц, поглядеть на человека, а он все время потерял, погнавшись за богатством, и ничего не увидел, ничего не понял, никого любовью не согрел, и, как нищим, голым пришел сюда, так нищим, голым, неразумным уходит. Отлетит от него дух, и в ту же минуту в небесах вновь появится он, лохматый, непросветленный, окаяннее окаянного.
– Так что же мне делать? – в отчаянии крикнул Савельев.
И тут, как бы в ответ, раздался голос, но такой, какой, может быть, только в раю можно услышать.
– Петух, петух, – обрадовался Савельев. И понял.
"Мой петух, мой, – ликовал он, – мое солнце, мой мир видимый и невидимый".
И крадущимися шагами разбойника, сорвавшегося с креста, с драгоценнейшими вещами в самой далекой комнате своего сердца – солнцем и петухом, – Савельев, кому-то хитро подмигивая, вышел на улицу.
Но идя, твердо знал, что он вор и Бога обманул.
И все подмигивал. Подмигивал. Гримасничал, Кому-то. Нездешнему.
* * *
В напряженнейшем ожидании, с зелеными и желтыми мыслями в голове, едва прислушиваясь к себе, и однако ощущая каждую точку своего цветного сознания, Савельев, появившись, тотчас остро, как иголка, воткнулся в улицу.
Зеленая пыль.
Серебристые, раскачивающиеся листочки.
И, воткнувшись, скользнул дальше, нанизывая на воздушную нить переулки и закоулки, дома и домишки, ресторашки, пивнушки и все, что попадалось на пути.
Утро, сбросив с нежных плеч своих синий кафтан и облачившись в тяжелую золотую порфиру, сладчайшими пальцами манит людей на улицу. Савельев насторожился и открыл один глаз. И вот выбежали с глазками жаб хвостатые, хвостатые, бородатые, чтобы начать свою весело-страшную жизнь краткого, очень краткого дня. Савельев будто с шестого этажа посмотрел на них и рукой остановил свои от смеха прыгавшие щеки.
"А я сам тридцать лет не видел петуха и даже забыл, какое у него лицо", – погрозил он себе, и вдруг смятенно оглянулся.
"Ибо. Да, так. Протяжность. Штрихи", – зелено носилось в мозгу.
Он стоял у дверей харчевни, где вчера ему было отказано в кредите. Но не удивился этому.
"Жрать хочешь, Савельев, – промелькнула черная, переходящая в коричневую, мысль, – но жрать тебе не дадут. А впрочем, зайдем".
И заскучав, он разорвал ниточку, и вся его работа пропала.
Переулки и закоулки, дома и домишки, ресторашки и пивнушки – все повалилось в одну кучу. Савельев с презрением оттолкнул ногой эту дрянь и, чувствуя, как превращается в бессильного, старого волка, но до ясновидения просветленный, с петухом и солнцем в самой далекой комнате своего сердца, подобострастно виляя хвостом, забрался в харчевню.
И тотчас, как только он показался, харчевня зашептала многими голосами:
– Савельев, Савельев!
Савельев, почуяв жалость, хотел было залезть под диванчик, но выдержал характер и как ни в чем не бывало прыгнул на стул, подобрал под себя лапы и предался мукам голода.
Харчевня шумела, как проснувшийся лес. За столиками, приняв облик людей, – так подсказывает Савельеву завладевшее им смятенное существо, – сидят, на передние лапы опершись, военные и знатные бессильности, финансовое и торговое стадо, командиры и командирши, прелестные белки и белочки, готовый каждому на колени прыгнуть, теплые медведи с отвисшими животами и с траурной грязью на мутно-желтых когтях, высохшие лисицы и некогда пышные кохинхинки и сухие, остромордые с рубиново-злыми глазами волки и старый, старый, бывший страшный тигр. Сидят. Сидят. Рычат. Ждут.
"Вот они, вот они, – шепчет до смерти испуганное, смятенное существо, – а какая сила была, Боже мой, какая сила! А теперь! Взять бы, да сжечь все это, или перебить!"
Гримасы.
Гримасы.
Гримасы!
И вдруг видит Савельев, что все уже совершилось. Голова к голове, лапа к лапе, тело к телу тесно прилипает, стол к столу, спина к спине, нос к носу, и все вместе уже одно серое, сухое, без травинки поле, по которому с гиком пронеслись бы китайцы, татары, казаки, баба-яга с помелом.
Да, да, вновь от восторга рыдая, танцует курносая кровать и в жесть зеркала, чтобы не видеть, не слышать, не сознавать и не болеть стыдом, уходит Савельев. Улетает куда-то, в тишину, в паузу. Но не уйти от поганенького номерка, который есть весь мир. И вновь, мышью бегая, мимоходом видит, как кланяется ему с вешалки котелок и насмешливо приветствует:
– Мое почтение, господин А плюс В, изволите хотеть жрать? Для ваших степенств не осталось в мире ни белковых, ни жиров! Осталась вам, – и тут громогласно, как на последнем суде, прозвучало, – одна смерть!
"Уйду в зеркало, опять уйду, – погрозился Савельев. – А сын с товаром пропал в Костроме! О, Господи, почему в Костроме?" – плачет душа.
И вторично умер петух в сердце Савельева, и солнце его вылетело из глаз, как светоносное облако.
* * *
Появилось какое-то фантастическое существо, похожее на кенгуру, присело на задние ноги и на твердый хвост и стало вызывать желающих на работу. Выстроились в ряды по двадцать. Столы и стулья, брошенные, завизжали.
"Пойду и я, – подумал Савельев, – не привык к труду и унижению, зато запасусь жирами, белковыми. Потерял солнце, петуха, но остался мне мир видимый и невидимый".
Стал с другими в ряду. Дали ему лопату. Пошли. Идут. Идут. Стучат. Идут.
Савельев притаился, залез в самый нижний этаж своей души и оттуда взглянул на мир видимый. И задрожал. Хаос, бессвязность, чепуха. Картонные бессильности незримо плачут, и он с ними! И он с ними! Купец Савельев с лопатой за плечами. За жирами! За белковыми! Сиятельнейший медведь с лопатой за плечами. За жирами! За белковыми! Командиры и кохинхинки, и остромордые волки, и белки, и лисицы по двадцать, по двадцать в ряду! За жирами! За белковыми! Идут, идут, а за ними грохоча, в вихре, в кружении, поднимая вековую пыль, двинулись дома и домишки, города и городишки, и вся живая рать с дворцами, тюрьмами, с золотом и сором, и перемешались, слились и спаялись в одно большущее, громадное, безмерное, как рыба кит, с хвостом в один конец земли, с головой в другой конец, с хоботом в небо, с медным рогом между глаз, и легло на четыре подставы. Легло, лежит, бьет рогом небо и орет на весь мир:
– Жиров! Белковых!
Лежит сто лет, тысячу лет, десять тысяч лет и все ни с места. Уже все леса съел, весь уголь, железо, уже всю землю обессилил, все соки выбрал, а все бесплодный, не могущий ничего родить, все шире раздвигая пасть, сердито рычит и рычит:
– Жиров! Белков!
"Только и всего, – удивленный и тоскуя спросил Савельев. – А где же страдание? Где моя печаль и любовь? Где сладкий запах сигарного дыма?"
Стыдливо молчит мысль, и Савельев, ощущая смертельный холод Всех Утешительницы, стал смотреть на мир невидимый. Вклинился в небо и понесся быстрее света, все выше и выше, подальше от Млечного пути, в сторону от всякой звезды и, нагнав первозданный хаос и став у начала бытия, объятый ужасом остановился. Похолодела мысль, и закатилось сознание, и разлилась нестерпимая белизна-чернота до тошноты в костях.
Безмерно!
Безмерно!
Безмерно!
Ледяное! Ничтовское! Чернота! Белота! А еще дальше, еще глубже, еще выше, дивное, о, родное, о, грустное видение, – беленький, в ватной кофточке, с венчиком на голове, сам Господь Бог со своим светиком и ангельчиками, такие одинокие в безмерности ничтовского.
– О, – застонало в Савельеве, и сам он простер руки, – и это ты, мой Господь. И это все? – снова спросил он, пронизывая взглядом тихо игравший светик.
Густо засинело. Метнулось. Серебристая посыпалась пыль. Туда, назад. Туда, назад.
Савельев раскрыл глаза. И вдруг стал уходить.
– Я сейчас, сейчас, – говорил он торопливо кому-то, и все продолжал уходить и лепетать: – я сейчас, сейчас.
Умирало сознание. Мысль свой бег замедляла. Туда, назад. Туда, назад. Зашипело: Жена. Кострома. Москва. Чепуха.
Опять на каком-то дворе, в уголочке стоит Савельев. Красно-кумачовое солнце греет его лысину. Поднял руки, просунул деловито голову в петлю, осмотрелся и, как для пляса, скрючил ноги. И повис, и злобно и медленно высунул язык проклятому ослиному миру. Время, обнюхав его, почувствовало конец, смердящее, и ушло. И тотчас родилось другое время, и двинулось от Савельева в вечность.








