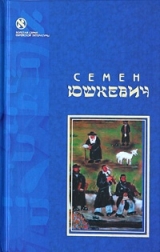
Текст книги "Еврейское счастье (сборник)"
Автор книги: Семен Юшкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Он непременно расскажет жене своей, что видел меня с вами, – и тихо смеялась, не зная чему.
Но Глинский знал, отчего она улыбалась... сам улыбался, и осторожно, чтобы не испугать, округлив руку, обнял ее.
Предлог он тотчас же выдумал: ей будет удобнее сидеть.
– Я уверен, – вкрадчиво сказал он, – что каждый теперь завидует мне, завидует тому, что я сижу рядом с такой прелестной женщиной... Давайте шалить... Поверните ко мне лицо. Пусть каждый думает, что вы моя жена.
Она почувствовала на спине и на боку его тяжелую, точно из свинца, руку, вздрогнула и осторожно сделала движение, чтобы освободиться... Но все было так хорошо вокруг, так гармонировали даже его слова с сложным ощущением радости, которое она испытывала, что невольно послушалась его и чуть-чуть повернула голову... Взглянув ему в глаза, она вдруг с тихим испугом откинулась назад...
Кто-то кланялся ей, и Елена машинально ответила на поклон. Она узнала Елецкого и Болохова и покраснела... Глинский несколько раз помахал в воздухе мягкой шляпой, и так как коляска в этом месте повернула, то смело прижал Елену к себе, с таким чувством, будто она ему уже принадлежала... Ему пришло в голову, что теперь, когда он ее уже обнял, как раз время сказать то, что хотел сказать раньше.
– Я не сомневаюсь, – произнес он с уверенностью, – что если кто-нибудь считает нас с вами мужем и женою, то думает и о том, как страстно я обнимаю вас дома и как целую вашу шею, ваши губы...
"Я, кажется, дурно сделала, что поехала с ним, – подумала Елена с тяжелым чувством, боясь оглянуться на Глинского. – Он говорит пошлости... и меня очень беспокоит его рука, а я не знаю, как сказать ему, чтобы он принял ее".
Ссориться, однако, ей не хотелось... Как решиться уничтожить прекрасное, что сейчас живет у нее в душе?..
– Мне кажется, – мягко ответила она, – такие мысли никому не приходят в голову. В них нет ничего интересного.
– Вы очень мало, Елена Сергеевна, знаете людей, – сказал он, скользя пальцами по ее спине. – Они именно подумают о том, о чем я вам сказал. При виде красивой женщины рядом с мужчиной только такие мысли и приходят в голову. Если бы вы знали мужскую душу, как я, – продолжал он, касаясь пальцами ее спины все откровеннее и настойчивее...
– Мне... неудобно, – с усилием произнесла она, делая, однако, вид, что не чувствует его касаний пальцами, даже не обратила внимания.
– Простите, быть может, я вас обеспокоил, – лицемерно-вежливо и предупредительно сказал Глинский, чуть отодвигаясь от нее...
"Он думает, что я не заметила, – успокоила себя Елена, – краска разлилась по ее лицу оттого, что она заставила себя сделать ему замечание. – Слава Богу!"
– Я хотел сказать, Елена Сергеевна, – настойчиво продолжал Глинский, – что мужчина, увидев красивую женщину, тотчас начинает бесстыдно думать о ней.
– Ну, вот еще, – вспыхнула, она, однако, удивленная не тем, что он сказал ей, – она и от мужа знала, какие бывают мужчины, – а тем, что Глинский осмелился откровенно говорить об этом.
– Да, конечно, – подтвердил он, удивляясь ее наивности, – вы совсем жизни не знаете, – и опять прижал ее крепко к себе, радуясь, что ощущает сквозь мягкую ткань ее тело, такое теплое, круглое, как бы прильнувшее к его руке.
Она опустила голову, не зная, как ей быть, испуганная мыслью, что теперь он, несомненно, уверен в том, что она чувствует его частые неприличные объятия.
Все ухаживавшие за ней, да и он сам до сих пор, не позволяли себе никакой вольности, а тут началось сразу, и как прекратить это, она не знала. Если сказать ему, то своими словами она признает, что он вел себя оскорбительно с ней, что обнимал ее, но она этого не может дать ему понять. Конечно, ее вина: надо было оборвать с самого начала...
"Но разве я в самом деле оскорблена? – пришло ей в голову. – Ведь я стыжусь только потому, что он считает это оскорбительным для женщины... В действительности же, в том, что он делает и говорит, нет ничего страшного, и оно гораздо ужаснее, когда думаешь об этом".
Они были уже за городом. Коляска катилась посредине длинной, как будто бесконечной аллеи. Сразу стих шум, и наступила приятная зеленая тишина.
Отчетливо звучали удары копыт о мягкую, теплую, уже пыльную землю... Щегольской извозчик изредка причмокивал губами. Деревья белели нежно вдали своими стволами и, казалось, без оглядки убегали от кого-то...
С левой стороны вырисовывались лиловые оконца крошечных домов, и думалось о том, что в этих домах, когда стемнеет, вероятно, будет грустно.
– Через несколько минут, – сказал Глинский, – мы подъедем к загородному ресторанчику. Если вы устали, мы можем сойти и добраться туда пешком. Это недалеко.
Она обрадовалась его предложению. Сейчас он примет руку с ее спины, и опять станет хорошо, необыкновенно легко, как раньше.
Когда они сошли и извозчик уехал вперед, Глинский тотчас же без спроса взял ее плотно под руку, высоко у плеча, и, мешая ходить, начал, будто шутя, рассказывать небылицы, но голос его дрожал от волнения...
Если бы можно было, если бы Елена не была так пуглива, если бы он совершенно не боялся ее, то, конечно, повел бы ее не к ресторанчику, уже видневшемуся, а в сторону, к деревьям, стволы которых только что от заката порозовели на глазах.
Он совсем не разбирался в ее чувствах, и его мало интересовало, что она думает о нем... Ему казалось, что он безошибочно знает ее мысли и во всем одобрен, чтобы он ни сделал. Раз она поехала с ним, то, конечно, знала с какой целью – не девочка же, – подумал он о ней, – знала, что и он ради этой цели поехал и, значит, примет все, что случится, как хорошее и приятное. Разве он в чем-нибудь переступил границы приличного, дозволенного? Ведь всякое иное отношение к ней непременно показалось бы ей дурным, недостойным мужчины, и она, наверное, почувствовала бы себя оскорбленной... Она бы заподозрила самое ужасное, что пугает и отвращает женщину от мужчины, и потому всеми своими словами и поступками он исполнял только то, чего от него ждали... О чем бы они разговаривали, если бы их не связывало это тайное? Неужели о знакомых или опять о Боге? Каким неуместным, глупым и мучительным показался бы такой разговор здесь, за городом, и как быстро летят минуты в этом хождении вокруг самого главного.
Его уверенность покоилась на этих простых, ясных мыслях, которые даже не рождались в голове, а были как бы присущи ему. Он здоров, силен, смел и все остальное должно уже идти само собой, инстинктивно, рождая ряд милых, приятных душевных переживаний и вызывая прелестный сказочный обман, что во всем мире их только двое: он и она... И он шел, что-то шептал, держа плотно ее руку высоко у плеча...
В ресторанчике они сидели долго. Глинский выпил чашку крепкого кофе, Елена попросила чаю. Говорил он много и все о том же и снова о том же, а она лишь изредка кивала головой, пыталась улыбнуться...
Несколько посетителей, сидевших за столиками, сначала беспокоили их своими любопытными, вопрошающими взглядами... Елена не знала, куда глаза девать, чувствовала себя неловко, но когда решила мысленно, что расскажет мужу о прогулке, то постепенно успокоилась. Заторопилась же она, как только увидела в окно, что потемнело.
На улице Глинский опять без спроса взял ее под руку, но так как было темно и никто этого не видел, Елена ничем не выдала своего недовольства.
"Он очень назойлив, – думала она, – и я больше с ним не поеду гулять, никогда не останусь с глазу на глаз", однако вздрогнула, когда Глинский перехватил ее талию рукой... Она остановилась, посмотрела с тихим упреком ему в глаза и быстро пошла к извозчику, терпеливо ожидавшему их прихода.
– Это наш? – отрывисто спросила Елена; в голосе ее слышалось волнение.
– Да, наш, – ответил Глинский, почувствовав, что ее волнение передалось ему.
– Поедем скорее, мне пора, – с беспокойством выговорила она. – Вероятно, муж волнуется.
"Я сказала: муж, – подумала Елена, – а в сущности чувствую так, как будто у меня нет мужа. И это оттого, что Глинский обращается со мной, как с вещью".
Оба сели. Она отодвинулась сколько могла, чтобы не ощущать рядом со своими его твердых колен, и когда он, как она боялась и ожидала, все-таки придвинул их, ей сделалось гадко.
– Пошел медленно! – сказал Глинский извозчику.
Голос его показался ей незнакомым, неприятным, точь-в-точь как днем.
– Нет, не медленно, а поскорее, мне, в самом деле, поздно, – стараясь думать, что не просит, а приказывает, произнесла Елена.
– Умоляю вас, Елена Сергеевна! В городе мы поедем так скоро, как вам этого захочется, а сейчас, Елена Сергеевна, разрешите ему ехать медленно. Здесь так хорошо... Разве вам не жаль расстаться с этой волнующей тьмой, с этим глубоким звездным небом... Вслушайтесь, какие звуки идут от земли.
Она не ответила и очень осторожно отодвинула свои ноги. Глинский понял это движение как знак и подумал, что теперь Елена ждет от него того, ради чего поехала с ним.
И хорошо было и кстати, что она вспомнила о муже, иначе он бы заключил, что она ему бросается на шею.
"Какая предусмотрительная", – одобрил он ее.
И как только он таким образом объяснил себе ее слова и молчание и понял, зачем она отодвинула ноги, то вдруг заволновался, осмелел, наперед зная, что ему уже ничего не будет.
– Вам не показалось странным то, что я сейчас сказал? – неожиданно спросил он ее.
– Странным? – с удивлением произнесла она, ясно помня, что он ничего не сказал.
– Значит, вы меня не слушали! Я сказал, что если бы мы остались вдвоем, в целом мире одни...
– Как так? – тихо спросила Елена.
– Да уж не знаю, ну, катастрофа какая-нибудь, это ведь не важно. Надо только представить себе, что все умерли, и мы с вами остались одни в мире: вы с своей любовью к мужу, а я влюбленный в вас. Знаете ли, чем бы это кончилось?
– Чем же? – спросила она, невольно испугавшись при мысли о смерти мужа.
– Вы бы очень скоро влюбились в меня. Как оно ни странно, как ни кажется сейчас невозможным, но это непременно случилось бы...
– Вы думаете? – гордо сказала она, досадуя на его уверенность.
– Ну, конечно... Что же бы вам осталось делать? Одна во всем мире... Вы бы даже безумно влюбились в меня и, вместо того чтобы сидеть так как сейчас, мы сидели бы, близко прижавшись друг к другу... Ведь в мире, по моему предположению, никого нет, – докончил Глинский, вдруг взяв ее руку.
Отвернув перчатку, он поднес ее теплую руку к губам и стал быстро целовать надушенные пальцы.
От неожиданности она как-то неловко дернулась и отвернулась обиженная...
То, что она опять ничего не сказала, он понял как благоприятное, как поощрение, будто она сказала:
– Не пугайтесь того, что я отвернулась, целуйте еще, обнимайте меня, делайте, что хотите, ведь мы для этого поехали.
– Больше не буду, – послышался его голос. – Дайте мне только вашу руку, и я минуточку подержу ее и извинюсь перед ней молчаливым пожатием. Дайте же, дайте, умоляю вас.
И он так и сделал, как сказал, хотя она и не хотела. Дала же она руку только для того, чтобы он перестал просить, говорить оскорбительным, молящим голосом и еще ради того, чтобы извозчик не услышал его слов.
Взяв руку и освободив ее от перчатки, которую спрятал в карман – на память, как он сказал, Глинский тихо пожал ее.
Волновала синяя теплая ночь, и звезды, и ветер в листве деревьев, и мягкая ладонь женщины, а запах духов, шедший от нее, туманил, как будто говорил:
"Так пахнет вся она, ее рука до плеч, прижмись к ним и испытаешь наслаждение. Прижмись, только это нужно сейчас делать, пока вы вдвоем и темно вокруг... Она будет молчать, потому что для этого поехала".
– Вы видите, – сказал он, – я благороден, я оставил вашу руку, как обещал, но, клянусь вам, вы мучаете меня, – произнес он, точно имел уже право жаловаться ей на свои страдания.
– Вы говорите очень громко, – отозвалась шепотом Елена. – Лучше переменим разговор, – попросила она, чувствуя, что ей уже нельзя приказывать.
– О чем же нам говорить? – каким-то чужим голосом спросил он. – О чем? – повторил он отчетливо и, неожиданно для себя, вдруг притянул ее к себе и прижался губами к ее щекам.
– Я люблю тебя, – зашептал он, – давно, давно, дорогая моя; люблю твои глаза, твои руки; люблю всю, всю.
Елена так испугалась, что даже не вскрикнула... Лишь инстинктивно она стала сопротивляться, сильно, серьезно. Сначала ее неприятно поразил запах табака, когда он поцеловал ее в губы, и несказанно удивило прикосновение густых жестких волос его коротко подстриженной бороды. Самое же мучительное было – стыд, и то чувство, хуже стыда, что теперь ей нельзя уже притворяться, будто она не понимает, не заметила, не почувствовала, что он делает... Она боролась молча, стараясь не обратить внимания извозчика, и защищалась мысленно такими словами: "Что вы делаете, как не стыдно! Я не хочу ни ваших поцелуев, ни объятий... Поймите, мне этого совсем не нужно. Вы ошиблись! Ваши объятия меня серьезно оскорбляют... Умоляю вас, перестаньте, я не шучу, я сопротивляюсь серьезно, клянусь вам!"
А он все целовал, обнимал. Она бы, вероятно, закричала, если бы не стыд перед извозчиком... В один миг он уже знал всю ее, то, что она так искренно и стыдливо прятала от всех людей, кроме мужа. И мысль об этом так потрясла ее, что минутами она переставала сопротивляться. А он все обнимал и целовал, обнимал, целовал...
* * *
В городе, как только они очутились на людной улице, она попросила его сойти. Он стал было извиняться, но сейчас же замолчал, почувствовав, что этого не нужно, и, целуя уверенно и многократно ее руку, которую она уже не отнимала, сказал:
– Вы правы, поезжайте с Богом одна. Я на днях заеду к вам.
Елена даже не ответила на его слова кивком головы, и когда его высокая, страшно противная ей фигура скрылась в полутьме, она отпустила извозчика, кликнула другого и поехала домой.
В городе было шумно и светло, призрачно красиво, как бывает в концерте или в театре, где забываешь о том, что есть небо и не приходит в голову поднять глаза вверх. Елена, сидя в дрожках, торопливо обдумывала, что с ней случилось, и удивлялась своему негодование против Глинского.
"Почему я сержусь на него, – говорила она себе, – ведь, в действительности, он ни в чем не виноват передо мною... Сам он мне глубоко противен, но теперь я поняла, что точно так же поступил бы каждый мужчина на его месте. Конечно, он развратный, бесстыдный, но я ведь для него и разоделась и рада была, что нравлюсь ему, и я во сто раз преступнее, хуже и гаже Глинского, – с ужасом подумала она. – И странно, – вдруг пришло ей в голову, – что, начав с вечности и бесконечности, мучаясь от чего-то большого, непостижимого, я, хотя и невольно, кончила пошлостью и гадостью".
...По лестнице она поднялась быстро и легко, нетерпеливо позвонила и, угадав в передней шаги Ивана, на миг затаилась, как бы вся закрылась от него.
Иван шумно, радостно встретил ее... Прибежали дети, весело крича: "Мама пришла", показалась горничная. Детей Елена расцеловала и тотчас пошла в гостиную. В гостиной было темно. Иван, как только они остались одни, крепко обнял ее и прижался губами к ее горевшим щекам.
– Ты пахнешь табаком, – с легким отвращением, которое испытывают некурящие, удивленно сказал он.
– Разве? – спросила она, тоже будто удивленная.
"Я отлично разыгрываю удивление", – подумала она, холодея.
Она с тяжелым чувством обняла его и, неизвестно почему, еще раз ответила:
– Если ты настаиваешь, что я пахну табаком, то так, вероятно, и есть... Пойду умоюсь, и это пройдет.
Но он не отпустил ее, пошел с ней и, обнимая и мешая ходить, как Глинский, говорил на ухо:
– Где ты была, почему так долго не возвращалась? – Он поцеловал ее. – Иногда спрашиваю себя, нужно ли, чтобы я так любил? Подожди, я обниму тебя. – Он обнял ее. – Вот чувствую, что я исчез, что меня нет... Я слился с тобой.
"Как он любит меня, – подумала она, – а я спокойна. Мне приятно, что у него мягкая, шелковистая борода и что весь он чистый, ясный..".
Платье уже лежало на полу, как свернутая змея. Она стояла полураздетая, что-то отвечала на слова Ивана, но в душе ощущала пустоту и чувствовала, что Глинский в чем-то испортил ее жизнь.
Ласки Ивана не трогали ее, скорее были неприятны. Ведь Глинский так же страстно, с таким же жаром обнимал ее, целовал, и в этом, помимо своего унижения, она теперь чувствовала и унижение Ивана. В чем-то оба сравнились в ее глазах, и в чем-то стали одинаковыми, подобными, и было больно сознавать это, странно удивляло.
Весь вечер она избегала Ивана, пряталась от него и, под разными предлогами, то сидела в детской, то с бабушкой у окна. Потом она много, до усталости, играла, стараясь ни о чем не думать, но и в музыке не нашла успокоения.
Иван уже лежал в кровати и терпеливо ждал ее. Она легла, дала себя обнять, но была загадочно молчалива.
Сон не приходил, хотя она и звала его. Иван лежал рядом и мирно, со счастливым лицом, спал. Она осторожно положила руку под голову и долго всматривалась в него.
"У него широкий лоб, – думала она, – а у Глинского высокий... У него губы красные, но и у Глинского красные... У него такие же руки, как у Глинского. Если долго вглядываться, то перестаешь разбираться, в чем разница между Глинским и Иваном".
Она испугалась этой мысли и, чтобы перестать думать, поцеловала его.
"Ведь я так же легко могла поцеловать и Глинского, – пришло ей на ум, – и нисколько бы оттого не изменилась. Как ужасно все, что я теперь думаю", – с отчаянием сказала она себе.
И снова потянулись мысли... о вечности, о мирах, о том, что Бога нет, и не понимала, почему, если ей все можно, она совершила дурное, а не хорошее.
Она долго еще мучилась, но, наконец, не выдержала, осторожно встала, выпила брому и начала ходить по комнате. Сердце у нее часто билось и казалось, что в комнате нет воздуха. Подойдя к окну, она приоткрыла и выглянула на улицу. Промелькнул силуэт прохожего.
"Вот, если бы так, вдруг умереть, – пронеслось у нее, – и наступил бы конец всему-всему".
Она закрыла ставень и снова начала ходить. Опять почувствовалось, будто из комнаты выкачали весь воздух. Но она уже не страдала от этого, а радовалась... Руки ее поднялись к шее, словно она хотела задушить себя, но не за грех, – она теперь не считала того, что произошло с ней, грехом, – а за другое... Ведь, что бы она ни сделала, ей уже никогда не уйти, не заполнить бездны, которую она увидела, поняла...
* * *
Через неделю явился Глинский, но Елена его не приняла, сказавшись больной. Прошла еще неделя, он опять пришел, – Елена и во второй раз его не приняла. Спрятавшись за дверью в гостиной, она слушала, как он задавал вопросы горничной, и голос его почему-то волновал ее. Она едва удержалась, чтобы не выйти и сказать:
– А я ведь дома и совершенно здорова. Как я рада, что вы пришли.
"Я – сумасшедшая, испорченная, дурная, – думала она. – Я ведь его презираю и знаю, что буду мучиться, когда останусь с ним с глазу на глаз. Чего же я хочу?"
* * *
...Уже был май, уже пышно расцвели деревья, усаженные рядами, вдоль домов, как вдруг, неожиданно, заболел Иван.
И вот Елена, еще вчера не находившая себе места от тоски и недоумения, сразу забыла обо всем, что ее угнетало.
В один миг перестали существовать и непонятное и греховное, рождавшие страдание мысли и совести, уничтожилась ее связь с бесконечным, с миллионами верст, с вечностью, и затерся, заглох в душе образ Глинского.
"Если я считаю жизнь ничтожным, пустым даром, человечество только огромным муравейником, и потому мне все можно, то почему, вместо того чтобы позволить Глинскому обнимать себя, я не убила детей своих, не отравила городского источника, или не сделала попытки поджечь город, чтобы преступление хоть как-нибудь отвечало моему пониманию".
Сегодня же она, под влиянием действительного несчастья, неожиданно обрушившегося на нее, ходила по комнате и шептала:
– Если болезнь Ивана серьезна, я не перенесу удара. Господи, сделай, чтобы болезнь его была пустячной. Только этот раз исполни мою просьбу, я обещаю Тебе так беречь Ивана, что больше он не заболеет. Господи, я часто бранила Тебя, но душу мою Ты ведь знаешь. Ты знаешь, что в глубине я, хотя и браню Тебя, отрицаю и не постигаю, как можешь Ты существовать, все же верю, страстно верю в Тебя, и я ни в чем не виновата перед Тобой...
Сегодня она еще так думала: "Кухарка рассчиталась, съезжу в контору, прикажу прислать другую, приглашу доктора, хотя Иван и не соглашается. Кстати доктор и новую кухарку осмотрит".
Так она и сделала и не заметила, как окрепла душой от суеты и беспокойства.
Когда явился доктор, Иван поморщился, – он безотчетно боялся докторов, – но, чтобы не огорчить Елену, согласился принять его.
Доктор осмотрел Ивана, постукал где нужно молоточком, выслушал сердце и стал считать пульс. Лицо его было непроницаемо и серьезно.
Елена следила за всеми его действиями, неестественно улыбалась и делала вид, что не боится, не беспокоится, сама же едва держалась на ногах от волнения. Сейчас судят ее милого, дорогого Ивана. От приговора доктора зависит вся ее жизнь. Или она – несчастная вдова, или счастливая жена с беспрерывными радостями.
"Господи, Господи, – молилась она. – Сделай, чтобы были беспрерывные радости. Я уже не скучаю. Я не страдаю больше от счастья".
Когда доктор объявил, что серьезной болезни сердца нет, и объяснил недомогание нервным переутомлением, которое пройдет, если отдохнуть как следует где-нибудь у моря, Елена сразу повеселела, забыла о Боге и уверенно сказала:
– Я так и думала, доктор. Откуда вдруг сердечная болезнь? Это все мнительность Ивана, а я ни одной минуты серьезно не верила. Кстати, доктор, у меня к вам просьба, я взяла новую кухарку. Что, если бы вы ее осмотрели?
Сидела она в это время на кровати подле Ивана, он незаметно целовал ее пальцы.
После осмотра кухарки к доктору, уже без спроса, подвели и бабушку, которая долго не хотела идти, но пошла потому, что Елена попросила ее.
На доктора бабушка посмотрела очень внимательно и загадочно улыбнулась. Она ничего не сказала, дала осмотреть себя, но с таким равнодушием отвечала на его человеческие вопросы, что ему стало неловко. Увидел он, что перед ним стоит человек, может быть, даже и не живой, уже за гранью живущего, за гранью того, что имеет отношение к нему, доктору, за гранью законов, которые были ему известны. Показалось ему вдруг, что он находится перед вечностью. И лишь только он так подумал о бабушке, то сразу понял, как смешно, неестественно ощупывать эту вечность, выслушивать ее, давать советы.
"Удивительно странная старуха, – сказал себе доктор, почувствовав как мурашки побежали по его спине... – Никогда я не видел ни глаз таких, ни такой улыбки".
И молча отошел от нее.
Днем пришел студент, новый репетитор Колюшки, старый внезапно был вызван к своему заболевшему отцу. Елена приняла студента в столовой, рассказала ему о Колюшке, обрисовала его характер, советовала на что обратить внимание, говорила о его способностях и многое другое в таком же роде.
Студент, юноша с маленькими усами, голубоглазый, в поношенном мундирчике, слушая ее то быструю, то плавную речь, замечтался о другом и раза два очень внимательно посмотрел ей в глаза.
Она тотчас же покраснела и, досадуя на себя, оборвала разговор и вышла.
"Как странно, – думала она, – когда он посмотрел на меня, то сделался похожим на Глинского и Ивана. Я узнала что-то новое, чего раньше не знала. Я как будто открыла ту дверь, к которой мне было запрещено подходить..".
В доме все пошло по-старому. Доктор приходил каждый день и каждый день повторял одно и то же:
– Уезжайте отсюда, вам надо лето провести у моря.
Ивана навещали родные и знакомые. Глинский был два раза и оба раза держался как заговорщик: будто Елена ему принадлежала, а он из благородства позволил ей остаться с Иваном. Елена очень мучилась от его посещений, когда же он уходил, к ней возвращалась веселость и спокойствие.
Гости приходили ежедневно... Все выражали Елене сочувствие, соболезновали; ежедневно Елена надевала другое платье и была красива, как никогда еще. Она сидела с гостями в гостиной, – к Ивану, которого почему-то держали в кровати, никого не пускали, – слушала, улыбалась, иногда отвечала, а больше молчала.
Гости говорили о том, что жизнь вздорожала, что жизнь скучна, сера, и многое в таком же роде; рассказывали, что в театре идет новая пьеса, что на днях приезжает знаменитый певец, и Елена, слушая разговоры дам, думала про себя, что все они считают ее образцовой женой и что никто не догадывается о ее тайне.
"А что если, – приходило ей в голову, – и они такие, как я? Я считаю их недоступными, чистыми, как они меня, а, между тем, каждая, выйдя от меня, может быть, спешит на свидание. Ведь настоящая наша жизнь есть та, которую мы не показываем, а тщательно скрываем".
...Вечером она сидела с Иваном, и между ними началось то привычное, приятное, что так крепко соединяло их, – началась та радость, когда каждое слово приобретает иной смысл и помещает в душе милые чувства нежности и тихого упоения.
– Почему я люблю тебя? – спрашивал Иван, обнявши ее. – Почему ты мне кажешься лучшей и воплощением красоты и изящества, почему ты каждый раз новая? Потому что я не знаю тебя, потому что ты – моя и ничья... Я люблю тебя вечером больше, чем днем. Ты – та же, но другая... Твоя улыбка загадочна и голос твой как будто несется из вечности и несет меня к новой вечности. И еще потому я люблю тебя, что ты странная, какая-то необыкновенная.
И ей он кажется иным... Это не Иван, с шелковистой круглой бородой, в мягкой сорочке, – а вечный "он", владеющий тайной волновать ее существо... Себя же она чувствует единой в мире, который подчинен ее воле... Движением ресниц она создает моря, небеса, движением ресниц она уничтожает их. Движением ресниц она создает потрясающие мелодии, чтобы ярким пламенем зажглось ее сердце, чтобы воскресли в ее памяти ушедшие тысячелетия и, послушные ее воле, поют миры...
И снова они земные. Таинственное чудо преображения кончилось: они опять в своей квартире, она уже не единственная, он – Иван, и скукой веет от каждого угла.
Только что он говорил:
– Днем твои руки белые, розовые, ты вся белая, розовая, а вечером ты, – таинственная, чужая.
А теперь она слышит:
– Я уже две недели не работаю... На заводе без меня нет порядка. Управляющий – хороший человек, но мямля. Да, некстати эта дурацкая болезнь.
Только что он говорил:
– Хочу, чтобы это вечно продолжалось... Глядеть на тебя и думать, что ты таинственная – необыкновенное наслаждение.
А теперь он продолжает:
– Дай мне свежую сорочку... Если бы я был рантье, я жил бы только в Англии, и дети получили бы великолепное воспитание.
Она дала ему сорочку и думала: "Почему я с такой необыкновенной ясностью чувствую пошлость этих слов?.."
И от мысли, от этой сорочки, от того, что уже ушла радость, только что жившая в ее душе, ей хочется убежать куда-нибудь, забиться, как птица, в угол.
...Она сидит за роялем и играет. Наконец, она говорит:
– Мы уедем, Иван, на все лето.
И думает: "как удивится Глинский, когда узнает, что я уехала".
Иван лежит на кровати... Звуки рояля едва доходят до него. Они доходят, но смутно, как приятный шум. То вдруг кажется, что длинные, желтые стрелы падают в золотое озеро, а то ничего не слышит... Лицо у него очень бледное. От слабости заметно дрожат его желтые, сложенные в кулаки руки на белой простыне, и думает он не об обычном, а о трагическом.
– Да, да, – отвечает он желтым стрелам, летящим в золотое озеро, – мы поедем к морю. Доктор хорошо придумал.
А чуть поглубже идет свое, интимное, развивается другая мысль, бороздит его лоб темными морщинами и делает взгляд холодным, мертвым.
"Если бы я сказал Елене, о чем сейчас и всегда думаю, что ношу в душе, она закричала бы от ужаса, – как будто прочел Иван на стене... – Она играет для меня и уверена, что я счастлив. Я же чувствую себя трупом, который случайно начал двигаться, думать и говорить. Всю жизнь я ношу эту тайну, это свое знание о человеке, но не смею открыть Елене, чтобы не заразить ее души. А как прекрасно было бы, если бы мы могли говорить об этом, думать вместе. Спокойно подвигались бы мы к бездне, которая должна поглотить нас, наших детей и когда-нибудь весь мир".
Желтые стрелы все быстрее летят в золотое озеро и неожиданно исчезают. Иван опять думает: "Ведь почувствовать, что между живым и не-живым нет разницы, значит понять все, все загадки. Понять, это значит сказать себе: нет разного, все единое, и потому откажемся от стремлений, откажемся от расценок. Понять это, значит понять, что вся духовная жизнь, наука, искусство, религия созданы для того, чтобы затемнить эту главную мысль, и что они точно игрушки в руках детей, отвлекающие от главного. Все это несомненно, хотя я и знаю, что искусство, наука и мораль – хорошие и занятные игрушки".
Елена все играла, и он, когда надо было, улыбался ей и отвечал, но с вдохновенной радостью думал теперь о том, что смерть существует.
"Чего бояться, если есть смерть? Ужас был бы в вечной жизни, в сознании невозможности примирить противоречия, – смерть разрешает все заблуждения. Слава Богу, есть смерть, привет ей! Вот скоро, рано или поздно, придет она ко мне, к Елене, к детям и погасит нас... В этом – моя радость, моя единственная вера. И радость эта покрывает даже любовь, потому что смерть выше любви".
От усталости он незаметно задремал... Желтые стрелы все падали в золотое озеро... Упала последняя, вынырнула и поплыла прямо, чуть колышась на золотой ряби.
Елена, играя, вдруг почувствовала, что он заснул, как будто ей сказали тихо:
– Заснул...
И, неизвестно почему, Елене вдруг показалось, что с этой минуты начинается нечто новое в ее жизни. Она готова была поклясться, что так и будет. Завертится она, как-то закружится и, так вертясь, упадет где-нибудь мертвая.
Она перестала играть, поднялась и на цыпочках вышла из спальной, не зная, что с собой делать. Потянуло ее в детскую. Дети спали крепким сном. Она долго стояла перед ними, вглядываясь, как будто не узнавала их, словно ей показали обоих через сто лет.








