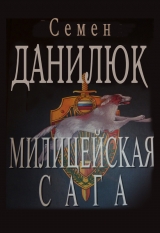
Текст книги "Милицейская сага"
Автор книги: Семен Данилюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Потому и щели, что честный человек! – нервно вскричал участковый, верно поняв нехитрый намек Тальвинского.
Сам Галушкин, несмотря на помощь строительных организаций района, вот уж какой год не мог закончить с текущим ремонтом. И едва ставил он "заплату" в одном месте, как "прорывалось" что-нибудь по соседству. Так что все это кирпично-горбыльное изобилие вбухивалось в основном в беспорядочные подстукивания да прилаживания, озлобляя Пал Федосыча и наполняя его новой страстью в борьбе с "жиреющим элементом".
– Еще не хватало: меня с расхитителем на одну доску, – пробурчал он.
– Стало быть, так, – констатировал Чекин. – Дело это мы у тебя , Федосыч, как ты просишь, забираем. И знаешь, что первым делом сделаем? Меденникова твоего немедленно выпустим.
– Да это ты что ж такое говоришь, Аркадий? Ты ж коммунист! – Галушкин поперхнулся негодованием.
– А ты заглохни, Павка Корчагин! И так весь отдел подставил, – Чекин потерял терпение. – Скажи спасибо, если еще договоримся с этим Меденниковым, чтоб без скандала, втихзую дело закрыть. А то, гляди, вышибут тебя из органов за незаконное задержание.
– Ежели вовсе перерожденцы, так за правое дело готов пострадать!
– Словом, вот такое мое решение... Ты, Федосыч, все понял? – Чекин присмотрелся к насупившемуся старику.
– Чего ж не понять-то? Дожили. Державу великую на наших глазах разворовывают, а мы вместо чтоб грудью, значит, единым фронтом..., – безнадежно махнув рукой, Галушкин поднялся.
– Об одном прошу, – нетерпеливо перебил Чекин. – Не высовывайся больше. Хочешь, возьми неделю и дуй домой. Может, хоть с ремонтом закончишь.
– А совесть коммуниста? – донесся через закрывающуюся дверь страдающий голос, наполнивший обоих свежей тревогой.
– Взял-таки? – удивился Андрей.
– А что делать? Шеф просил выручить. На весь отдел пятно.Тут он нам, кстати, парнишку на неделю дал в помощь. Вот его в ИВС и отправим ( сноска – «Изолятор временного содержания», где содержатся до трех суток задержанные, в отношении которых решается вопрос об аресте). А ты, уж будь добр, – вынеси постановление об освобождении за нецелесообразностью. И новичка проинструктируй, как лучше допросить. Я после с Берестаевым договорюсь, втихаря прекратим куда-нибудь на товарищей и зароем в архивы. Прокурор у нас хоть и баламут, а подставлять район под незаконное задержание не захочет. Хотя сегодня, после твоего визита, к нему лучше не приближаться.
– Стало быть, знаешь? – Андрей виновато потупился.
– А то! За тобой же след повсюду как за раненым кабаном, – Чекин был заядлым охотником. Правда, выехав из дома, не всякий раз доезжал до леса. – Только что Берестаев звонил, – привет передал: два дела со злости завернул на доследование.
– Александрыч, ты на меня зла не держишь? – Тальвинский, выбиравший момент для разговора, решился. – Ну, что вроде как в обход тебя иду на повышение. Я ведь понимаю, у тебя и прав больше, да и по жизни лучше тебя кандидатуры нет... Ты только скажи, и я без звука...
– И в голове не держи, – невозмутимо пресёк разговор Чекин и, явно опасаясь новых излияний, демонстративно опустил руки на клавиши.
Андрей с нежным выражением глянул Андрей на начальника следствия и отошёл к окну. Там вновь увидел непутёвых Ханю и Чугунова, отступивших уже к самому крыльцу. Оба, быстро размахивая руками, что-то быстро, не умолкая, говорили мужчине, который, судя по нервным его движениям, упрямо стремился пройти в отдел. Но стоило ему сделать шаг в сторону, как кто-то из двоих вновь оказывался на пути.
– Вот разыгрались, мормудоны, – снисходительно пробасил Тальвинский.
– А, это, – Чекин равнодушно скосился в окно. – Это они от мужа твоей Вальки отбиваются. К руководству рвётся.
Андрей почувствовал, как по низу живота его растекается неприятный, унижающий холодок. С какой-то безысходностью привалился он к оконной раме, наблюдая, как в двадцати метрах решается его судьба. Андрей догадывался о скрытой неприязни к нему начальника райотдела и ничуть не сомневался, что если муж Валентины сейчас прорвётся на прием, на назначении будет поставлен жирный крест.
– Трубку возьми, – вернул его к действительности голос Чекина. – Это тебя.
– Слушаю.
– Андрюша! Алло, Андрюшенька!
– Слушаю, слушаю, Валюх!
– Господи, как же это? Я только сейчас узнала. Он что, действительно пошёл к вам?
– Он уже у нас.
– Боже мой, но это ужасно! – голос Валентины сбился в судорожные всхлипы. – Он же на тебя столько грязи выльет. Это ж всё, о чём ты мечтал, рухнет!
Скосившись на Чекина, Андрей прикрыл трубку.
– Обойдётся. Лучше скажи, как твои украшения.
– Мои? Лечу по твоему совету бодягой... Подожди, где он сейчас?
– На крыльце.
– На крыльце?.. А что он там делает?
– С Ханей плюются.
В самом деле Ханя перед тем сказал что-то резкое и плюнул на асфальт, зло растерев плевок. И Он тоже плюнул, согласно кивнув головой. Понимающе скривился Чугунов и вновь принялся что-то говорить, на этот раз не нервно, а обстоятельно.
– Я тебе перезвоню, – Андрей вернул трубку Чекину, не отрываясь от происходящего на улице. Там как будто установилось взаимопонимание. Все трое закурили. Потом Он кинул окурок, махнул рукой и пошёл прочь, сопровождаемый приобнявшим его за плечо Чугуновым. Ханя же, крутнувшись лисом в курятнике, влетел в райотдел и через несколько секунд оказался в кабинете Чекина.
– О! Андрюха! Сквозанул-таки! А мы всё дёргались, как бы не появился. Словом, докладываю – операция "Рогоносец" проведена с присущим мне блеском. Противник разбит по всем позициям.
Он бесцеремонно открыл нижний ящик Чекинского стола, извлёк оттуда залежалый плавленый сырок и с жадностью хронического обжоры запустил целиком в рот. – Усовестили мы мужика, и под тяжестью улик он признал, что из-за собственной шлюхи ломать жизнь другим не стоит. Сейчас мы в него пару стаканов вольём. Закрепим, чтоб уж наверняка не вернулся... В общем, кто спросит, я на следственном эксперименте. Всем богатырское пока!
Провожая его взглядом, Андрей неприязненно представил, что говорилось и что будет сейчас говориться о нежной, беззаветно преданной ему Валюхе.
– Ничего, перемелется, – догадался, как всегда чуткий, Чекин. – Надо тебе с Лавейкиной поскорей заканчивать. Гнилое это дело.
Он прервался, заметив тихонько раскрывающуюся дверь.
...И вдруг – дуновение ветра, ощущение стремительного движения, и, прежде чем ошеломленный Чекин успел закончить фразу, на плечи стоящего перед ним Тальвинского обрушилось гибкое и сильное тело.
Обхваченный сзади Андрей сделал резкое движение, чтобы освободиться. Но, вопреки ожиданию, усилие его не привело и к малейшим результатам: будто он оказался опутан мотком стальной проволоки.
К такому уверенный в своей силе Тальвинский не привык, и оттого принялся пыхтеть, наливаясь злобой.
Напавший состояние его распознал и быстро распустил захват. А когда не на шутку разъярённый Тальвинский развернулся, уже стоял, вытянувшись во фрунт.
– Товарищ майор! Разрешите доложить! Лейтенант милиции Мороз прибыл в ваше распоряжение!
По мере того как ладный парень докладывал, весело поблёскивая глазами, гнев Тальвинского уступил место сначала недоумению, а потом радости.
– Виталик! – Андрей обхватил его за бицепсы, с силой, будто бы от избытка чувств, вжав в них длинные свои пальцы. С таким же успехом можно было пальпировать кору крепкого дерева. – Ты погляди, каким стал! А с виду сухощавый. Канаты у тебя там, что ли, вшиты?.. Знакомься, Александрыч. Мой крестник. В свое время едва по хулиганке не посадил. Сколько прошло?
– Больше пяти лет!
– Стало быть, тебе теперь двадцать три. М-да. Весь городской угро на меня тогда насел: требовал посадить. Лейтенант этот по городу известной шпаной ходил. Едва отбил. А теперь гляди каков – соратник.
– Умилительно глазу, – Чекин, видя, с каким искренним удовольствием приглядывается к "крестнику" Тальвинский, в какой раз подумал, что больше всего мы любим не тех, кому обязаны, а тех, кто обязан нам. – Так что, лейтенант, готов приступить?
– Мы всегда!
– Похвально. Материалы, что я тебе дал, изучил?
– В общем-то да, – Мороз замялся. И заминка эта наблюдательному Чекину понравилась.
– Стало быть, фамилия Меденников тебе теперь знакома. Скоро познакомишься лично. Придется съездить в ИВС. Андрей Иванович попозже разъяснит тебе все, что нужно сделать. Ну, и раз вы такие крестники, на неделю прикрепляю тебя к нему. Надо помочь дельце одно расхитительное поживей закончить. Вопросы есть?
– Никак нет... Какие будут указания? – Мороз молодцевато повернулся к Тальвинскому.
– Подожди пока в моем кабинете.
– Хорош! Прямо гусар на плацу. Такие женщинам нравятся, – оценил Чекин, едва Мороз, чётко повернувшись, вышел. – Впрочем, в этом вы с ним схожи. Ступай-ка и ты. А то как бы там Лавейкина отдел не затопила. Недавно выходил – рыдает перед твоим кабинетом.
– Тренируется! Ох, и не лежит душа концы по такому делу рубить. Умом все понимаю: и не ко времени, и сверху давят. Но как вспомню, что кто-то из этих сволочей организовал убийство Котовцева... – Это всего лишь предположение.
– Но это МОЕ предположение! Веришь: хоть какая-то зацепка – порвал бы к чертовой матери! А после – гори оно все!
– Зацепка, говоришь? – Чекин вгляделся в Тальвинского. Он любил Андрея. Но, в отличие от других, ценивших того прежде всего как веселого, снисходительного приятеля, которому хотелось подражать, Чекин выделял иное его, несмотря на десять лет милицеской службы, не утраченное качество – совестливость. И теперь колебался, стоит ли продолжать: уж больно много неприятностей принесла эта черта бывшему "важняку".
Но и Андрей не первый день был знаком с Чекиным.
– Что-то появилось? Не томи, выкладывай.
– Мне только что Галушкин поведал: оказывается, еще полгода назад в Знаменском была выездная торговля. Ну, он как участковый проверял накладные. Так вот с одного микрофургона нацмен торговал по документам, выписанным на Лавейкинский магазин. А с соседнего лотка продавала сама Лавейкина. И они общались. Вот он и решил, что вместе торгуют.
– Так, может, действительно?
– Наверняка. Но, как припомнил бдительный наш Галушкин, Лавейкина торговала обычным ширпотребом. А вот нацмен этот, – Чекин выдержал паузу, – один к одному с "левым" товаром, что через три месяца после того в лавейкинском магазине опечатали.
– И это все? Негусто. Я тебе и без того всю их схему расскажу. Дефицит этот систематически скидывался Лавейкиной. Она распродавала его на "развалах" под прикрытием магазина. Потом накладные рвались, а деньги делились. Во всем этом до сих пор неизвестен только один пустячок, вот такусенький, – откуда товар этот поступал. Могу, конечно, у самой Людмилы Николаевны поинтересоваться. Де, не желаете ли дать на себя новые показания. Но – там, сам знаешь, одна песня: "Делов не знаю".
– Чем богаты. Только нацмена этого Галушкин, по его словам, раза три потом встречал. Крутится близ Центрального рынка. Его Тариэл зовут.
– Тариэл! Всего лишь имя, – поняв, что существенной информации у Чекина нет, Андрей почувствовал невольное облегчение: в глубине души проблем перед самым назначением ему не хотелось. И тут же застыдился этого. – Но, с другой стороны – грузинское имя в русском городе – почти фамилия. Шанс, конечно, тухлый. Но – попробуем?
Вгляделся в ухмыляющегося Чекина. И только тут окончательно понял, куда его загоняют:
– Погоди! Центральный рынок, говоришь! Да это опять к котовцам на поклон!
Чекин сочувственно смолчал.
После разгрома «летучей бригады» из всех оперативников, служивших под началом Котовцева, в службе ОБХСС были оставлены всего трое: бывший заместитель Котовцева майор Марешко, капитан Рябоконь и старший лейтенант Лисицкий. Они обосновались в тихом флигельке, затаившемся в полутора километрах от Красногвардейского райотдела. Только их и оставили в службе ОБХСС в одном из городских районов. И их-то, желчных, необразумившихся, выделявшихся на фоне сурового шинельного сукна эдакой канареечной заплатой, и называли по-прежнему котовцами.
Говорят, на очередное предложение кадровиков покончить с гнездом дерзости и смуты многомудрый, переживший многое и многих начальник УВД пренебрежительно отмахнулся:
– Зачем убивать ядовитых змей в серпентарии? Раз уж под колпаком.
Генерал любил выражаться аллегорически.
– Не пойду. Как хочешь, Александрыч, к Лисицкому с просьбой не пойду, – набычился Андрей.
Чекин сдержал улыбку. Причина столь резкого демарша была ему хорошо известна. Как, впрочем, и многим. О странных отношениях, сложившихся между следователем Тальвинским и оперуполномоченным ОБХСС Лисицким, рассказывали с хохотом, будто свежий анекдот.
Дело в том, что Лисицкий неожиданно для всего города "подвинулся" на национальном вопросе. Некоторое время назад, начитавшись изъятой самиздатовской литературы, старший лейтенант милиции Лисицкий торжественно объявил себя поляком. И с тех пор при всяком удобном, а чаще неудобном случае плакался о тяжкой доле несчастного своего народа, распятого пактом тридцать девятого года между фашизмом и сталинизмом. Заинтересовавшемуся инспектору политуправления Лисицкий попросту и без затей объявил: "В этом затхлом городишке всего два порядочных человека: я да Тальвинский. И оба, кстати, поляки".
Произошло это как раз накануне дня, когда в очередной раз решался вопрос о повышении Тальвинского в должности. И хотя примчавшийся в инспекцию по личному составу
Тальвинский безусловно оправдался, что никакой он не поляк, а самый что ни на есть заматерелый русский и даже представил какие-то дополнительные метрики на бабку, назначение на всякий случай "прокатили". Озверевший Андрей прямо из "предбанника" дозвонился к котовцам и пригрозил при случае набить морду. На что Лисицкий, известный своей вспыльчивостью, лишь кротко вздохнул: "Ну, что делают сволочи? Нас, поляков, всего ничего, и то норовят лбами столкнуть. Вот он, великодержавный шовинизм в действии. А приезжай-ка, дед, в самом деле. Я тебя манифестом "Солидарности" побалую. Недавно отксерокопировали".
Тальвинский бессильно швырнул трубку.
Когда же при случайной встрече в людном коридоре УВД Лисицкий выбросил вверх сжатую в кулак руку и громогласно поприветствовал его: "Аще польска не сгинела!", – Андрей сдался. Отведя неугомонного опера в сторону, признался, что он действительно поляк. Но поскольку для номенклатуры – это непозволительная роскошь, то поляк он тайный. Куцим объяснением Лисицкий неожиданно удовольствовался и с тех пор при встречах ограничивался многозначительным подмигиванием. Встреч с ним предусмотрительный Андрей старался, понятное дело, избегать.
Чекин, хорошо знавший и Лисицкого, и родителей его, тамбовских обывателей, как-то не выдержал:
– Коля, и на хрена тебе вся эта галиматья?
– Знаешь, дед, так тошно иногда. Просто невмоготу, – простодушно объяснился Лисицкий.
– Вот еще пытаюсь предков на иудейские корни расколоть, – доверительно сообщил он. – Оченно я сионизму привержен.
Этот-то человек и курировал по линии ОБХСС Центральный колхозный рынок, вокруг которого роились представители братских закавказских республик.
– Не пойду, – решительно повторил Тальвинский. – Да мне под нож легче.
– Можно, конечно, и не ходить.
– Не подначивай... Слушай, а если Виталика пошлем?! Парень очень толковый. Проинструктирую! Прямо сейчас и направлю.
– Мы ж его в ИВС планировали, Меденникова освобождать. – Завтра в ИВС. Ничего с выпендрюжником этим не сделается. Помаринуется лишние сутки, глядишь, поумнеет. А по Лавейкиной срок подпирает. Тут – если повезет, выйдем на новые эпизоды. Нет – отрублю концы и – в суд, с глаз долой. Но хоть совесть очистим. Так как, Александрыч?
– Ну, Виталика так Виталика. Тем более шансов-то за пару дней найти этого Тариэла, расколоть, обставить доказательствами, чтоб дело продлить, и впрямь с гулькин фиг.
Благодарный Андрей поднялся:
– Ты не забыл, кстати, что вечером у нас мероприятие. По случаю моего... – Ты, кстати, там, на аттестации, держись смирно. Клыками не больно клацай. – Так нет их боле. Повыдрали.
– Ну, зубами не скрипи.
– И зубы поистерлись.
– Тогда, стало быть, и впрямь дозрел до начальника. Короче, постучи-ка по дереву.
–Тьфу-тьфу. – Тальвинский с чувством впечатал костяшки пальцев в собственный лоб.
5.
... Лавейкина сидела всё в той же скорбной позе, в какой оставил её, уезжая в прокуратуру, Тальвинский. Она издалека заслышала приближение следователя. Да и невозможно было не услышать. Веселый бас Тальвинского бежал впереди него, словно породистый пес, упреждающий появление хозяина. Заслышала. Но даже головы не подняла. И склонённая покачивающаяся спина, и обвисшие руки, и давно не налаживаемая химзавивка с колючей проседью, – всё говорило о безмерности унижения и отчаяния и готовности нести тяжкий крест до недалекого уже конца.
Но увидел Андрей и другое: она напряжённо ждала, кем-то настроенная на безусловное скорое прекращение уголовного дела, готовая торжествовать, но и страшащаяся непредсказуемого нрава следователя.
– Заходите, – он открыл дверь, приветливо кивнул сидящему за свободным столом Морозу и этим же жестом предложил ему вникать в происходящее.
Шаркая отёчными ногами, втиснутыми в бесформенные боты, Лавейкина тяжело остановилась посреди кабинета.
– Слушайте, вам не надоел этот маскарад? – Андрей рассматривал полинялую её красную кофточку, перекрещённую на спине слёжанным, в скатанных ошмётьях пуха платком. – Что вы сюда, как на помойку, ходите? Помнится, в магазине на вас тряпки куда поприличней были.
– И детям зареку, – невнятно, слизывая потекшие обильно слёзы, забормотала Лавейкина. – Будь оно все проклято. И тряпки эти, правда ваша. И чтоб ещё когда в торговлю...
– О, заголосила, – он достал из шкафа и положил перед Лавейкиной типографский бланк. Заметил, как напряглась она, пытаясь сквозь слёзы разглядеть содержимое.
– Стало быть, так, почтенная. В связи с отказом в санкции на ваш арест в качестве меры пресечения избирается подписка о невыезде. Вплоть до приговора суда не имеете права изменять место жительства. В противном случае мера пресечения будет ужесточена.
– Воля ваша, – выдохнула Лавейкина. Спавшая с лица при словах "приговор суда", она вдруг вскинула опухшее лицо к потолку. – Господи! Почему допустил? Почему не отрубил руку мою берущую!
– Вы что, Шекспира почитываете? – поинтересовался следователь. Крепкая фигура его производила впечатление свежести и озорной решительности, проблёскивающей из-под грозного вида.
– Почему помутил мой взалкавший разум? Всё бы отдала, в рубище поползла, только б без позора!
– Да это просто-таки прямой намёк на взятку! – Андрей басисто расхохотался, безжалостно глядя в кроткие, страдающие глаза обвиняемой.
– Не любите вы меня, Андрей Иванович. А потому и в невиновность мою не верите.
– Да я скорее в невинность вашу поверю! Ровно полторы недели назад в этом самом кабинете вздевали вы руки, уверяя, что за свою жизнь копейки государственной не усвистали. Теперь, после того как я обнаружил бестоварку, безусловно доказавшую факт хищения девятисот рублей, мы вынуждены выслушивать тут новую сагу. И это при том, что в магазинчике вашем с общими остатками в восемь тысяч рублёв в советской валюте обнаружено аж на двадцать тысяч дефицитных излишков! Так что в подсобке повернуться негде. Должно, кто сверху подбросил! Через дымоход.
– Злы люди! Верите, ни сном, ни духом!
– Как не верить! – Тальвинский налился свежей яростью. – Да такую как вы за девятьсот рублей сажать, все равно что серийного убийцу за неуплату алиментов!
– Господи! Страсти какие рассказываете.
– Свечку вам, Лавейкина, стоит поставить – повезло. Поздно вы мне попались.
– Смеётесь над старушкой, Андрей Иванович. А ведь едва жива. Ноги вот отказывают. Закупорка вен. А тут ещё на нервной почве сердце. Врачи на операцию уговаривают, а я им: раз следователь не велит...Не жиличка я, видать, на этом свете. Но к вам приползу. Я и врачам говорю: раз моему следователю надо, так как-нибудь, хоть на костылях. Он у меня такой редкий человек: зря не прикажет.
Подхалимаж Лавейкиной был столь упёрто-кондовым, что Тальвинский всякий раз исподволь выискивал в её глазах чёртиков. И иногда казалось, – замечал.
– Стало быть, вы подтверждаете, что, кроме вменённой вам суммы в девятьсот рублей, иных хищений не совершали? – сухо уточнил он. – Или появилось дополнительное заявление?
– Не. Не совершала, – осторожная Лавейкина заново наполнилась тревогой.
– В таком случае до послезавтра. Будем направлять дело в суд.
– Ну, уж и ладно. И разом. Все равно позор, – пробормотала она и медленно попятилась, слегка двигая бёдрами, словно нащупывая таким образом дверь. А, нащупав, выдавилась в коридор, откуда ещё какое-то время доносилось тихое её стенание.
– Видал, какова? Бабушка, божий одуванчик, – обратился Тальвинский к Морозу, жадно впитывавшему искусство допроса. – Много за ней грешков, ежели на скамью подсудимых на карачках ползти готова, лишь бы побыстрей. Только неправильно это – пробавляться щурятами, когда кругом акулы резвятся. Согласен, крестник?
– Безусловно. С тем и прибыл.
– Похвально. Тогда споемся. Я сейчас с начальником райотдела еду в УВД на аттестацию. А тебе, дружище, предстоит некая диспозиция. Ты ведь котовцев должен помнить?
– Еще бы! – Виталий встрепенулся.
– Так вот, акула эта, которую Лавейкина дряблой грудью прикрывает, наверняка не кто иной, как директор Горпромторга Слободян. Когда-то мы на него еще с покойным Алексеем Владимировичем Котовцевым охотились. Оченно бы хотелось его загарпунить. Хотя, признаться, шансов почти никаких. Но, говорят, новичкам в первый раз везет. Так что слушай внимательно...
6.
Виталий Мороз зашёл за трёхэтажное здание Центрального городского универмага, ловко протиснулся между приставленной к забору лестницей и гниющим под открытым небом огромным рулоном бумаги, – в подвале, под универмагом, размещалась переплётная мастерская.
За рулоном обнаружилась маленькая, ведущая во внутренний дворик калитка.
– М-да. Здорово замаскировались обэхээсники, – пробормотал Виталий. – Ещё пару пулемётов у входа – и ни один расхититель не прорвётся.
Пулемётов, правда, не оказалось, но и они не привели бы Мороза в то изумление, в коем застыл он, попав в тихий, засиженный лопухами дворик, в углу которого доживало свой век одноэтажное, облупившееся, с зарешёченными окнами здание. В самом центре его, над пронзительно-поносного цвета дверью ритмично поскрипывал на цепи огненно – красный фонарь с надписью по ободу «ОБХСС», – свежая дизайнерская находка обитателей особнячка.
Мороз шагнул в короткий предбанник, обрубленный тремя внутренними дверьми. Прямо – "Фотолаборатория", с карандашной припиской "Пыточная"; справа – клеёнчатая дверь с длинным полуистёршимся перечнем фамилий; левая дверь привлекала лаконичностью и нестандартностью оформления – "Старший оперуполномоченный Рябоконь. Менее уполномоченный, но еще более страшный опер Лисицкий". Чуть ниже красовалось выведенное вязью напористое объявление: "Вниманию жуликов, тунеядцев и кровососов общества! Приём покаявшихся с 9 до 18 часов. Прочая нечисть – согласно повесткам. Хорошенькие расхитительницы обслуживаются вне очереди и вне графика".
Мороз безошибочно толкнул левую дверь, за которой открылся отсек, состоящий из двух комнат. В ближней, проходной, среди сиротливо пылящихся столов приквартированный к ОБХСС местный участковый колотил одним пальцем по разбитой пищущей машинке, тоскливо глядя на лежащее перед ним заявление. При виде вошедшего он запустил палец в зубы и быстро им задвигал, что, очевидно, соответствовало крайнему напряжению мысли. Из состояния творческой задумчивости его не вывел даже взрыв хохота, обрушившийся в дальней комнатёнке и тотчас расколовшийся на несколько голосов. Не задерживаясь, Мороз двинулся на звук.
Первым вошедшего заметил сидящий строго напротив входа сухощавый, с обострённым колючим лицом мужчина. За спиной его прямо к стене гвоздями – соткой был приколочен круглый дорожный знак "Въезд запрещён". Чуть ниже висела пояснительная надпись: "Для несогласных с концепцией великого футбольного тренера товарища Лобановского вход через сортир". Журнальное фото самого Лобановского было пришпилено здесь же, рядом с фотографией изможденного пожилого человека, в котором Мороз, едва глянув, узнал Котовцева.
Старший оперуполномоченный Рябоконь был страстным, бескомпромиссным футбольным болельщиком. По слухам, бывалые клиенты в поисках редкой доброй минуты старались подгадать свои визиты под победный график киевского "Динамо".
Рябоконь не улыбнулся – казалось, что соответствующие лицевые мускулы на аскетичном его лице попросту отсутствуют, но всё возможное от увиденного удовольствие изобразил:
– Твою мать! Никак посланец от Тальвинского.
Входя в комнатку и протягивая руку обозачившему встречное движение Рябоконю, Мороз безошибочно повернул голову вправо, где, как он и ожидал, восседал тот самый страшный оперуполномоченный Николай Лисицкий. Именно восседал. Он забросил на стол скрещённые ноги в микропорах – низкорослый Николай с юношества предпочитал толстые подошвы – и, покручиваясь во вращающемся кресле, подтачивал пилкой холёные ногти.
Хотя время было крепко к пятнадцати часам, столы в кабинете сохраняли девственную чистоту.
Ощутив смущение вошедшего, Лисицкий радостно осклабился, отчего загорелое лицо его с аккуратным пшеничным арийским пробором сделалось неотразимо привлекательным, и, сбросив ноги со стола, вскочил:
– Всем родам войск, смирнаа! Зиг коллегам!
При этом вытянулся в наигранном раже, давая возможность остальным оценить ловкую на нём импортную "тройку".
– Так ты, стало быть, теперь подсобляешь моему "земеле" Тальвинскому? Говорят, его вот-вот нашим боссом назначат.
– А что ж ему, век в следопутах сидеть? – решительно вступился Рябоконь. – Это мы, старые ищейки, на другое не годны. Или сдохнешь здесь, иль сопьёшься, иль какой-нибудь Муслин соберёт компру, да и вышибет за чрезмерное рвенье. Слыхали, чего опять этот замполит вшивый отмочил? Говорят, в Ленкомнате политзанятия с агентурой проводить собрался. О, курвы какие лезут! Не милиция, а помойка стала. Кого ни попадя родная советская власть пихает. Но таких духариков не припомню!
Надо сказать, что фамилию Муслина в оперативных и следственных кабинетах Красногвардейского райотдела милиции "полоскали" с особым, мстительным наслаждением. Полгода назад заместитель заведующего отделом горкома партии Валерий Никанорович Муслин, погорев "на личных связях", был направлен на усиление в милицию, как раз на вакантную должность заместителя по политической работе Красногвардейского РОВД. В отличие от прежнего замполита, бывшего председателя районного Комитета народного контроля, который за десять лет службы так и не удосужился заглянуть в Уголовный кодекс, зато слыл тихим, порядочным человеком, новый зам оказался службистом рьяным и, на беду, безудержно инициативным.
Собственно, недобрые опасения овладели отделом еще до его появления: когда стало известно, что, отдыхая в Прибалтике, замполит на собственные деньги приобрел полное собрание сочинений Маркса и Энгельса.
Опасения, увы, сразу стали сбываться.
Работу свою Муслин начал нетрадиционно – со шмона в столах сотрудников. А ещё через два дня под утро отдел был поднят по тревоге. Злые, небритые, с полузакрытыми глазами, в ожидании известия о дерзком побеге, взбирались сотрудники по крутой отдельской лестнице и утыкались в живот торжествующего, с иголочки замполита с секундомером в руке. " Три минуты опоздания! А если бы за это время началась бомбёжка? На Западе вон опять оружием бряцают. Будем тренироваться". Тренировались до изнеможения, по два – три раза в неделю. Самым страшным ругательством в эти дни стало слово "курвиметр"– какая-то неведомая никому загогулина, которую надлежало найти и засунуть в "тревожный" чемоданчик. Поскольку показатели раскрываемости резко упали, вмешался замначальника УВД по оперативной работе, и тренировки, несмотря на сопротивление Муслина, были прекращены. Но и замнач УВД отступился, когда на отдел обрушилась новая инициатива беспокойного Муслина и ужасом предчувствия сковала весь городской гарнизон. А именно: в преддверии праздника Великого Октября задумал замполит сколотить милицейскую "коробку" и в торжественном марше пройти во главе её перед гостевой трибуной на площади Ильича. Дело серьёзное, политическое. И вот уж третью неделю, с трёх до пяти, потея от духоты и злости, молотили каблуками городской асфальт следователи, гаишники, опера из ОБХСС и уголовного розыска. Неявки, объясняемые работой по раскрытию преступления, приравнивались к идеологическому саботажу.
Страдающий плоскостопием следователь Чугунов, отчаявшись, сделал официальный запрос в областной психоневрологический диспансер. Долго в полном отупении вертел он поступивший через секретариат ответ: " Сообщаем, что гр-н Муслин Валерий Никанорович на учёте в диспансере не состоит".
– Представляешь, не состоит, – пожаловался Чугунов подвернувшемуся Рябоконю.– Кого ж там тогда вообще держат?
– Сам ты козёл, – с привычной безапелляционностью отбрил Рябоконь. – Да этот малый хитрожопей нас всех вместе взятых. Давай на "пузырь" побьёмся, что через неделю после парада он будет сидеть в Политуправлении, а мы с тобой, как всегда, в дерьме.
– Ну, с последним-то чего спорить, – уклонился от пари прижимистый Чугунов.
Сам Рябоконь, а за ним и Лисицкий от занятий на плацу увиливали, объясняя причину коротко и неоригинально: "Ухо болит". Но всё явственней и настойчивей становился нажим Муслина, и всё больше вырисовывалась перед последними фрондёрами дилемма: либо натянуть сапоги и встать в общий злорадствующий строй, либо...
При одной мысли об этом "либо" Рябоконь заходился.
– Несчастная всё-таки наша ментовка. За семьдесят лет – ни одного министра с юридическим образованием! Один Федорчук, курва, чего стоил – последние профессионалы при нем сгинули, – и Рябоконь ностальгически глянул на висящую фотографию – в маленьком подразделеньице громогласно поддерживался культ погибшего Котовцева.
– Скоро останутся одни Муслины, – подвел он итог выступления. Неодобрительно присмотрелся к бесстрастному новичку. – Да вот еще желторотики.
– Звонил нам Андрюха, – перебил впавшего в желчь приятеля Лисицкий. – Так что немножко в курсе проблемы. Тем паче сами эти излишки на свою голову и вывернули. Уж кому-кому помочь, а Тальвинскому-то...
– Да! – согласился Рябоконь. – С ним еще сам Котовцев работать любил. Этот, если на след встанет, не сбивался. За то и пострадал в свое время. Но не пофартило вам в этот раз, ребята.








