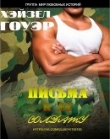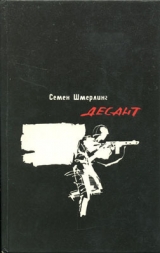
Текст книги "Десант. Повесть о школьном друге"
Автор книги: Семен Шмерлинг
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Зачем? – успела она спросить.
– А билет! – ответил он.
Рина тотчас догадалась. Это он придумал и непременно исполнял: каждый раз, когда отправлялся из Москвы на фронт, то в самый последний день обязательно покупал билет в метро. И во всех боях носил этот билет с собой. «С ним, – говорил, – я всегда чувствую себя москвичом. Вернусь – и, пожалуйста, кати куда хочешь». И когда возвращался, действительно по этому билету ехал домой или к ней, на Большую Полянку. Такой обычай у него был… Да, верно, и не только у него. Все фронтовики очень дорожили всякими памятными предметами, взятыми из дому, родными вещами…
Он прибежал с билетиком в руке и аккуратно уложил его в свою потрепанную записную книжку. Стянул ее ниточкой и спрятал в карман гимнастерки. Леопольд обнял Рину, и они двинулись на перрон, точнее, стали продираться сквозь толпу.
Состав еще не был подан и, отыскав место посвободней, у каких-то закрытых ворот, они стали рядышком и говорили, говорили… Леопольд не давал, не позволял ей грустить. Принялся вспоминать их старых учителей. Подражал солидному басу Николая Николаевича Лебедева: «Дорогие товарищи и товарочки, сегодня я покажу вам мушек, именуемых дрозофилами». «Ту-ту-ту», – гудел, как учитель химии, прозванный «паровозиком» за то, что рисовал формулы в виде железнодорожного состава – из вагончиков: сам-то он в прошлом был паровозным машинистом. Прожигал Октябрину испепеляющим взором, как у строжайшей физички Полины Юльевны, – ну прямо настоящий артист. И даже напомнил забавную историю с математичкой Марией Яковлевной Мирзахановой. Настоящее-то имя у нее, армянки, было – Арусяк, и его многие принимали за мужское. Однажды ее даже вызвали в военкомат на предмет возможного призыва в армию…
Смешил Рину, не умолкал ни на минуту. Потом посерьезнел и сказал:
– Вот ты говорила, что у меня целых четыре причины, чтобы остаться дома? Так?
– Да, могу повторить.
– Все равно ошибешься. Не четыре, а пять.
– Какая же еще?
– А пятая причина, наиглавнейшая – это ты… С тобой я провел сорок самых счастливых дней в жизни.
И точно подсчитал все последние московские деньки, которые они провели вместе.
Когда он все это говорил на перроне, Рина подумала о Мишарине. О его гибели узнала накануне от подруги. Надо было обязательно передать Леопольду, ведь Кирилл был его самый близкий друг, с детских лет. Но она не могла. Глядела на улыбающееся лицо Ляпы, на его сияющие глаза – и не решилась. А ведь он знал об этом, знал еще раньше ее, но тоже промолчал. Уж скольких друзей они потеряли…
Бежали минуты, и вот подали состав. Началась посадка, то есть невыразимая давка у вагонов. Рине хотелось, чтобы Леопольд спокойно сел и хоть как-то устроился, путь предстоял далекий и долгий, и она его заторопила, а он ответил:
– Ладно, не пропадем, вагон резиновый, местечко найду, спать буду до самого Минска.
Еще раз поцеловал Рину, вскочил на ходу и повис на подножке. Он смеялся и махал рукой.
Мама даже не спросила, проводила или нет, поняла все сама. Она ободряла дочь. Говорила:
– Ничего, все будет хорошо, он – сильный, смелый, веселый, все переборет, у него и улыбка такая солнечная.
И Октябрина сразу села писать Леопольду письмо. Высказала то, что не сумела на вокзале: «Люблю, буду ждать. И ждать-то осталось совсем немного. Война вот-вот кончится, и мы снова встретимся».
Каждый день она получала по письму: удивительно работала почта. Последнее пришло с Балтики. Доставили его в мае, в самый День Победы. «Пишу у моря, на песчаном берегу. Песок ярко-желтый, как солнце». И было еще одно письмо, которое переслал его ординарец Тереха со своей страшной запиской…
Глава двенадцатая. Старая кирха
1
«Перед самым штурмом города Кенигсберга в нашей минометной роте выдался настоящий праздник: к нам вернулся гвардии капитан Некрасов», – вспоминает минометчик В. Р. Ковалев.
– Командир минроты прибыл, – доложил комбату Конову его ординарец.
– Некрасов?!
– Так точно. И прямо из Москвы.
– Где же он, почему не вижу?
– У своих он, у минометчиков.
– Что ж, так и надо: сначала к родным славянам, потом к начальству.
Последний раз Некрасова ранили на побережье залива Фришес-Хафф, откуда он в цейсовский бинокль едва различал шпили Кенигсберга. Теперь же батальон стоял неподалеку от южного предместья города-крепости. Дул порывистый сырой ветер. Клочья мутного тумана сползали с огневых позиций, расположенных среди развалин господского двора. Некрасов обходил расчеты.
– Колесов… Жив? Здоров?
– Бояркин…
– Ковалев…
– Воронков…
Все, кого оставлял на побережье, – кряжистый, основательный в делах и суждениях Шабанов, быстрый, общительный Колесов, насмешливый Воронков с неизменным чубчиком, выглядывающим из-под примятой ушанки, остроглазые, как и положено наводчикам, Гусев и Воробьев, – все точно по списочному составу оказались на месте. Раненные в январских и февральских боях, как и наказывал Леопольд, вернулись в роту. Некрасову улыбались, пожимали руки, угощали трофейными сигаретами, расспрашивали о Москве.
Когда доложил о прибытии Конову, тот даже упрекнул:
– Заждался… Ну ладно. Считай, что подразделение принял. Готовься к делу, да будь поосторожней: огонь адский, утром я домишко облюбовал, с верандой – чем не НП? Только высунулся – пули градом, еле уполз. А веранду – в решето. Тут тебе не улица Горького… Ну, меня вызывают наверх.
Через несколько часов комбат вернулся с совещания в штабе дивизии. Там тщательно разбирали боевую обстановку, ставили задачи. Был приготовлен большой макет города, на котором обозначены все линии фашистских укреплений: три оборонительные позиции, железобетонные форты, доты, дзоты с минными полями, бастионы, равелины, старая цитадель, сотни приспособленных к обороне каменных зданий. Немецкий гарнизон насчитывал 130 тысяч солдат и офицеров. До четырех тысяч орудий и минометов.
Собрав ротных и взводных, Конов обстоятельно познакомил их с фашистской обороной. Сказал:
– Нам еще что! Вот левый сосед – батальон Федорова – штурмует форт номер 10. А у нас попроще: противотанковый ров шириной десять метров, надолбы, проволока, да за ними городок Розенау, баррикады, железная дорога, река… В общем, немного…
Спустя тридцать с лишним лет Георгий Прокофьевич Конов побывал в Калининграде и с южной окраины города пешком прошагал до центра – по пути своего батальона. На весенних зеленых улицах с современными зданиями ничто не напоминало ему минувшие бои. Он даже досадовал, что глаза ни за что не могут «зацепиться» и напомнить прошлое, как вдруг увидел старую кирху. Островерхие готические башни, узкие, как бойницы, окна, стены из темного кирпича, будто покрытые побуревшей кровью… Комбат узнал ее – средоточие давнего боя, надежное укрытие для короткого отдыха и нового броска вперед. От нее, как от точки отсчета, он перебрал четыре апрельских дня сорок пятого года:
– Началось шестого. На рассвете. Наступали без авиации – туман помешал. Зато артиллерия, «катюши» били крепко. Ушла артподготовка, я поднял батальон. Старался вести его поближе к нашим разрывам, прижимался к ним, и поначалу это удавалось. Но вот на пути встал противотанковый ров. Роты сползли в него… Вместе с пехотой был и Некрасов. Он и телефонист переправились в числе первых: «Не вижу – не стреляю». А минометы капитан подтянул к южному берегу рва. По глинистым скатам мы спускались в трехметровой глубины провал, окунались в бурую ледяную воду, помогая друг другу, карабкались наверх.
…Ров кишел людьми. Некрасов с неизменным Коротковым задержался недолго. Барахтаясь в грязи, отыскали воронки на краю рва, вылезли на поверхность.
Отчетливо видны были окраины Розенау, и, наладив связь, гвардии капитан положил по ним серию мин. Одноэтажные и двухэтажные кирпичные дома, где засели фашисты, не поддавались минам. Но густые разрывы на улицах не позволяли противнику покинуть укрытий. Вскоре Некрасов обнаружил пулеметную точку и подавил ее. Наши стрелки дрались во дворах и квартирах, подвалах, Леопольд решил подтянуть роту поближе. Вообще в городских боях она шла по пятам пехоты.
Минометчикам пришлось тяжелей, чем стрелкам. Какие уж там подводы, даже навьючивать минометы было не к чему. Опорные плиты, стволы, мины – все боевое имущество они, спустившись в месиво рва, передавали из рук в руки, вытаскивали на свистящий от пуль северный берег. Три расчета заняли временную позицию и вели огонь по Розенау, три других – форсировали преграду…
Пока еще до старой кирхи было далеко. Ее острые главы лишь виднелись в дыму и тумане.
– Еще не давал пехоте ходу длинный, вроде казармы, домина на каменном фундаменте, – вспоминает комбат. – Из него строчили немецкие пулеметы и автоматы, недоступные для стрелков. Вот тогда мне помогли две силы: приданная батарея 76 мм и минрота. Оба командира быстро сговорились. Батарея, стоящая еще за рвом, выскочила на прямую наводку и ударила по этому дому – снаряды проламывали стены, фундамент… А некрасовцы – никогда не забуду – клали мины у самых амбразур, как по заказу, поражая осколками укрывшихся немцев… После такой работы пехота пошла. Вскоре мы заняли кирху, а также соседние домики, скорее, развалины…
…Вот она – кирха, островок в море огня.
Темные, мрачные своды. Темные лики на стенах. Запах застарелой сырости. И – кучками разгоряченные, грязные, мокрые бойцы. Перевязывали раненых. Жевали сухари. Проверяли оружие. Отдыхали. В кирхе, сменяясь, перебывал едва ли не весь батальон. Минометчикам Гусеву, Ковалеву запомнился этот короткий отдых. Запал в память патефон, игравший где-то поблизости. Он прокручивал без конца одну пластинку, томительный немецкий вальс. И Леопольд на каменном полу, склонившийся над полевой сумкой, что-то писал чернильным карандашом. Что именно? Может быть, листовку-молнию. В полковом политдонесении, хранящемся в Подольском военном архиве, есть такие строки: «За четыре дня боев тов. Некрасов выпустил семь листовок-молний, в которых показывал геройские подвиги бойцов, сержантов и офицеров, писал о политическом значении взятия Кенигсберга». Возможно, он отметил в своей листовке меткость и отвагу старшины роты Бояркина, Шабанова, Воронкова, Иванова, Ковалева, Гусева, которые снайперски точно клали мины у самых вражеских амбразур? Не исключено и то, что он сочинял короткие весточки в Москву.
Леопольд беседовал с бойцами. О чем шла речь? О предстоящем бое? О близкой победе? О родных? Наверное. Он часто говорил с ними, как с близкими и дорогими людьми. Возможно, что разговор касался их общей трудной и благородной задачи – выбросить немцев из прусского города. «Командир роты гвардии капитан Некрасов, – сказано в полковом политдонесении, – в период наступательных боев по штурму города Кенигсберга разъяснял бойцам Обращение Военного совета фронта».
Многое успевал гвардии капитан. «Он работал», – как сказал Г. П. Конов.
Впрочем, первый батальон недолго задержался в старой кирхе. Немцы готовили контратаку. Это вскоре заметил комбат. И тяжко задумался.
– На исходе второго дня боев мои роты поредели. В сущности, батальон был не больше роты, каждый автомат на счету. У немцев скопилось сил побольше наших. Как быть? Надо собирать народ – с бору, как говорится, по сосенке. Минометчики были рядом. «Некрасов, – говорю, – давай людей. Сколько можешь». – «Хорошо, – отвечает. – Мы пойдем». Он мог, безусловно, выделить своих, передать пехоте, а сам остаться на НП. Но сказал: «Людей поведу сам».
…У него это не первая пехотная атака – были и под Невелем, в Городке, в Белоруссии, Литве. Набрал он десятка полтора, может, и меньше. У минометов оставил по одному, по два. Взял телефонистов, ездовых, подносчиков, – а оставшиеся все же могли вести огонь из минометов. Я слышал его команду: «За Родину, вперед!»
Броском они достигли ближайшего дома. Стреляли на ходу, гранаты бросали. Ворвались в коридор. Там рукопашная пошла. Тут и приключилась история с телефонистом рядовым Кореневским. Выхватил он гранату, вытащил чеку, а ему навстречу немец. Бросать – куда? Автомат на плече. Секунда – скосит его немец. Но опередил выстрел Некрасова. Фашист – рухнул.
«Уличный бой завершился в подвалах, комнатах, – пишет В. Р. Ковалев. – И все у нас прошло успешно главным образом благодаря гвардии капитану. Некрасов так распределил силы и так внимательно следил за нами, что мы всегда друг друга видели, не отрывались и в случае смертельной опасности могли помочь один другому. А скольким капитан помог сам – выстрелами или гранатой!»
Вскоре некрасовцы без потерь, без тяжелых ран – легкие не считали! – вернулись к своим минометам.
Седьмого и восьмого апреля они вели бои и в Розенау, и в самом Кенигсберге, разрывая, раскалывая южную группировку противника, яростно обороняющего город-крепость.
– Тогда была еще одна памятная схватка, в которой участвовал Некрасов, – рассказывает Г. П. Конов. – О ней даже в «дивизионке» писали.
Действительно, в подшивке красноармейской газеты «За счастье Родины», издаваемой в Городокской дивизии, есть заметка «Поддержка минометчиков», написанная гвардии старшим лейтенантом И. Захаровым. Вот она:
«Командир минометчиков гвардии капитан Некрасов – ветеран нашей части и прославленный офицер.
Во время последнего наступления его минометчики отлично поддержали гвардейскую пехоту, прокладывая ей путь вперед.
За железнодорожной насыпью стрелки встретили сильный ружейно-пулеметный огонь немцев, сидевших в траншеях за населенным пунктом. Их было там до батальона.
Офицер тов. Конов вызвал Некрасова. Огонь его отважных и искусных минометчиков был настолько точным, что почти каждая мина падала в траншею противника.
Осиное гнездо фашистов всполошилось. Немцы начали выскакивать из окопов и побежали назад. В это время расчеты Колесова и других дали по ним беглый огонь. Половина немцев была перебита, пятеро сдались в плен.
Наши пехотинцы продвинулись вперед и продолжали выполнять задачу.
С упорными боями они заняли Розенау. Потом у завода гитлеровцы снова оказали ожесточенное сопротивление и перешли в контратаку.
Отражая натиск немцев, наши бойцы начали испытывать недостаток в патронах: доставка боеприпасов задержалась. Но на помощь стрелкам вовремя пришли минометчики.
Тов. Некрасов быстро подтянул свои расчеты и ураганным огнем помог отбросить немцев на исходные позиции».
Иван Григорьевич Гусев рассказывал, что та поразительная быстрота, с которой были подтянуты все ротные минометы, объяснялась инициативой и лихостью старшины роты Бояркина и ездового Лисовенкова. К тому времени – а это было на исходе 7-го или ранним утром 8 апреля – они с немудреной лошадкой, в избитой осколками подводе перебрались по завалу через противотанковый ров и действовали в Розенау и самом Кенигсберге. В несколько заездов – рысью и галопом – по разбитым в кирпичное крошево улицам перебросили все шесть минометов и сотни мин на новые огневые позиции. Это и позволило некрасовцам дать ураганный огонь, поддержать израсходовавшую боеприпасы нашу пехоту.
Так горсточка минометчиков в составе первого батальона шаг за шагом пробиралась к центру Кенигсберга. Много всякого случалось у них на пути. Хотя и не встречали фортов и каменных стен цитадели – и им досталось немало лиха. Кроме боев, о которых мы рассказали, довелось еще форсировать два широких рукава Прегеля, драться в районе нынешнего мясокомбината и участвовать в штурме железнодорожного вокзала. Так что огромный Кенигсбергский гарнизон во главе с генералом О. Лашем они, вместе с десятками тысяч бойцов, тоже принудили к безоговорочной капитуляции.
2
Кенигсберг пал.
Батальон Конова медленно пробирался от вокзала к центру города. Растаскивали баррикады, завалы, обломки разрушенных стен. Изрытые воронками мостовые и тротуары были усеяны битым кирпичом, стеклом, осколками снарядов, мин и бомб. Не утихали пожары. В черном дыму и копоти виднелись остовы зданий с мертвенными провалами окон. Горящие суда и баржи бросали кровавые отблески на темные воды Прегеля. На берегу огромным скелетом высился мрачный собор с опаленным шпилем. На взгорье громоздились стены старой цитадели в бурых пулевых оспинах.
Шагавшему в колонне Леопольду не довелось увидеть, как капитулировал комендант фашистского гарнизона генерал О. Лаш, зато толпы немецких солдат с бледными, закопченными лицами, опущенными плечами, потухшими глазами, груды «шмайссеров» и пулеметов МГ, брошенные танки и орудия попадались едва ли не на каждой улице. Дивизия взяла в плен свыше девяти тысяч солдат и офицеров.
Городокцы не задержались в Калининграде. 10 апреля их вывели из города. В пешем строю прошли они по местам вчерашних боев, по разбитым кварталам Розенау, совершили два перехода и расположились в лесу, именуемом на картах Штате Форст Фритзен.
Наступила необычная, неслыханная тишина. И Некрасов испытал радость весны и победы. Нежно зеленели раскидистые дубы и клены, ольха и осина, белели родные березы, сияли обновленными иглами сосны. Ни ближайший городок, ни вольготный лесной массив не тронула война.
Заняли немецкий военный лагерь. Землянки, вытянутые по линейке, были глубокими и сухими. Устраивались весело и домовито. Стирали, чинили обмундирование. И что особенно радовало – наладили баньку. Жарко, шумно хлестали пахучими березовыми вениками истомленные тела. Исправно дымили полевые кухни. Устроившись на пеньках и прямо на изумрудной траве, бойцы с наслаждением хлебали горячий наваристый суп. Всем запомнился мед. Неподалеку оказалась брошенная пасека с солидными запасами, и почти каждый солдат отведал давным-давно забытое душистое лакомство.
На видном месте, у поста дневального, было вывешено расписание занятий по боевой и политической подготовке. «Как в мирное время», – говорили красноармейцы, служившие еще действительную.
Имелись некоторые основания полагать, что для Городокской дивизии война закончилась. Под Пиллау немцев добивали другие соединения. А Берлин далеко – пока доберешься, его возьмут. Так оно и случилось: здесь, в лесу Штате Форст Фритзен, 83-я гвардейская встретила мир. Только не вся. Нескольким сотням бойцов еще предстояло броситься в самый яростный бой, а иным и принять смерть.
Не ведал об этом и гвардии капитан. В заштопанном и отутюженном обмундировании, надраенных до блеска сапогах, с трубочкой в зубах он осматривал землянки, боевой парк с вычищенными «самоварами», аккуратно сложенными боеприпасами. Частенько уединялся. Устроившись на траве, «под древом», как он говорил, читал и перечитывал только что пришедшие письма. Их было несколько: наконец-то почта догнала полк.
Когда комбат вернулся с короткого совещания у заместителя командира дивизии гвардии полковника Белого, то застал командира минроты с письмом в руке.
Если в дни боев и походов Леопольд нередко думал о прошлом, о мирном, времени, то в тишине и покое, несомненно, представлял себе близкое будущее.
Кем же он мог стать?
Остаться в армии кадровым офицером? Возможно. Молодому командиру-коммунисту с четырьмя орденами на груди, с огромным военным опытом дорога в академию была открыта. Не исключено, что к нему возвратились и юношеские мечты о «Корабелке», и он вновь представил себя на прибрежных стапелях спускающим на воду новенькое прекрасное судно, на котором отправится в путешествие по морям и океанам. Нельзя сбросить со счетов и предложение школьного друга – поступать в МАИ, Московский авиационный институт, и Некрасова манили воздушные крейсеры, которые он сам будет создавать. И уж, несомненно, впереди маячила Москва – родное Замоскворечье с милыми Полянкой и Якиманкой, Стрелкой. Видел он горячо любимые театры, музеи, библиотеки. Ожидала его самая желанная встреча с Октябриной, Ринкой, встреча, которая начнется после войны и будет, как он писал, «продолжаться всю жизнь».
Не об этом ли он думал, когда его с письмом в руке увидел вернувшийся из штаба дивизии Георгий Прокофьевич Конов?
– У меня только что произошел недолгий разговор с заместителем командира дивизии, – вспоминает комбат. – Полковник Белый был у нас человеком новым.
Показался мне строгим, даже суровым. Заметил у него на гимнастерке орден Красного Знамени старого образца – с гражданской. По слухам, он – бывший кавалерист. Сдержан. Немногословен. Разговаривал не только со мной, но еще с комбатами – Волкодавом и Федоровым, отдельно с каждым. Мне сказал: «Готовится очень серьезная операция – морской десант. Для этого формируется подвижной отряд. В тыл к немцам». Спросил: «Как ты – пойдешь? Учти, решение – добровольное». Не скажу, что оно, это решение, было для меня легким. Думал приблизительно так: «Раз спрашивает – значит, нужен. Кто же, кроме меня?» Ответил: «Пойду». – «Хорошо, – говорит Белый. – Тогда подбирай добровольцев». Возвращаясь в расположение батальона, я подумал, что поочередно вызову каждого офицера и поговорю с ними…
– Товарищ Некрасов, зайдите ко мне в землянку.
– Есть.
Под массивным бревенчатым накатом пахло свежей землей, чуть присохшими травами, молодой хвоей.
– Садитесь.
Некрасов сел и спрятал письмо в нагрудный карман гимнастерки.
– Слушаю вас.
Два чувства боролись в душе Георгия Прокофьевича. Он понимал, что командир минроты навоевался, изранен, две недели, как вернулся после лечения, перенес все кенигсбергские бои, – ему бы не грех и отдохнуть. В полку три минометные роты – выбирай любого из трех командиров. Но он-то хотел взять с собой именно Некрасова. «Не вижу – не стреляю», – такой у него закон. Испытан под огнем. Смел. Находчив. Бойцы его любят. А он любит пехоту. Сработались, как говорится. А минрота – главная огневая сила в десанте…
Комбат повторил слова гвардии полковника Белого и задал его же вопрос:
– Пойдешь?
Некрасов помедлил с ответом. Это отчетливо помнит Конов.
Который уж раз за войну Леопольду приходилось делать выбор. Приказ приказом, но чаще, чем можно предположить, война оставляет и соблазнительное право выбора, дает возможность законно отказаться от самого опасного, от пекла, где, как писал Некрасов, «очень много шансов есть с жизнью расстаться».
Разве он не выбирал? Мог он пойти в армию по призыву, а не добровольцем? Мог, конечно. Вполне возможно было ему, тяжело раненному фронтовику с медалью «За отвагу», остаться преподавателем в военном училище, готовить молодых офицеров? Могло же у него быть не только «сорок самых счастливых дней» в родном городе, вместе с любимой девушкой, а гораздо больше? Судьба играла в поддавки: останься, задержись, быть может, до самого Салюта Победы. Нет. Совесть ему не позволила. Простившись с Риной, уехал на 3-й Белорусский, под самый Кенигсберг.
А сколько еще выборов было на переднем крае! Он каждый раз заново решал свою судьбу, когда полз на «нейтралку», по-чапаевски мчался к немцам в тыл на трофейном бронетранспортере, ходил в пехотные атаки. Все это совершалось по его собственной воле.
Однако выбор, сделанный им в лесу Штате Форст Фритзен, был особого рода. Некрасов уже испытал сладкий вкус победы и мира. А надо было снова идти в огонь. Да еще неизведанный – в морском десанте. Что ж, может быть, все годы боев, а то и вся его жизнь стали подготовкой к этому испытанию, к морскому десанту в последние дни войны. Он напряженно думал, и это понравилось Георгию Прокофьевичу:
– Я пойду, – сказал Некрасов. – Только разрешите – со своей ротой.
– Брать одних добровольцев.
– Ясно.
Вскоре гвардии капитан построил роту и предложил каждому бойцу подумать и решить, согласен ли идти в десант. Он спрашивал Шабанова, Колесова, Киселева, Ковалева, Иванова, Гусева, обошел все номера расчетов, телефонистов и ездовых. Объяснил, что придется не только вести огонь, но драться в рукопашной.
Рота ответила согласием. Для этих двадцати пяти человек, ощутивших мир, война продолжалась, как и для первого батальона и всего отряда численностью в 616 человек. Из минроты Леопольд не взял в десант только одного бойца – своего ординарца Тереху, Терентия Андреевича Короткова, хотя, наверное, очень нуждался в нем. Объяснение этому поступку находится в демографическом списке полка, который хранится в военном архиве: кузбасский шахтер Коротков был женат и имел детей.
19 апреля быстро сформированный легкий подвижной отряд трехбатальонного состава сосредоточился на Балтийском побережье, в поселке Ной Курен, и в течение последующих пяти дней совместно с моряками-катерниками готовился к предстоящей операции.
…Некрасов сидел у самого уреза воды и смотрел на море с его изменчивым цветом – от сурового стального до яркого сине-зеленого, на мягкую, размытую линию горизонта, притягивающую, таинственную.
Ветер и солнце сушили гимнастерку. В день по два раза приходилось отжимать и просушивать обмундирование: с катеров прыгали в море и насквозь промокали, а потом, когда отрабатывали броски на берегу, то вся одежда по другому разу намокала – от пота…
Во время передышки Леопольд читал письмо Рины, последнее, которое довелось получить. Оно дышало любовью и надеждой, ясное, как небо и море. Потом писал ответ – тот самый, который Октябрина получила в мае, о песчаном береге, желтом и ярком, как солнце. В нем была уверенность и ни тени тревоги.
– Подъем!
Сидевшие на берегу минометчики мигом поднялись, навьючили «самовары», разобрали автоматы.
– Вперед!
Топтали они мокрый снег под Невелем и Городком, вязли в болотах Белоруссии, месили грязь в Литве, а тут довелось шагать по морскому дну и зыбучему песку. Что ни день – выгрузка с плоских, низеньких катеров-тральщиков, бросок по горло в соленой холодной воде и долгие учения на берегу. Быстрые окопы, тренировка в стрельбе, перебежки, переползания – только бы прижаться к пехоте, не отстать, поспеть.
Рассчитывая на ближний бой, на встречу с противником лоб в лоб, Некрасов учил вести огонь с наикратчайшей дистанции, учил рукопашной, гранатному бою. Хотя все бойцы прошли эту науку, но повторение – мать учения. Да и кто знает, как там оно будет, на узкой ночной косе Фрише-Нерунг?
Утром 24 апреля десантный отряд передислоцировался в поселок Пальмикен, который ныне называется Янтарным. Здесь Леопольд написал Рине свое последнее письмо, бодрое, веселое, только с одной тревожной строкой: «Если не вернусь, помни, я любил тебя. Будь счастлива». Но письмо это не отправил, а оставил у ординарца Короткова, у Терехи.
Глава тринадцатая. Доты в дюнах
1
Поздними синими сумерками 25 апреля 1945 года у причалов прусского поселка Пальмикен ошвартовался катерный отряд. Тут были и низенькие деревянные тральщики, неустанные охотники за коварными немецкими минами, и быстроходные, юркие торпедные катера, не раз дерзко атаковавшие фашистские корабли. Теперь все они выполняли особое задание, принимали на борт десант.
Неподалеку от берега, ощетинившись крупнокалиберными пулеметами, курсировали бронекатера, отряд прикрытия.
Некрасов стоял перед коротеньким строем минроты, оглядывая бойцов, оружие, снаряжение. Как и у всех десантников, у него за спиной был набитый патронами вещмешок и автомат, на плечах – видавший виды ватник, на голове – пилотка. Многие офицеры батальона надели гидрокостюмы. Но Леопольд отказался:
– Не сахарный, не растаю, – может, при этом он вспомнил Москву-реку и свою Стрелку.
– В моем батальоне, – рассказывает Конов, – насчитывалось около 200 человек. Вооружены мы были автоматами, ручными и станковыми пулеметами. Взяли самое необходимое: сухой паек на двое суток, патронов, ручных гранат – как говорится, по силе возможности, мин – два комплекта. У минометчиков груз оказался самым тяжелым.
Моряки– катерники приглянулись пехотинцам -спокойные, ловкие, шутливые, будто каждый день десанты доставляли: «Довезем – не растрясем».
Пожалуй, тогда не все десантники знали, что среди морских офицеров, обеспечивающих этот поход, было три Героя Советского Союза: командир дивизиона торпедных катеров С. А. Осипов, капитан третьего ранга В. М. Старостин и капитан-лейтенант Свердлов, а командовал ими мастер торпедных ударов капитан первого ранга Кузьмин. Ему и поручено было доставить на косу Фрише-Нерунг Западный отряд пехотинцев, который возглавлял гвардии полковник Белый.
– Спокойно, – приговаривали моряки. – Тихо. Слушаться команд. Не курить.
Началась посадка. Комбат Конов оказался на торпедном катере, в рубке, рядом с флотским лейтенантом. Роты разместились по суденышкам, и в полутьме гвардии майор их едва различал. Минометчики со своими «самоварами», ящиками боеприпасов находились на трех катерах-тральщиках КТ. Вместе с Некрасовым были Воронков, Шабанов, Ковалев, Гусев, еще несколько номеров и пехотинцы.
За низким, присадистым бортом колыхалась тяжелая вода почти так же близко, как на знакомой для Леопольда восьмерке, спортивной лодке. Но та вода была своя, москворецкая, в знакомых гранитных берегах. А эта – чужая, неизвестная, уходящая к невидимому темному горизонту.
Урча моторами, катера один за другим отвалили от причалов, забрали мористее и вытянулись в кильватерную колонну. Как свидетельствует запись в истории 83-й гвардейской Городокской дивизии, Западный отряд отошел от Пальмикена в 23 часа 15 минут.
Море было тихое, едва зыбило. Ничто не напоминало пехотных боев с грохотом, свистом пуль, облаками дыма. Прохладный, влажный ветер обвевал лица и был приятен. Но щемящая тревога не покидала пехотинцев и минометчиков. Тишина, бескрайнее море сулили всякие пугающие неожиданности. Полная луна освещала морскую гладь холодным и предательским светом.
Исчез, будто потонул, берег. Бойцы притихли. Даже быстрый на язык Воронков помалкивал. Его чубчик уныло упал на лоб. На земле-матушке каждый кустик примет, бугорок укроет, ямка-воронка спасет. Там можно и побороться за свою судьбу, бешено работая лопатой, отрыть окоп, а тут что поделаешь? Ну как завяжется морской бой, а эта деревянная скорлупка перекинется от первого разрыва, а ты окажешься в посеребренных луной темных водах? Окунешься – и поминай как звали. Пучина. Где он, берег-то?
«Сухопутные солдаты, провоевавшие не один год, – понимал Некрасов, – робеют в этой таинственной морской стихии». И как частенько бывало на привалах, в перерывах меж боями, принялся тихонько наговаривать им свое любимое – про дом, про Москву, смешное из юности. Как однажды поплыл по Москве-реке на спортивной лодке-одиночке и перевернулся у самого Крымского моста. Едва выплыл на поверхность, как налетел осводовский катер и с него швырнули спасательный круг. Да так его этим кругом долбануло по голове – чуть ко дну не пошел…
Ребята заулыбались.
Из рубки высунулся катерник:
– Пехота, держись бодрее. Глядите – при высадке не задерживаться, а не то, – пригрозил, – сбросим!