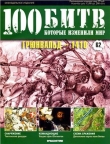Текст книги "Вечный Грюнвальд (ЛП)"
Автор книги: Щепан Твардох
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– Как прикажете, коллега штурмкеровник, – браво отвечаю я, чего Тржебиньский терпеть не может, и подхожу к телефону.
– Коллега пржодовник, определи с ними, когда нам ожидать визита, и объясни им, как сюда доехать.
– Как прикажете, коллега штурмкеровник, – отвечаю я и поясняю, что дорога, если это можно назвать дорогой, дорога через Лечури относительно безопасна, если речь идет о наличии партизан, так что ехать можно с минимальным эскортом, но обязательно следует ехать на вездеходе, но и тот может не справиться, also, лучше всего взять Sd.Kfz[41]41
Зондер Крафтфарцойг (нем. Sonderkraftfahrzeug, аббревиатура Sd.Kfz.) – в переводе на русский «автомобиль специального назначения». Специальная номенклатура сформированная Управлением вооружений Третьего рейха и распространявшаяся на все виды подвижной военной техники: (мотоциклы, автомобили, тягачи, танки, самоходные артиллерийские установки, ЗСУ и т. п.). По этой номенклатуре индекс состоял из собственно аббревиатуры Sd.Kfz. и порядкового номера, записанного арабскими цифрами. Пример такого обозначения: Sd.Kfz.101 – лёгкий танк Pz.Kpfw I (T-I). – Из Википедии
[Закрыть]; штурмбанфюрер СС Хвольке из Ахметы располагает легкой двухсотпятидесяткой, которую он охотно сдает в аренду вместе с обслугой, если дать ему какую-нибудь взятку; а на перевале Абано наверняка будет снег, а что вы хотите, это же три тысячи метров над уровнем моря, так что лучше иметь что-нибудь на гусеницах. И еще пригодится ручной пулемет, потому что не большевики, а вот обычные бандиты случиться могут. Хотя вот уже два месяца никаких инцедентов не было, нет, прошу не беспокоиться. Тржебиньский поддакивает у меня из-за спины, довольный моим переводом. Я откладываю трубку и докладываю:
– Они приедут, коллега штурмкеровник.
И возвращаюсь к заталкиванию патронов в очередные обоймы, которые перед тем тщательно опорожнял, чтобы вытряхнуть оттуда гипотетический песок и вообще очистить – задание, которое я сам себе выписал, чтобы хоть как-то убить время, которое в компании младшего штурмового керовника Тржебиньского текло чрезвычайно неспешно, поскольку младший штурмовой керовник Тржебиньский не был особенно заинтересован ни разговорами со мной, ни назначением различных заполняющих распорядок дня заданий. А ведь известно, что армия не имеет права скучать. Но сам штурмовой керовник Тржебиньский целые дни проводил с книжкой. Он попеременно читал "Тристрама Шенди" и "Библию".
Когда я уже заполнил все обоймы, начинаю укладывать их ровненькими четверками рядом с обложенным мешками с песком пулеметом, чтобы боеприпасы были под рукой при совершенно невероятной необходимости применения того же самого пулемета. Про себя вспоминаю свое любимое чтение, мою собственную библию в те времена, что существовали до того, как меня разжаловали и выгнали из армии, вроде как за растрату, а в действительности, понятное дело – за то, что у меня имелась мать-немка, и что старший ротный сержант слышал, как я с нею разговариваю по телефону на беглом немецком, и посчитал меня шпионом, правда, обвинение это было быстро снято, но осадок остался, да и ложечки, в конце концов, нашлись. Так что, так или иначе, укладывая заряженные обоймы к чешскому ручному пулемету, я вспоминаю семьдесят девятую статью части второй Устава Пехоты, утвержденного в тысяча девятьсот тридцать четвертом году военным вицеминистром, дивизионным генералом Казимиром Фабрицием. И я тихонечко, себе под нос цитирую:
– Скрупулезное распоряжение боеприпасами и их экономия должны стать привычкой всякого стрелка. Амбицией всякого стрелка при ведении огня одиночными выстрелами должно стать, чтобы после каждого боя он мог сказать, в какую цель перед каждым выстрелом целился. Когда же бой продолжается дольше запланированного, а запас боеприпасов мал, их экономию необходимо продвинуть до скупости.
Тржебиньский не обращает на меня внимания. Меня он рассматривает как противного, но безвредного идиота, и наверняка считает собственной добродетелью, что не обращает на меня внимания, вместо того, чтобы меня преследовать. Ему даже не известно, что во всей дивизии нет никого, кто знал бы устав пехоты лучше меня. Его громадные фрагменты я выучил на память и могу цитировать вслух.
Но сейчас это и так не имеет никакого значения, потому что теперь у нас, естественно, действуют немецкие уставы. Которые я тоже учу на память, перевод вместе с оригиналом, и, как звучит инструкция: в случае каких-либо несоответствий обязательной является немецкая версия. Но пока что такой беглости, которой достиг в случае полького устава, я не достиг. Гляжу на Тржебиньского: понятное дело, он читает.
– Коллега штурмкеровник, прошу разрешения покинуть пост.
Тржебиньский пожимает плечами:
– Идите, Шильке, идите, вы же тут все разложили, – обращается он ко мне не по уставу на "вы", что в нашем полку принципиально никто не терпит, ибо, как гласит инструкция, чтобы подпитывать дух равенства и дружества, все военнослужащие полка "Венедия" в обязательном порядке должны обращаться друг к другу "коллега", вне зависимости от чина, даже к бригадиру или керовнику дивизии, то есть, если бы это была нормальная армия, даже к генералам. При этом стрелки и унтер-офицеры обращаются к офицерам, прибавляя к "коллеге" сокращенное наименование его чина.
А я неуставного поведения не могу терпеть даже у офицеров.
– Благодарю, коллега штурмкеровник. Прошу разрешения обратить внимание.
– Пиздуй уже, Шильке, и немедленно, – шипит Тржебиньский, не отрывая глаз от книги.
Он сделался циничным. И вульгарным. Когда-то, когда я только с ним познакомился, ему никогда не случалось ругаться. Я ничего не могу сделать, так что выхожу, но это запоминаю. И запомню.
В Омало нет местного населения, их принудительно эвакуировали в долины, при этом было немного пальбы, и местные горцы перестали нас любить, хотя раньше приветствовали нас как освободителей и в нашу честь приготовили отрубленные башки трех местных коммунистов, теперь же, пока что, единственными обитателями горного села стали солдаты, тридцать стрелков и унтер-офицеров плюс четыре скучающих офицера "Венедии". Еще имеется немецкий связной офицер, гауптштурмфюрер СС Клозе, который не трезвеет из принципа, потому что брат в письмах докладывает ему, что жена гауптштурмфюрера Клозе обладает горячим темпераментом и идет в койку с кем ни попадя, не исключая иностранных принудительных рабочих с, как минимум, подозрительной кровью. И немочь убивает гауптштурмфюрера СС Клозе, потому он пьет и обещает себе, что в первом же отпуске придушит курву без малейших колебаний. По ночам он часто выскакивает из своего дома, полуголый, выкрикивает оскорбления и стреляет в воздух, пьяный бессильной ревностью рогоносца, как минимум, столь же сильно, как и водкой, а потом плачет и вопит в ночь: я же люблю тебя, курва ты чертовая, люблю. И плачет, пока кто-нибудь не сжалится над ним и не отведет в дом.
Кроме солдат и офицеров в Омало была стая ужасных, одичавших псов, худых словно привидения и агрессивных будто большевики. Недавно они покусали стрелка Шиманского, да так, что его пришлось эвакуировать вниз, и вообще, с ним было масса хлопот, потому что кюбельваген[42]42
Volkswagen Typ 82 (Kübelwagen) – германский автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с 1939 по 1945 год.
[Закрыть] не проехал, ему пришлось отступить с перевала, и нужно было просить у штурмбаннфюрера СС Хвольке выделить Sd.Kfz, а без взятки он выделять не хотел, и Тржебиньский обругал его сукиным сыном, что штурмбаннфюрер СС Хвольке, родом из Силезии, к сожалению, понял, и разгорелся ужасный скандал, который, в конце концов, удалось погасить с помощью пяти ящиков грузинского вина, которое Хвольке, следует признать ему должное, пустил на весьма достойный прием для всех офицеров в округе, даже из Вермахта парочка прибыла, но пили немного, только сидели и презирали один другого, что мне известно, потому что лично слышал, как Хвольке разговаривал с нашим связным.
Так вот, в связи с собаками, выходя из убежища, я вытаскиваю пистолет из кобуры и прячу его только возле убежища, в котором проживают старший стрелок Марчак и штурмовик Мачеевский, два варшавских бандита, сбежавших в полк от тюрьмы, то есть, в чем-то беглецы, как и я сам. Меня они не любят, но, как обычно, в кармане у меня имеется плоская бутылка с водкой, которой я охотно угощаю, так что когда они видят меня через бойницу в убежище, сразу же приглашают вовнутрь, и я захожу.
Они играют в карты, пьют мою водку, сам я пью мало, угощают консервами, под конец они совсем привыкают к тому, что я сижу себе в уголке, молчу и сочувственно улыбаюсь. И тут они расслабляются и говорят уже свободнее, я же слушаю, слушаю, слушаю.
И потом иду дальше, и разговариваю с караульными, они мне рассказывают, что видели медведя, и уже под конец, уставший от прогулки, я возвращаюсь в наше убежище, где в это время штурмкеровник Тржебиньский сидит на лавочке, которую собственноручно сделал из доски, прикрученной шурупами к двум пустым ящикам от боеприпасов, also сидит и рисует в своем блокнотике.
Отдаю салют и захожу в убежище, после чего иду спать, потому что завтра, в связи с визитом, наверняка мне предстоит занятый трудами день.
И день, вправду, был весь занят трудами. Приезжает капитан, нормально – вермахта, только и того хорошего, что обычный солдат, вроде как знаменитый писатель, служит в Париже, как делаю я вывод из услышанной неделю назад беседы штурмкеровника Тржебиньского со старшим штурмкеровником Жабиньским. Только для меня никакой писатель знаменитым не является. Знамениты Гитлер, Сталин, Рыдз-Смиглый или Муссолини, а не какой-то там писатель.
Во всяком случае, капитан приезжает со своим ординарцем, ефрейтором, и водителем полугусеничной машины, а еще со стрелком, взятым на время вместе с Sd.kfz у штурмбаннфюрера СС Хвольке, оба они из нашей дивизии, то есть, водила – датчанин из полка "Нордланд", а стрелок наш, в полевой мягкой конфедератке цвета фельдграу и с красно-белой эрмельштрайфой (здесь: нарукавный знак (нем.)) на левом плече.
В общем, капитан выходит из машины, худощавый, узкий в талии, в безупречном мундире, как будто бы сейчас выходит на прогулку по парижской улице, с голубым крестиком под шеей, то есть, не хрен с бугра, холера, приветствует меня салютом, я же отвечаю ему нашим салютом двумя пальцами, прилагаемыми к полевой конфедератке, а он не без изумления присматривается к моему салюту, похоже, солдат полка "Венедия" отдает ему салют впервые.
Тржебиньский выскакивает из убежища, застегивая серый парадный мундир, а на голове полевая конфедератка, к тому же криво надета на голову. Это же надо: полевой головной убор к парадному мундиру! Если бы это была настоящая армия, подобные вещи не имели бы права происходить.
Друг друга салютом не приветствуют, просто подают руки, писака хренов с хреновым писакой, капитан вермахта с штурмкеровником Венедии, немец с поляком. И ведут себя так, словно бы были старыми друзьями, хотя, я же знаю, видят один другого в первый раз, а немецкий офицер, так на глаз, старше Тржебиньского лет на двадцать. В свою очередь, странно: капитан после сорока, это значит, резервист, ведь профессиональный военный в этом возрасте, да еще и во время войны, давно должен быть полковником. Но этот здесь не похож на переодетого в мундир гражданского, а именно так, чаще всего, выглядит вырванный с какой-нибудь теплой должности офицер резерва, а этот худой офицер похож, все-таки, на солдата. Да еще и этот Blauer Max на шее. Странно. Впрочем, подобралась парочка: Тржебиньский тоже должен уже быть старшим штурмкеровником, потому что служил в полку с самого начала, был еще во Франции и носит на кителе ленточку Железного Креста и орденский знак Виртути Милитари.
В убежище идут вместе: капитан зовет своего ординарца, и тот приносит из машины ящик, заполненный бутылками с вином: французское, красное. Капитан великодушно вручает нам две, чтобы мы выпили с обслугой вездехода и ординарцем; пробую, дрянное вино, терпкое, так что я не пью, водитель же со стрелком и ординарец рожи не строят. Я заглядываю в убежище, тактично спрашиваю, не заварить ли кофе: Тржебиньский не отрывает взгляда от немецкого капитана, пялится в него как на икону. Постыдно!
И разговаривают, в основном, по-французски, немного по-немецки, но Тржебиньский стыдится обращаться к своему гостю по-немецки, потому что речь он калечит, так что разговаривают они, в основном, по-французски, и эта французская речь странно звучит здесь, в Омало, в грузинском горном селе, в котором стоят польские солдаты полка "Венедия". Только им, похоже, это не мешает. И вдобавок Тржебиньский думает, что я не знаю французский язык, потому что ну откуда мне знать французский – мне, идиоту, павиану, тупому солдафону, довоенному профессиональному унтеру, который учит уставы на память. Не знает того Тржебиньский, равно как не знает и того, кто мой отец, и что я даже в гимназию ходил. Так что говорят они свободно.
Разговаривают они о двух книжках – о "Князе пехоты", написанном давно уже этим немцем, и которого Тржебиньский читал в довоенном переводе, я – естественно – не читал, и про вторую, под названием "По следам Лермонтова", которую мой командир писал по ночам несколько месяцев назад, когда днем мы сражались за Грозный, и в Аргунском ущелье, что тогда мне казалось отвратительным и не соответствующим уставу, поскольку офицер обязан быть отдохнувшим, чтобы иметь возможность командовать своими солдатами, а не писать дурацкие книжки о каком-то русском писателе, писатель пишет о писателе, на кой ляд им еще кто-то другой. Писатель пишет про писателя, и, наверное, другие писатели еще и обязаны все это читать. Я этой книжки, естественно, тоже не читал, а на кой это мне. И кто-то ведь Тржебиньскому должен был переводить ее на немецкий язык, а он сам должен был отсылать это потом на парижский адрес присутствующего здесь немецкого офицера.
И они пьют это их красное вино, и я вижу, что немец держится, а Тржебиньский все сильнее пьянеет.
И тогда он говорит нечто такое, указывая на меня – что забавно вот, что сидят они здесь как поляк с немцем, неожиданно объединенные вопреки случившемуся в истории, вопреки памяти о силезских и великопольских восстаниях, вопреки всему злу, которое немцы, пруссаки в особенности, причинили полякам: Бисмарк, Хаката[43]43
Хаката (Hakata) – обиходное название немецкой националистической организации Deutscher Ostmarkenverein (Немецкий Союз Восточной Марки), основанной в Познани 3 ноября 1894 года. Название взялось от первых букв фамилий основателей: Фердинанда фон Хансеманна, Генрихе Кеннеманна и Генриха фон Тидеманна: весьма часто в польской литературе организация называется Н-К-Т, Н.К.Т. или же Хаката. В 1896 Хаката перенесла свою штаб-квартиру в Берлин. Основной, хотя прямо и не акцентированной целью организации была полная германизация польских земель, находящихся в прусском захвате. Идейным посланием Хакаты был девиз: «Вы стоите против наиболее страшного, наиболее фанатичного врага для немецкого существования, немецкой чести и немецкой репутации во всем свете: перед поляками». – Из польской Википедии
[Закрыть] и так далее. И что, все-таки, здорово, что в перед лицом большевизма и Европы, Польша с Германией обязаны встать вместе; никогда я не слышал, чтобы Тржебиньский в трезвом уме говорил такие вот вещи, а теперь говорит.
И потом, уже несколько заплетающимся языком, вдруг говорит, что этот вот здесь стрелок, по фамилии Шильке, этого исторического союза является наилучшим примером или прямо живой аллегорией: ведь он наполовину-поляк и наполовину-немец, ранее сержант в польской армии, а теперь пржодовник, то есть унтершарфюрер СС, в немецком мундире и в польской конфедератке, но цвета фельдграу, и сражается здесь, как будто бы эти два народа слились в нем воедино.
Капитан кивает головой, они смеются, продолжают выпивать, и немец теперь тоже пьян.
Обо мне говорят, словно бы я был каким-то экспонатом в клетке из зоопарка.
И чувствую я, как это ко мне возвращается. Подчеркиваю: возвращается. И это в данном историческом сюжете, в котором тот извечный антагонизм, как мне казалось, был преодолен, потому что сражаются, плечом к плечу, польские уланы и немецкие гренадеры против советских бойцов и интернациональных добровольцев, в этой ветке истории, подчеркиваю, где мне казалось, что моя немецко-польская кровь не станет тянуть меня ко дну, не станет пригибать шею к земле.
Но я же слышу этот особенный тон в голосе Тржебиньского. Так говорят про метисов. Они – поляк с немцем, немец с поляком, два чистокровных писателя, кровей различных, но чистых, они могут беседовать один с другим в согласии, двое офицеров, двое писателей, один молодой, другой старый, но они равны друг другу, они – одно и то же.
Я же, метис, я – никто, людской навоз, я падаль, я человек-никто, ибо всю жизнь я мог бы ничего не делать, а только возносить алтари Гитлеру или Рыдзу-Смиглему, но все равно, до конца я не буду надежным, со мной до конца никогда не будет в порядке, потому что всегда я буду метисом, мишлингом. И обо мне можно сказать таким образом, словно бы я был вещью – что я являюсь наилучшей аллегорией. Проклятый Тржебинський, он словно бы о собаке говорил.
Только по себе я ничего не даю понять, ничего. А они уже не беспокоятся моим присутствием, уже слишком много выпили, разговаривают об искусстве, звучат фамилии, которые мне ничего не говорят, и звания, которые, скорее всего, ничего не говорят, только все их я тщательно записываю – выхожу во двор, вроде бы как перекурить или по нужде, и все записываю, подвесив фонарик на пуговицу кителя.
А потом они начинают говорить о политике, и вот тут уши у меня не закрываются, вот тут оно все и начинается: немец плохо отзывается о каком-то Книеболо, но тут до меня доходит: так он называет Гитлера[44]44
Kniebolo – "Говорят, что (Эрнст) Юнгер в своих французских дневниках описывал Гитлера под этим кодовым именем, являющимся соединением слов «knien» (стоять на коленях) и «Diablo» (http://www.ernst-juenger.org/2012/04/ernst-jungers-on-marble-cliffs-as.html)
[Закрыть]! А потом Тржебиньский, пьяный: ругает нашего Вождя, ругает Рыдза-Смиглего, все время он говорит, что тот павиан, дурак, идиот, используя те же эпитеты, которыми награждает меня, also говорит, что дурак, потому что только дурак послал бы тогда солдат в Норвегию; а немецкий капитан, к моему изумлению, полностью с Тржебиньским соглашается, мол, и вправду, дурак. А потом Тржебинький оскорбляет Вождя, называет его сволочью, Дызмой, что, насколько я понимаю, снова является отсылкой к какому-то роману[45]45
«Карьера Никодима Дызмы», сатирический роман Тадеуша Доленги-Мостовича (1932). Образ мошенника Дызмы, как «спасителя отечества» продолжает появляться в польской современной сатирико-политико-фантастической литературе (Леслав Фурмага «Крах Никодима Дызмы» (2012), Марчин Вольский «Президент фон Дызма» (2014) и др.).
[Закрыть], а еще русско-чешской гнидой – то есть снова, будто бы не поляк, будто бы не настоящий.
И это уже переполняет чару горечи. Больше мне уже заметок не надо. Я иду спать, а господа писатели пьют и болтают до утра.
Утром же с помощью двух стаканов подсолнечного масла я вызываю у себя ужаснейший понос и рвоту, а находящийся в состоянии страшного похмелья Тржебиньский приказывает мне доложиться старшему штурмкеровнику, командующему всем нашим плацдармом, и, в соответствии с предположениями, меня отсылают вниз. Мне только необходимо будет подождать, когда гостящий у нас капитан пожелает уехать назад, семьдесят километров до Пшавели.
Немецкий капитан и Тржебиньский, оба в состоянии похмелья, совместно завтракают и разговаривают, как мне кажется, уже серьезней. Похоже, с похмелья всегда люди говорят о серьезных вещах. Тржебиньский рассказывает капитану о польской империи, которая может возникнуть, если поэты укажут путь, если поляки откроют в себе волю, чтобы эту империю построить. Немец же говорит Тржебиньскому, что видит в нем самого себя двадцатилетней давности, видит молоденького лейтенанта Sturmtruppen, ведущего свою роту в атаку. А Тржебиньский выдает в ответ, что молодость не означает глупости, если тот это хотел сказать. Но немец успокаивает его: мол, нет, а потом Тржебиньский прибавляет, что никаких рот в атаку не водит, а только уже три месяца торчит в этом абсурдном селе в одной землянке с этим павианом Шильке, потому что штаб запретил квартировать по домам горцев, так что он торчит в землянке и пробует читать, и ему кажется, что вот-вот он сойдет с ума, и страшная тоска по женщинам, по городам, даже по войне, и по Варшаве.
По войне тоскует. И по Варшаве. Сукин сын. Как же я их всех ненавижу. Таких как они. Штурмовики всегда в контре с обычной инфантерией они, а еще пилоты истребителей, антиномия обычного пехотинца, тонущего в окопной грязи, того, кто больше чем врага ненавидит собственного командира, который из своего бункера посылает его на поля смерти, и своего короля или же императора или же президента, которые начали эту чудовищную войну, а сам он хотел бы только одного: вернуться домой, к столу с едой, к теплой кровати, к жене и детям. А штурмовики в совершенно других мундирах, в покрытых камуфляжем шлемах, с другим оружием, в панцерах, с гранатами в больших мешках под мышками, с боеприпасами в патронташах, обвешенные пистолетами, ножницами для резки колючей проволоки, с заостренными саперными лопатками; штурмовики, которые вовсе не желают выжить, а только хотят драться; штурмовики, которые для такого как я солдата и мне подобным страшнее врага, поскольку именно они нарушают неформальные перемирия, это они делают наших жен вдовами…
А потом они усилят ряды фрайкорпусов и Стального Шлема, и мы из окон будем глядеть, как они на улицах дерутся с коммунистами, мы будем глядеть, прячась за занавесками, а они будут думать о нас с презрением.
И Тржебиньский точно такой же, как он, как весь первый набор" Венедии", когда необходимо было тайком пробираться в Берлин, потому что паспортов фалангистам давать не хотели, так что шли туда только лишь самоотверженные, а потом все собрались во Франции.
А Тржебиньский спрашивает у немецкого капитана, чем тот занимался все время после войны, и немец рассказывает про учебу на биологическом факультете, Тржебиньский же рассказывает ему с некоторой отстраненностью про дружбу Гитлера и Пясецкого[46]46
Скорее всего (в реальной истории), имеется в виду Болеслав Пясецкий (1915–1979), польский идеолог Национально-Радикального Движения, известного еще как Национально-Радикальный Лагерь Фаланга, радикальной фракции в националистическом движении, впервые проявившем себя в 1935 году. Открыто воспринимая идеи итальянского и германского фашизма, НРД несет ответственность за террористические атаки на евреев и левых активистов. После 1945 года стал лидером прокоммунистической католической ассоциации «Рах»….(«Мировой фашизм: Историческая Энциклопедия. Том 1, редакторы Cyprian Blamires, Paul Jackson, ABC–CLIO 2006»).
[Закрыть]. И снова начинает плохо говорить о Пясецком, что это, мол, такой тип, что с любым бы договорился, и если бы, к примеру, так было бы выгодно, он и с большевиками бы договорился.
А потом мы едем, и меня забирают в Sd.kfz, и вновь я преодолеваю ту адскую дорогу до Пшавели, которая и многих здоровых доводит до блевоты. К счастью, водитель машины знает ее прекрасно, к счастью, потому что в одном месте внизу все еще можно видеть "кеттенкрад", гусеничный мотоцикл, который упал вместе с двумя молодыми из-под Ржешова, и они до сих пор там лежат, потому что не нашлось никого, кто побеспокоился бы спуститься вниз по склону за кеттенкрадом или, хотя бы, за трупами.
Короче, едем мы вниз, стуча о пластины кожуха, капитан пялится на горы, а я на капитана, лично меня пейзажи ну никак не интересуют. Ненавижу немцев, по-настоящему ненавижу немцев. Ненавижу все немецкое, ненавижу romantische lieder, которые наш verbindungoffizier (связной офицер – нем.) Клозе постоянно заводит на проигрывателе, потому что именно такой аккомпанемент необходим ему для отчаяния, ненавижу и прусский способ жизни, ненавижу Гёте и Канта, ненавижу Гитлера, Allgemeine-SS, Waffen-SS, Luftwaffe, Heer и Kriegsmarine, ненавижу нацистов и терпеть не могу Томаса Манна, который ненавидит нацистов, ненавижу баварские пейзажи и терпеть не могу замки крестоносцев в Пруссии, говоря проще: ненавижу немцев.
А потом гляжу на стрелка, который вместо того, чтобы спокойно сидеть внутри, стоит у машингевера, прижимая приклад к плечу, а пулемет крутится, и в результате подскакивающая на ухабах машина подкидывает стрелка, а молчащий ствол пулемета выписывает абсурдные кривули по небу и горным склонам.
Короче, гляжу я на этого идиота, который держится за пулемет, и на его бело-красную эмблему на левом рукаве, и думаю о том, насколько же я ненавижу поляков: ненавижу Мицкевича, который даже хуже, чем Гёте, потому что никому, кроме поляков, не нужен; ненавижу Королевский замок в Варшаве, который я с удовольствием бы взорвал нахрен вместе со всей долбаной Варшавой, и лучше всего – вместе с Вавелем; ненавижу польские восстания, Словацкого, пилсудчиков, ненавижу эндеков вместе с пэпээсовцами, народников, прогрессистов, польских евреев, поэтов из Скамандра[47]47
Польская группировка авангардистских поэтов; основана в 1918 г. Юлианом Тувимом, Антонием Слонимским, Ярославом Ивашкевичем и др. Действовала до конца 1930-х годов.
[Закрыть] и косиненов; еще ненавижу Шопена и плакучие ивы, и те пугающие, покрытые плесенью туч равнины, где каждый куст искушает человека: ну привяжи ко мне петельку, буду удерживать тебя мягко и ласково.
И ненавижу я одних и других за то, что вырос среди них, словно сорняк между рожью и пшеницей.
В конце концов, мы спускаемся вниз, на самый низ, в Ахмету, и я говорю, что до лазарета доберусь и сам, они только пожимают плечами, какое им до меня дело, кому я нужен: мишлинг, плевел, людской отброс – какое дело рыцарям до такого.
Ну и ладно, сволочи, вам на меня наплевать, только я вовсе не иду в лазарет, а иду я в GFP, то есть в Geheime Feldpolizei (полевая секретная полиция – нем.). Я иду, чтобы подать рапорт.
Я прекрасно знаю, куда мне идти, хотя мало кто знает, кто из непримечательных военных чиновников чем занимается, я же прекрасно знаю, где находится контора капитана GFP. Там я бывал уже неоднократно.
Так что бывал я у гауптмана Дуллика, тихого и серенького в своем скромном мундире без знаков отличия, а он меня принимает сразу же, усаживает на стул перед своим столом, угощает шнапсом и сигаретой, после чего собственноручно записывает мое объемное сообщение, а я сообщаю все, что происходило. Ничего не прикрашиваю, но и не умалчиваю, устав есть устав..
Потом мне делается нехорошо, но я еще нахожу силы подписать свои признания и отправляюсь в лазарет. И никто меня не подозревает в попытке вредительства самого себе: в конце концов, здесь мы чуть ли не на каникулах, большевики далеко, их отпихнули за Волгу, за Астрахань, здесь мы чуть ли не на горном курорте, так кто бы мог устраивать себе членовредительство? Ну да, это вам не Сочи и не Батуми, где имеются море и жара, но во многих местах ведь по-настоящему хуже, ведь можно попасть на фронт или в службу борьбы с партизанами, что еще хуже. Так что мне попросту диагностируют пищевое отравление, и через пару дней, поправившийся, я возвращаюсь в Омало с машиной, доставляющей продовольствие.
И когда я приезжаю, Тржебиньского в Омало уже нет. Варшавские бандюганы рассказывают мне, что его замела жандармерия, и что его, вроде как, разжаловали, и что отправили в штрафной батальон, прямо на фронт, и теперь наверняка разминирует поля в Казахстане или где там наши гоняют сейчас большевиков, наши, значит польские или немецкие, а может и финские, венгерские или румынские бравые солдатики.
А потом ночью я стою на посту и не слышу выстрела, потому что пуля летит быстрее звука, и я не знаю о том, что специально взяли русскую мосинку, чтобы пуля у меня во лбу была русская, и не знаю, что следствие взял в свои руки капитан Дуллик, и что Марчак с Мачеевским попали в штрафной батальон вслед за Тржебиньским, которого они встретили там же, мрачного, в мундире с сорванными знаками отличия, только лишь с ромбом на рукаве, а очень скоро его на клочки разорвала противотанковая мина, на такие мелкие клочки, что даже нечего было хоронить, и Мачеевский с Марчаком положили в могилу только жетон и какие-то лохмотья, а в "Искусстве и Народе", том самом журнале, который Тржебиньский основывал, уже другие редакторы написали, что погиб он за Польшу, солдат-поэт, отдающий свою юную жизнь на алтарь борьбы с международным большевизмом, и ни словечка про штрафной батальон не написали, потому что боялись. А сам он совсем даже и не за Польшу погиб, а в наказание – только вот что я, идиот и павиан, могу обо всем этом знать.
Точно так же, я сам как умер: как поляк или как немец, за Польшу или за Германию, или же попросту – вырвали меня, как вырывают сорняки с пшеничного поля, чтобы не рос среди колосьев?
Что-то меня на все это осудило, что-то меня странным образом подтолкнуло к этому – на извечное умирание, погруженное в народах, в чем-то, чего не знал я, в-миру-пребывая.
И думаю все время – теперь, что был то момент, когда встал я на поле истинного Грюнвальда и решил убить всех, с обеих сторон. То есть сам конец моего истинного в-миру-пребывания.
Убил я тогда двадцать и восьмерых: двух орденских рыцарей, одного рыцаря из Силезии, опоясанного, что сражался на стороне Ордена, но когда есмь отрубил ему правое плечо, матушку он звал совсем по-польски; и еще одного рыцаря из велюнской хоругви; потом француза, который не плакал, потому что я распанахал ему голову; затем шестерых польских рыцарей, одного чеха, в отношении которого нет у меня уверенности, на какой стороне он сражался, ибо и в извечном умирании никогда я у него про это не спросил; затем семерых крестоносных кнехтов, из которых трое разговаривало по-прусски, один по-немецки, а еще трое – по-поморски, в том числе и кнехт Рыбка, то есть последний; и еще семерых литвинов, из которых большинство призывало Господа Бога по-русски, один же призывал по-жмудински Перкунаса. Ну а потом меня убили, и свалился я в темень, и умирал с радостной надеждой, что спадаю в предвечную тьму, в извечное и всеохвативающее ничего-нет, никогда-не-бытие.
А потом суть проснулись мы, нагие, перепуганны и печальные, ибо, когда разбудили нас, все уже мы суть ведали и суть понимали, мы, все Пашки, что имелись суть и которые могли быть суть, слитые в Пашка единого, во ВсеПашка, извечно умирающего в миллионах извечных смертей в миллионах ветках Истории – иллюзии, в том костре пастишей и пародий на истинные в-миру-пребывания.
И потом я так же миллионы раз пытался убить всех, и мне это даже удавалось, то есть, никогда совершенно всех, но почти что всех, как тогда, когда была война, и русские атомными бомбами сразу же расхерячили Польшу и Германию, оптом, целиком, и осталась только выжженная земля, выжженная Польшегермания или Германопольша, или же место, в котором были когда-то какие-то там страны, о которых сейчас никто уже и не помнил, и исчезли всяческие марки, границы и рубежи, но все так же имелись реки и горы, точно так же, как исчезла держава Само[48]48
Государство Само – раннесредневековое (VII век) славянское государственное образование (союз племён, конфедерация), упомянутое в письменных источниках. Существовало на территории современных Чехии и Нижней Австрии (а также части Силезии, Словакии и Словении), объединив предков современных чехов, словаков, лужицких сербов и словенцев. Точных данных о границах государства не сохранилось, предположительно являлось предшественником Карантании или Великоморавской державы. Основным источником по истории государства Само является Хроника Фредегара[1]. Все остальные источники созданы позже. – Википедия
[Закрыть] и держава гуннов, только не были они уже теми же самыми реками и горами, на которых опиралось то, что было во мне поделено.
Или же тогда, когда жил я в Варшаве и всех закрыл в лагерях. Всех. Каждый заключенный был охранником, и каждый охранник – заключенным, каждый палач – жертвой, а каждая жертва – палачом, и все по обеим сторонам границы, которую я стер, с громадными усилиями работали ради окончательной цели уничтожения всех, физической экстерминации, дабы дать место более совершенным и более красивым транслюдям, только аантропным иначе, чем в Извечном Грюнвальде, поскольку были они единородными, идентичными, не аантропными по отдельности, как нечеловеческие поляки и немцы из Эвигер Танненберг. То есть все работали ради истребления словно скопцы, которые желали вымереть, чтобы дать место Богу, или же словно члены Voluntary Human Extintion Movement,[49]49
Движе́ние за доброво́льное исчезнове́ние челове́чества – более известное как VHEMT, аббрев. от англ. Voluntary Human Extinction Movement) – общественное экологическое движение, целью которого является добровольное вымирание человечества путём отказа от размножения. Основная идея движения заключается в том, что для биосферы Земли будет лучше, если человечество не будет существовать. По мнению сторонников этого движения, человеческий вид – это некий «экзотический захватчик», популяция которого вышла из-под контроля, является угрозой планете Земля и другим видам животных и растений, живущих на ней; и только полное исчезновение вида Homo sapiens восстановит естественный порядок вещей и гармонию природы. – Википедия
[Закрыть] с тем только, что у нас не было и речи о Боге или о Гайе, и вымирание не было добровольным, но основанным на универсальном всеобщем насилии.
Но потом все рухнуло, потому что мои люди были столь красивыми и столь преданными мне, что я просто потерялся в наиизысканнейших копуляционных ритуалах и перестал владеть прекрасным новым миром, в котором уже не было людей, и тогда транслюди убили меня, и только лишь тогда, умирая, я убил по-настоящему всех, бо они умерли по причине тоски по мне, по причине печали, да и не было уже вообще людей, и во всей той истории прекрасно лишь то, что на наши пустые развалины глядели только сосны да ежи, а людей уже и не было.
Ну а ближе всего к вам было тогда, когда была отыграна иллюзия полностью сожженного мира, и я встретил Питера Холмса и его жену Мэри, и их ребенка в Мельбурне, в Австралии, и мы поплыли на американской подводной лодке в Америку[50]50
Аллюзия к книге Невила Шюта «На берегу» и фильмам, снятым по этой книге.
[Закрыть], разыскивать жизнь в зараженном излучением мире, и совершенно этой жизни не обнаружили. Все это помню с огромным трудом, а вспоминаю только лишь потому, что Питер Холмс существовал, но не истинно в-миру-пребывал в вашей истории: он был героем романа. А раз был он героем романа, то и его иллюзии были сыграны в извечном умирании, наряду с мириадами сопряженных друг с другом вариантов, отыгрывая одного Всех-Питера, точно так же, как если бы он существовал в истинном в-миру-пребывании.