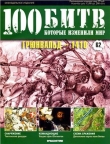Текст книги "Вечный Грюнвальд (ЛП)"
Автор книги: Щепан Твардох
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Щепан Твардох
ВЕЧНЫЙ ГРЮНВАЛЬД
Роман из-за конца времен
Разумный человек не сожалеет ни о живом, ни о мертвом.
Бхагавадгита, II:11
Королевич есмь.
– Есмь королевич, – шепнул я, когда умирал в самом деле, когда умирал впервые, после своего краткого, истинного в-миру-пребывания, когда существовал взаправду. Я – сын короля.
Никто меня не услышал, меня и не могли услышать, ибо шепот мой увяз под стальными полями капеллины[1]1
В начале XIII столетия на вооружении пехотинцев и конников появились шлемы, которые, благодаря своей весьма удачной конструкции и невысокой цене, завоевали широкую популярность среди воинов. Эти шлемы своим внешним видом напоминали шляпу, поэтому солдаты их так и называли – «айзенхут» (нем. Eisenhut), что в переводе с немецкого и означает «железная шляпа». В других странах, во Франции и в Италии, их называли соответственно «шапель» и «капеллино», то есть «шляпа».
[Закрыть], ибо едва-едва я губы раскрыл для этого шепота, ибо никто и не пытался его услышать, так как никто не склонил ко мне уха, только лишь давным-давно, мириады лет назад, когда я жил взаправду, святая моя матушка слушала мои слова, только ее волновало, а что скажет ее маленький, ее сладенький Пашко. Ее королевич. Ее бастерт[2]2
Bastert (старопольск.) = бастард, незаконнорожденный
[Закрыть].
Черный дестриэ[3]3
Дестриэ́ (фр. destrier) – крупный боевой рыцарский конь, как правило, жеребец. Термин подразумевает не определённую породу, а определённые свойства коня, предпочтительные для использования его в турнирах. Информация о том, что дестриер достигал веса 800—1000 кг и более и роста 175–200 см, в последние годы подверглась сомнению. Историки Музея Лондона, в том числе путём измерения останков лошадей и конских доспехов, установили, что дестриер размерами и массой сопоставим со своими боевыми собратьями, не превышая 14–15 английских пядей. Мощный спринт с места – вот что делало дестриера предпочтительным выбором для рыцарских турниров, увеличивая стоимость коня троекратно. С рыцарем в седле он уверенно справлялся с пехотой и лёгкой кавалерией.
[Закрыть] протанцевал по моей груди, копыта размозжили мне ребра. Кто сидел в седле, я не заметил. Возможно, что и никто. Когда я падал, капеллина слезла мне на лицо, так что я видел только копыта и бабки.
– Королевич есмь, короля Казимира сын, – шепнул я остатком воздуха в легких.
Никто меня не услышал, так как вокруг продолжалась битва. Вокруг меня продолжался Грюнвальд.
Первый Грюнвальд, истинный Грюнвальд.
Прежде чем умереть, хотелось мне увидеть небо, увидать черных богов на небе, так что левую руку протянул я к заслоняющему мне лицо шлему – левую, поскольку правую мне размозжила секира одетого в шкуры воина, которого я уже не успел убить. Потому протянул я левую руку к капеллине, сумел сдвинуть ее с лица и увидел небо, только не было на нем черных богов. А потом я умер, потом меня не было, а потом был вновь, уже не в-миру-пребывая, но вечно-живя, вечно-умирая.
Умирая, хотел я увидеть мать. Литовский боевой топор стер ненависть и презрение, что родились во мне, когда вернулся я в Краков в тысяча триста девяносто первом году после условного рождения еврейского мессии, которого практически все, известные мне в истинном в-миру-пребывании признавали Сыном Божьим и самим Богом.
Разжал я пальцы, поскольку не было у меня сил в мышцах предплечья. Меч выпал из моей ладони. Не желал я уже этого меча, не было уже во мне воли, чтобы стиснуть пальцы на рукояти. А был со мною тот меч уже много лет, то есть, в истинном в-миру-пребывании, умирал я, и казалось мне, что был он со мною всегда, так почти что и не помнил я того, что было раньше и когда получил его, все было так, будто бы тогда я и родился. Теперь же не желал я уже того меча. Я позволил ему выскользнуть из ладони и упасть на землю. Придет потом какой-нибудь оруженосец или слуга рыцарский и заберет его, и будет мой меч жить дальше, пока в конце концов не сломается или нельзя уже его будет наточить, и тогда перекуют клинок в какое-нибудь иное оружие или орудие, и станет мой меч жить дальше в другом обличии. А я – думал сам я тогда с жаркой надеждой – исчезну, и не будет меня уже никогда, и останется только лишь большое и пустое ничто, черная и слепая пустота.
И мир начал темнеть по краю, и пустая эта темнота перемещалась к средине, к самому центру мира, что располагался в сердце моем и в голове моей, я же приветствовал эту черноту с радостью. А ведь вокруг меня их лежало так много, тысячи: немцев в белых плащах с черными крестами, немцев в гербовых кафтанах, поляков в гербовых кафтанах, жмудинов, чехов, татар, силезцев, пруссов в одеяниях кнехтов и прусского рыцарства, оруженосцев, слуг, и один Господь знает, кто там еще лежал на том поле исколотый, посеченный, избитый; и кровь заливала им легкие, либо же содержимое кишок их разливалось у них по полости брюшной, и умирали они, все умирали и все ждали того, что будет, когда умрут; так что некоторые с надеждой возносили молитвы свои Иисусу-Христу и Марии и ожидали, что еще сегодня усядутся о деснице Господней; другие же вспоминали вины свои ужасные и опасались, а хватит ли спешно повторяемых шепотом молитв, чтобы не забрали их черти на вечные муки; а кто-то кровью своей вычерчивал магические знаки на теле, ожидая посланников Перкунаса; кто-то иной взывал к имени аллаха – но никто, не считая меня, не ожидал, не надеялся пустоты, громадного ничто, которого я ждал с такой надеждой, с которой иные жаждали увидеть Марию Деву на светящемся облаке.
И темнота пришла ко мне, прижала к себе, укрыла, и последней, гаснущей искрой своего "я" испытал я громадное облегчение и радость, что наконец-то познаю я покой, покой в небытии.
А потом было вечное ничто, и длилось оно столько же, сколько быстрейшее движение век, а потом я пробудился, и нет большей в мире боли, чем такое пробуждение.
Когда умирал я на полях первого Грюнвальда, я уже не испытывал ненависти к своей матери. И потом, если вообще можно поделить жизнь на какие-то "потом" и "перед тем", ненависть эта выгорела. Она была во мне, но не горела, словно зола давным-давно умершего костра.
А когда-то я любил только лишь ее. Особой любовью любил, поскольку остальную часть творения мирского ненавидел.
Впоследствии была жизнь иная, где-то в тени, я едва мог ее воспроизвести и увидеть; жизнь, в которой мой отец – король – не умер, и из этого ствола вырастали ветви, где я был кем-то совершенно другим: носил меха на шелковой подкладке, ризы и доспехи. В той жизни мать светилась, и я не успел ее возненавидеть-пожрать.
А как же светился я сам: словно господин какой, словно королевич.
Но в истинном в-миру-пребывании бывал я лишь в Кракове, когда было мне двадцать лет, в одежонке худой, что на мне была, три меча и умение владения ими, ну еще имелась кобылка и паршивенький конский ряд.
Вороватые кочуги[4]4
Hajn koczugi – (старопольский) воровки, женщины легкого поведения.
[Закрыть], женщины, с которыми я мужнинские поступки творил за серебро, то есть духны[5]5
Duchna = подушка под голову, ночной колпак, но и подстилка, а отсюда – женщина легкого поведения, проститутка (старопольск.).
[Закрыть], бляди, это они, когда вернулся я в Краков, припомнили мне, кем была моя мать. Сам ведь я никогда того не забывал, только лишь спихнул все глубоко-глубоко, в то место, в которое мыслями не возвращаешься. В истинной жизни… но слово, которым пользовался, то есть использовал в настоящей жизни, чтобы ее, то есть правдивую жизнь определить, то слово «в-миру-пребывание». С моей перспективы это слово лучше определяет ту истинную жизнь – настолько давнюю, что в принципе уже и неправдой ставшую, жизнь на Земле, которой уже нет, как нет уже солнца, что ее обходило, и которому я, дитятей малым будучи, ручкой делал «пока-пока», когда отправлялось оно спать за горизонт. Это и есть как раз «в-миру-пребывание». А жизнь – это все, что позднее, что теперь, и вообще. Жизнь, то есть умирание. Смертение.
А матушку свою знал я всего лишь девять лет. И если отнять самые ранние годы, сколько же тех лет может быть? Пять? Шесть? Не могу сказать, когда дитя получает столько самости, осознания, чтобы иметь возможность сказать, кем оно себя считает.
Первое что помню, это то, как идем мы с матерью через Казимеж[6]6
Кази́меж (польск. Kazimierz, лат. Casimiria, идиш Kuzmir) – исторический район в Кракове, в прошлом отдельный город, в северо-восточной части которого с XVI века до Второй мировой войны проживали евреи. Сегодня Казимеж является частью городского района «Дзельница I Старе-Място». От своего основания в 1335 году и до 1818 года Казимеж был самостоятельным городом, находящимся к югу от Кракова и отделённым от него несуществующим сегодня рукавом Вислы под названием Старая Висла.
[Закрыть], в котором тогда не было еще евреев, то есть они-то были, но немного; мать держит меня за руку, а я трогаю белый пух, что падает с неба.
– Матуска, – шепелявлю я, а она сжимает мою руку. Мы возвращаемся с торга, в другой руке она нсет корзинку, а в ней мешочек с мукой, морковку и баранью ногу.
Помню материнское тепло.
А когда мы встретились потом, уже на конце времен, рассказала она, как я появился.
Как коснулся ее король.
Матушка моя не считала отца моего человеком: да и по сути своей, не был он для нее человеком, был королем, был бородатой фигурой Иисуса Христа и Господа Бога, во что вам, конечно же, трудно поверить, принимая во внимание их взаимосвязи: четырнадцатилетней горожанки и старого короля. Но так, собственно и было: король был как Христос.
Король увидел ее, когда она принесла в замок нечто, чем торговал ее отец – купец; я же так никогда не узнал, что такого это могло быть. Дорогая ткань для одеяний каких, кувшин с вином, с медом? Не знаю, чем занимался мой дед. А ведь мог узнать без труда, даже когда еще в-миру-пребывал, не говоря уже о своем вековечном умирании, но это вот отсутствие интереса было самой совершенной формой презрения, которое мог я проявить.
Итак, король увидел мою мать из окна, когда шла она со своим свертком, который не знаю и что содержал, то есть, теперь-то знаю, но в течение всего своего истинного в-миру-пребывания не знал, и предпочитаю думать так, как будто бы то, о чем узнал впоследствии, и не существовало.
Король, урожденный господин, который не умел ни читать, ни писать, владел громадной страной от Райгрода до Шафляры, от Драхимя до Могилева, и этот как раз король подозвал слугу и приказал привести ему женщину, которая сейчас идет по вавельскому двору.
Матушка моя тоже не умела ни читать, ни писать, ничем она не владела; ба, она даже самой собой не владела, поскольку ею владел ее отец, а мой дед – купец, который прибыл в Краков из Нуоренберка[7]7
Нуоренберк (Nuorenberc – Скалистая гора) – средневековое название Нюрнберга. Так его и станем называть в тексте до определенного времени. Потом – Норемберк.
[Закрыть] еще перед рождением моей матери. Потому-то матушка разговаривала и по-польски, и по-немецки. А на дворе замка подошел к ней королевский слуга и сказал ей:
– Иди за мной, молодка!
И она так и пошла, не мешкая, словно бы заранее знала.
Знала ли она, что означает тот приказ, который исполнила столь естественно и охотно? Она попросту шла, не думая, зачем идет, куда направляется за королевским слугой, которого звали Пелкой, и который был прохвостом.
Слуга же провел ее прямиком в королевскую комнату, и матушка моя не сразу поняла, кто же этот бородатый мужчина в багряном одеянии, потому что было ей тогда всего четырнадцать лет.
Королю нравилась светловолосая девушка: нравились ее небольшие грудки, едва вырисовывающиеся под платьями, прядки волос, убегающие из-под платка и маленькие ручки с длинными пальцами, из которых он вынул сверток и бросил на пол, после чего схватил льняное платье моей матери возле декольте и разорвал его до самого низа, и обнажил мою мать, сорвал с нее одежды и толкнул на высокое ложе, у изголовья которого можно было видеть коронованную букву "К".
А она поняла, кто такой этот бородатый мужчина, поняла она и то, что сейчас произойдет. Король разгреб хоуппеланд[8]8
Хоуппеланд – широкий плащ.
[Закрыть] и приказал моей матери развязать тесемки, которыми были присоединены штанины к рубахе, что она и сделала, не мешкая.
Ее узкие ладони с длинными пальцами распутывают тесемки, развязывают узелки.
Потом король перевернул ее на живот, словно она была кукла, приподнял ее бедра, буркнул что-то непонятное.
– Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое, – прошептала матушка начало пятидесятого псалма, который всегда был самым дорогим ее сердцу псалмом; прошептала голосом, приглушенным постелью на королевском ложе.
И случилось. Королевский корень разодрал мою матушку, она же продолжала шептать свой псалом:
– И согласно великой жалости твоей, уничтожь беды мои.
Король, привыкший к тому, что молятся женщины, которых он покрывает, молитв не слушал; громко сопел, пока в конце не простонал: Господи! – напрягся, и все свершилось: королевское семя было засеяно в плодородных глубинах моей матери.
Кровоточила она не очень-то и обильно.
– Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, – шептала мать, – яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною eсть выну. Тебе eдиному согреших и лукавое пред тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех твоих и победиши, внегда судити ти[9]9
Перевод 50 псалма: https://foma.ru/psalom-50-pomiluy-mya-bozhe-po-velitsey-milosti-tvoey.html
[Закрыть].
Король вышел из комнаты, а матушка моя не знала, что ей теперь делать.
А сделала она то, что зачала меня: именно тогда, когда сидела обнаженная на ложе, украшенном коронованной буквой "К", именно тогда снабженный шустрым хвостиком королевский живчик проник в яйцеклетку моей матери.
Живчик этот нес в себе гены польских урожденных господ, domini naturalis, впоследствии названных Пястами; еще нес он венгерскую кровь матери короля Владислава, бабки короля, что поимел мою мать, а венгерская кровь была одновременно греческой кровью, императора Федора I Ласкариса, который был ей дедом, и моим – следовательно – прапрадедом. А это значит, что когда девятью месяцами спустя появился я на свет, имелось во мне одна тридцать вторая римской – как сами они о себе говорили – или же греческой крови Ласкарисов, а помимо того, много венгерской крови, арпадской[10]10
Арпа́ды (венг. Árpádok, хорв. Arpadovići, словацк. Arpádovci) – династия князей (с 1000 года – королей) Венгрии, правившая с конца IX века по 1301 год. В Средневековье династию часто называли «Домом Святых королей».
[Закрыть] и немецкой, от различных супруг Арпадов, а еще французской и еще какой-то иной.
Только все это не имеет значения, ибо тогда, совершенно так же, как и в ваших временах, дорогие слушатели моей жизни, кровь была всего лишь кровью. Важен был правовой факт. То, что имел я или имею в себе кровь греческих вельмож, римских цезарей, королей, маркграфов и князей, не сделало меня ничем иным, как только бастертом.
Матушка моя, естественно, ничего не знала про яйцеклетки, сперматозоиды, цезарей, Арпадов, не зала она и того, что с ней творится, когда в комнату пришел Пелка. Не обращал он внимания на ее неуклюже заслоняемую наготу, ничего ей не говорил, только дал ей платье, верхнее и нижнее, гораздо красивее, чем то, что порвал на матушке моей король, дал ей платок батистовый с королевской монограммой и кошелек, в котором было десять краковских грошей. На каждой монете была надпись KAZIMIRVS PRIMUS DEI GRACIA REX POLONIE, на обратной же стороне – GROSSI CRACOVIENSES[11]11
КАЗИМИР ПЕРВЫЙ МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ КОРОЛЬ ПОЛЬШИ – ГРОШ КРАКОВСКИЙ (среднев. латынь)
[Закрыть] – только ни матушка моя, ни отец мой не могли этих надписей прочитать. За них она могла купить себе хорошие башмаки, несколько кур или барашка, но не купила.
И вот сидя на королевском ложе, запятнанном ее кровью, матушка хотела молиться, желала обращаться к Господу, как вдруг не стало у нее молитв, отчаянно она искала их в памяти, испуганная, чтобы внезапно вспомнить окончание первого псалма, по-немецки, так что к Господу обратилась она на этом языке.
– Wen erkant hat got den wek der gerechten, unde der wek der boffin vortirbit. Ere sy dem vatir ubde dem sone, ubde heyligen geiste[12]12
Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа (средн. нем.)
[Закрыть].
Когда в новых платьях, с кошельком и платком вернулась она домой, отец моей матери, а мой дед, немецкий купец из Нуоренберка, знал уже, что случилось в замке, ибо Пелка сказал другим слугам, те – слугам рангом пониже, те – еще более низким, и стекло известие понизу, в город: что король Казимир имел деяние мужнинское с дочерью Флориана из Нуоренберка, кровь которого тоже текла в жилах моих, что так же не имело никакого значения; раз кровь Арпадов и Ласкарисов, и господ урожденных не имела значения, так какое должна была иметь значение кровь Нуоренберкского купца?
Считалось только лишь то, что я бастерт: в королевскую кровь мало кто верил, а тот, кто верил, не обращал на то внимания. Поначалу отец мой на охоте свалился с коня и сломал ногу. После того дед мой умер от печали, когда матушка моя забрюхатела. После того умер мой отец король, вернувшись из земли пшедборской в Краков, продиктовав завещание, в котором не было упоминания ни о матери моей, ни обо мне. Матушку мою после смерти отца ее выбросили на улицу, так что родила она меня в больнице для бедняков, а потом поселилась в доме развратном при банях, где я и воспитывался, а воспитателями моими были махлер[13]13
Mahler = управляющий, деляга, но и фальшивомонетчик, обманщик
[Закрыть], духны, палач и любители плотских утех.
Глядел я, как ложатся они с матерью моей. Приходили после третьего колокола, после которого нельзя было ходить по улицам, и видел я, как они забираются на нее, выискивают корешки свои под громадными пузищами, как вынужеены они поднимать свои жирные животы, чтобы войти в нее; как хрипят они, как дергают ее за волосы, как берут ее сзади, как задирают ей ноги; как не встают у них корешки, и они винят в том матушку мою, обзывая ее грязными словами, как матушка моя скоблит их в громадной лохани, после чего сама в ту лохань входит, в воду, грязную их потом и уличной пылью.
Как молодые люди кончают, вставив всего два-три раза, стыдятся потом, а мать свое шепчет:
– О Господи, выслушай молитву мою и зова моего к тебе не отвергай, не отворачивай лица своего от меня, – и сталкивает их с себя.
На все глядел: я, бастерт, дитя блудницы, изгой, блевотина людская, словно бы лоно матери моей выплюнуло меня так, словно сова выплевывает шарик из костей, перьев и скорлупы, и по которому орнитологи ваши ворожат, словно жмудинские жерцы по сожженным костям.
Когда мужчины, любители плотских утех, покровители матери моей и других женщин легкого поведения, встречали меня в коридоре, делалось им слегка не по себе, и давали они мне иногда чего-нибудь вкусненькое, а от наиболее богатых получал я иногда даже половину пражского гроша. Я же сам, все то, что видел в банях и доме для блуда, старался потом забыть; потом – это когда матушка уже умерла.
И кто бы поверил мне, что предок мой носил корону римского цезаря? А если бы даже и поверил, то мог бы на мгновение и задуматься над судьбиной бастерта, рожденного курвой из краковского публичного дома: но вот одарил бы такой меня уважением? Не таким, что надлежит цезарю, но хотя бы таким, что надлежит господам?
Если бы был я своим собственным потомком, если бы родился как аантропный[14]14
В тексте: aantropiczny = a-antropos = не-человек, не-человекоподобный. Так что дальше в тексте будет «аантропный».
[Закрыть] поляк в линии Извечного Грюнвальда: в мире, разделенном полосой сожженной земли, засек, окопов и бункеров, с горящими на небе лозунгами «Total Mobilaufmachung»[15]15
Согласно словарю: Mobilaufmachung = Мобильная презентация; Mobilmachung = мобилизация. Так что, скорее всего, на небе был призыв к тотальной мобилизации…
[Закрыть] с одной стороны и «Сильные, сплоченные, готовые» – с другой стороны; если бы в этом мире я родился из семени аантропного самца, из лона Матери Польши, все же неся в себе отдаленное воспоминание крови византийских императоров, мадьярских и польских королей, я был бы аантропом, одним из Опоясанных. Или, по крайней мере, аантропным почетовым-стрелком[16]16
Poczet = свита, сопровождающий кортеж, дружина, но еще и отряд в армии, рота, эскадрон.
[Закрыть].
Я вел бы в битву, на смерть, машины, закованные в композитные панцири, или же шел в бой сам, сросшись со своей броней, ночью, не чувствуя холода, злости, страха или тоски, чувствуя исключительно Приказ, ибо Опоясанные чувствуют Приказ, как другие испытывают жажду.
А если бы вернулся, удовлетворив Приказ, Мать Польша очнулась бы на мгновение из извечной своей дремоты, и на дворе какой-то из бесчисленных своих усадеб приколола бы к корпусу машины или к моему собственному телу орден Белого Орла или опоясала бы меня лентой Виртути Милитари[17]17
Орден «Virtuti militari» (Орден военный Virtuti Militari (в переводе с лат. – «Военная доблесть»), польск. Order Wojenny Virtuti Militari) – польский военный орден, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги. Учреждён последним королём Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским 22 июня 1792 года в честь победы над российскими войсками в битве под Зеленцами во время русско-польской войны 1792 года, упразднён в том же году самим королём по политическим мотивам. После разделов Речи Посполитой орден действовал в Варшавском герцогстве. Во время существования Царства Польского назывался "Польский военный орден (польск. Order Wojskowy Polski)", после восстановления независимости Польши в 1919–1933 годах назывался "Войсковой орден Virtuti Militari (польск. Order Wojskowy Virtuti Militari)". Вручается только во время войны или в пятилетний срок после её окончания президентом республики по представлению капитула ордена.
[Закрыть] и поцеловала бы меня: Поцелуй сделал бы меня зрелым, мое голое тело начало бы выпускать зародыши волос, из брюшной полости опустились бы яички, и позднее, уже после превращения, на размножающей аудиенции, мог бы я оплодотворить одно из миллионов лон Матери Польши, и это лоно выдало бы на свет моих аантропных детей, а Мать Польша снова бы запала в свой извечный, беспокойный сон, издавая интенсивные запахи новых Приказов из миллиардов желез, покрывающих ее обширное тело.
Но мог бы я быть и аантропным немцем, братом в Ордене или гостем в Ewiger Tannenberg. Немцем я был бы совершенно по-иному, ибо аантропность немца не была аантропностью поляка; единственное, что их объединяло, это факт пересечения давным-давно границ человечности: они были похожи в том, что не были людьми, точно так же, как подобны плавник и скорпион.
Там, у немцев, как потомок старого дворянства, я был бы вросшим в панцирный кожух, маленьким панцергренадером, с остаточным телом, карликовым, приросшим, словно аппендикс к огромной, могучей голове без глаз, ушей и рта. Или же самостоятельным фрайнахтегерем, и плодил бы я для Кайзера последующих панцергренадеров или фрайнахтегерей в лебенсборнах[18]18
Лебенсборн («Lebensborn» – «Источник жизни»), разработанная рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером программа превращения германской нации в расу господ путем селекционного отбора. Официальная идеология национал-социализма особо подчеркивала, что долгом немецких женщин является рожать расово полноценных детей независимо от того, рождены они в семье или вне брака. Немецким девушкам, особенно состоявшим в Союзе немецких девушек, постоянно напоминали об их долге перед Третьим рейхом. Поощрялась беременность от членов СС, как наиболее приемлемых и чистых в расовом и политическом отношении. Накануне родов девушек направляли в один из 12 специальных родильных домов, где им обеспечивали надлежащий медицинский уход. – Энциклопедия Третьего Рейха
[Закрыть], копулируя с безголовыми, широкобедрыми и сисястыми аантропными самками, которые служат для оргазмов воинов и для рождения и выкармливания детей, а вокруг них вьются маленькие человеческие работницы: они моют их и переворачивают на другой бок, чтобы предупредить пролежни, и следят за тем, чтобы всегда проходимы были сосуды, подводящие Blut к громадным матерям.
Только в истинном в-миру-пребывании я был попросту бастертом, в том злом мире, что карал детей за грехи отцов.
Только ведь это всего лишь поговорка. Ибо что в этом плохого? Наказать можно всегда и любого, потому что виноваты все. Наказание неизбежно, наказание не требует обоснования или причины, наказание, просто-напросто, является последствием бытия.
Сейчас я вижу свое детство как в целости. Не как кинофильм, сцена за сценой, а скорее всего, как если бы одновременно видел все кадры на пленке, что началась с моим рождением, а закончился с ударом литовской секиры и с копытами дестриэ, которые выдавили из моей груди остатки дыхания.
Я рос в доме терпимости: так что были страшные мгновения, с момента, когда было мне десяток с лишним месяцев, пока не набрался опыта и не понимал еще, что происходит, но казалось мне, будто кто-то обижает мою матушку. Потом, чем старше я становился, тем представления эти более страшными становились, никак я к ним не привык.
Но помимо них много было мгновений и хороших. В prostibulum publicum[19]19
Общественный бордель (среднев. латынь).
[Закрыть] на втором этаже у нас с матерью была собственная жилая комната, в которой мать не принимала покровителей, чаще всего работала она в бане. Меня любили все духны, я их всех называл «мамками», что тогда, в семидесятых годах четырнадцатого века означало тетку, и даже махлер приносил мне гостинцы: чашку сметаны, куски пирога, медовые пирожные. Иногда давал он мне откусить кусочек лимона, а один даже подарил в полную мою собственность, я долго хранил его как самое большее из моих сокровищ, пока он не заплесневел и полностью засох. Так никогда я его и не съел.
Мать мою махлер при мне не бил; в конце концов, не из камня же было у него сердце; он ее бил, когда я не смотрел. Хотя такое случилось всего пару раз. Потому что матушка была послушной и весь свой заработок честно отдавала.
Не происходило тогда в моей жизни ничего важного, я попросту жил и рос. Разговаривал по-польски, понимал по-немецки, вот только сам практически ничего не говорил. Был я сильным, хотя и небольшого росточка, как на свой возраст; но охотно дрался даже со старшими мальчишками, иногда и побеждал.
Были у меня приятели: в доме разврата проживали родичи-близнецы моего возраста, Пётрусь и Малгожата, и часто приходил к нам поиграть Твожиянек, сын палача, старше нас на несколько лет; он уже помогал отцу вылавливать ничейных собак. Мы ходили к Висле, где Твожиянек учил меня и Пётруся ловить рыбу; как-то раз он забрал Малгожатку в кусты, вернулась она, вытирая слезы, но сильно об этом не нюнилась; в конце концов, росли мы в блудном доме, телесные дела не были для нас тайными, какими могли они быть для вас, дорогие слушатели моей жизни и в-миру-пребывания, если только детство ваше попало на тот особенный период на склоне второго тысячелетия после рождения Христа, когда нисходящая на низшие классы викторианская мораль закрыла копуляцию за дверью спальни, еще до распространения легко доступной для детей порнографии. Наверняка же вы слышали про английского художника Раскина, который в девятнадцатом столетии, в первую брачную ночь, увидав волосы на лоне супруги, посчитал ее чудовищем и уже не был в состоянии приблизиться к ней. Дитя своего времени, времени, когда делали вид, будто бы под одеждой у людей нет тел. Женское тело Раскин знал только лишь по скульптурам и картинам, а на них оно не поросло мехом в том месте, где соединяются ноги. "Обнаженная маха" наделала ужасный скандал в свое время, так ведь и у нее почти что ничего не видать, всего лишь какая-то тень настоящих волос. А Эффи, свежеиспеченная жена живописца, не знала еще методики brasilian waxing, вот и должна была показаться супругу чем-то вроде оборотня.
Раньше люди простые плодили детей по ночам в общих помещениях, а вельможи и родили детей при свидетелях, и жен дефлорировали при свидетелях, чтобы никто потом не мог сказать, будто бы matrimonium не было consumatum. Ну а потом уже все можно было осмотреть в 3-D или в виде голограммы, в полном спектре и любой конфигурации, и испытать вживую, проверить, прикоснуться, посмаковать, а на вкус все это было даже более правдивым и более реальным.
Затем времена опять поменялись, воцарилось новое пуританство, затем – новая развязность, и через много-много циклов все редуцировалось к размножающим аудиенциям у извечно спящей Матери Польши и к терпеливым копуляциям немецких аантропных самок в лебенсборнах, к фанатичным оргазмам неопоясанных самцов, которые все свои протеины отдавали Матери Польше в едином оргазме, в смертельном наслаждении, заканчивающем их короткие, наполненные трудами жизни. И так миллионкратно в каждой ветви древа истории. Так что не стану я больше этим заниматься, не о том вы, наверняка, желаете услышать.
Твожиянек, сын палача, был нашим, моим первым учителем внешнего мира. Это он дал мне осознать, кто мы были такие: дети от курвы-матери и пана малодоброго[20]20
Pan małodobry = палач (польск.)
[Закрыть] сыны; я – бастерт, Пётрусь и Малгожатка – тоже внебрачные, сам он – получше, по крайней мере, в брачном ложе рожден, но, принимая во внимание профессию его отца, была то небольшпя, а то и вовсе никакая разница. Я же, кем был мой отец, не знал, но об этом вскоре. Твожиянек показывал нам мир посредством ассоциации с нами: то есть, он рассказывал нам, как выглядит турнир, разыгрывая при этом с огромным посвящением роли рыцарей, дам, зрителей, короля и герольда – наиболее живописной фигуры – которого в нашем королевстве не было, но о котором Твожиянек слышал, пребывая с отцом в чешской Праге. Этот рассказ, который мы слушали распахнув от восхищения рты, кончался констатацией, что турнир принадлежит более красивому, лучшему миру, в котором главные роли играют рыцари и дамы, а в качестве тихой и послушной публики на них допускают честных и набожных обычных людей; вот только нас, бастертов, детей проституток, палачей и воров, сразу же оттуда прогнали бы, если бы мы имели наглость появиться там. Ибо не достойны мы глядеть на развлечения добрых и хороших людей.
Так заканчивался всякий рассказ Твожиянека: когда рассказывал о красивых верховых лошадях, то заканчивал констатацией, что такой черни людской, как мы, таким отбросам, блевотине человеческой никогда не будет дано усесться в седле самой паршивой даже клячи, ибо даже самая распоследняя лошадиная дохлятина с отвращением сбросила нас со своей спины. Когда он рассказывал про шелка – мораль была та же самая: не для вас шелка.
Но тогда возразила ему Малгожатка, у которой не было иллюзий в отношении занятия, которому придется предаваться в уже скором будущем, и следя за своей матерью, имела об этом занятии, то есть о блядстве, неплохие знания.
И вот сказала она тогда Твожиянеку, что самые красивые их духен носят шелка и батисты, которые приносят им в подарок вельможи. Но вот Твожиянеку не понравилась наглость Малгожатки, вот и врезал он ей по лицу так, что кровь пошла изо рта и из носа, а он, обиженный, ушел к себе домой, мы же, то есть я и Пётрусь, злились на нее, ведь по причине ее несдержанного языка в тот день Творжиянек больше ничего не рассказал. Так что мы приложили еще и от себя, а Пётрусь на Малгожатку еще и отлил. За что потом его матушка страшно выдубила ему шкуру, два дня не мог он с кровати встать.
Тогда матушка никак не делилась со мной тем, кто был мой отец. Король. Об этом она рассказала только лишь на смертном ложе; то было на десятом году правления короля Людовика; матушка умирала в болях, что расходились с правого бедра на весь живот. Сегодня-то я знаю, что мать моя умерла от обычного воспаления слепой кишки, только что мне от того знания? Тогда я думал, что это злой Бог забрал ее у меня, да и часто так же думаю, забывая, что в Господа Бога – ни злого, ни доброго – не верю, поскольку его нет, а имеется только злой и тупой всеобщий божок, погруженные в которого мы извечно умираем.
А матушки своей я и так не вижу, ибо из моего шеола[21]21
Шеол – обитель мертвых (и не обязательно что это ад, гадес) в иудаизме. Православная энциклопедия отмечает, что библейские тексты Ветхого Завета рассматривают шеол как место обитания всех умерших независимо от их образа жизни на земле. «В шеол попадают не только грешники, но и праведники». – из Википедии.
[Закрыть] нельзя достать до места, в котором она проживает.
О том же, кто приходится моим отцом, я вообще узнал за несколько мгновений перед смертью моей матери, дочери купца из Нуоренберка, краковской давалки.
Боль ее на миг сделалась легче; матушка протянула ко мне руки, схватила меня за плечи, сжала пальцы на моих худых предплечьях.
– Королевич еси, – сказала она. Я не понял.
– Еси сын короля Казимира. Его бастерт. Это он зачал тебя в лоне моем.
Она подала мне белый батистовый платок с королевской монограммой.
– Король дал мне платок этот, после того, как поимел меня как мужчина, – шептала она.
Не плакала она, все свои слезы она выплакала уже давным-давно.
– Возьми его, носи с собой всегда. Это знак того, что ты королевич, короля Казимира бестерт. Только не потеряй, сыночка.
Болезненная судорога вдруг заставила ее свернуться клубком, словно бы невидимый кукольник дернул за шнурки своей марионетки.
– Gott gebe gluck, – в боли матушка начала шептать по-немецки, словно бы в боли спали с нее все годы, проведенные в Кракове, как будто бы осталось только то, что слышала она в колыбели. – Bis Etyli und vor Echwige. Geh zu Noremberk[22]22
Господь дает счастье. … И на теперь и на вечность. Отправляйся в Нуоренберк. (старонемецкий).
[Закрыть].
Будь тихим и молчаливым. Как она, всю жизнь – и ткт же Нуоренберк, счастливая страна моей матери, веселая страна, страна детства.
Я мало чего из всего этого понимал. Впоследствии спросил я махлера, когда пришел он вечером для устройства похорон. Он пожал плечами. подтвердил, кивнув головой. Вроде бы так говорят. Я допытывался дальше; в конце концов махлер буркнул что-то, чтобы я оставил его в покое.
Я и оставил.
Вскоре после того о королевском бастерте вспомнило семейство моего покойного деда, дядя моей матери сказал якобы – как мне рассказали потом, много лет спустя, когда возвратился я в Краков – что не даст умереть на улице бастерту своей племянницы, но с другой стороны, это же стыд какой держать бастерта и сына матери-курвы в городе, в связи с чем отправит он меня в Нуоренберк. Матушка моя должна была предвидеть, что меня туда пошлют – потому и говорила мне о Нуоренберке. Там я мог попросту быть русоволосым молодым парнем из далекого Кракова, а внебрачным сыном кочуги.
И потому дядя матушки моей отправил меня, десятилетку, с купеческим караваном, везущим в Баварию волов, меха на возах и зерно к далеким родичам. в Нуоренберк.
Ибо я, бастерт, сын матери-блудни, пока было мне семь или даже девять лет, пока воспитывался в развратном доме, не выставляя на улицу даже носа, разве что побежав за покупками на торг – только и мог среди краковяков расти. Но с каждым годом, приближаясь к взрослости, становился я угрозой: как блудница, как актер, вор, живодер, палач.
Мое присутствие нарушало порядок. Если входил я в приличный дом, то пятнал его своим в нем нахождением; не ритуально, не так, как оскверненным становится, к примеру, еврей, когда коснется мертвеца, или еврейка, у которой месячные. Я, бастерт и сын матери-курвы, был угрозой действительной, а не ритуальной, я был словно нечистоты на полу комнаты, что оскверняют порядок не ритуально, но на самом деле: они воняют, могут перепачкать обувь, размазаться по полу отвратительным пятном.
А ведь я должен носить детский хоуппеланд из дорогих тканей или дублет с вышитым гербом, размахивать деревянным мечом, учиться ездить верхом и стрелять из лука.