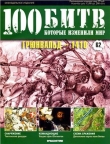Текст книги "Вечный Грюнвальд (ЛП)"
Автор книги: Щепан Твардох
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Тогда, когда сидел я на направлявшейся в Нуоренберк повозке, не понимал я того, что должен был: мне казалось, что раз уж мой отец – король, то я обязан быть королевичем.
Потом я повзрослел. Мне стало уже не до королевства, я хотел быть лишь тем, кем были остальные бастерты Казимира: рыцарем. Ведь таковых было даже много. Вот и я желал быть таким же, как они – miles strennus. Опоясанным. Это ведь было в моем праве, этого был я достоин, и именно это у меня и отобрали: ибо король Казимир умер, еще до того, как матушка меня родила на свет, ведь, может, он и не знал о том, что я существовал, вот и не записал мне ничего в завещании, а другим – Пелке и Немерже – записал, аккурат столько, что они могли с гордостью носить свои рыцарские пояса.
Но самыми важными в моей жизни – то есть, не только лишь в моем истинном в-миру-пребывании, но и во всем извечном умирании – наиболее важными были дни, что отделяли смерть моей матушки от выезда с купеческим караваном в Нуоренберк.
Продолжалось это где-то с две недели.
Духны давали мне есть, стирали мои рубашки и штаны. В особенной степени, матушка Малгожатки и Пётруся заботилась обо мне, словно бы я был ее собственный ребенок. Она гладила меня по голове и плакала, и поясняла своим детям, какое счастье у них, что Господь не сделал их сиротами, как бедненького Пашка.
Сам же я, когда увидел свою матушку в гробу, холодную и безразличную, понял, какой будет моя судьба: остался я сам. Один-одинешенек перед лицом всего света. Перед Господом Богом, которого мне не было за что благодарить – я, ьастерт, сирота, людской отброс.
Убежал я тогда от гроба, спрятался в нашей старой комнате, лежал на кровати, что еще ею пахла, и плакал: матушка, матушка…
И так лил я слезы и молился Господу, и верил, что вот сейчас откроется дверь, и станет в ней она, расчешет свои светлые косы, и скажет, мило улыбаясь: не лей же слезы, сыночка, матушка любит тебя. А я тогда перестану плакать. Она же прошепчет еще, тем самым голосом, которым шептала псалмы: матушка любит тебя, сыночка, мольше всего света. И поцелует в лоб, все время обнимая.
И дверь открылась, только не матушка в ней встала. В дверях появился Твожиянек. Он вошел, не ожидая ни приветствия, ни приглашения, закрыл двери и уселся за стол.
Он молчал.
– Королевичем есмь. Короля Казимира сыном, – сказал я, ибо должен был сказать это.
Он же зашелся смехом.
– Еси бастерт, а не королевич, червяк[23]23
В оригинале: wiło (старославянск.).
[Закрыть], – сказал он, перестав хохотать. – Бляди-матери сын..
– Сам ты червяк, – дерзко ответил ему я. И рассказал все то, о чем сообщила мне матушка на смертном ложе, после чего вытащил из-за пазухи батистовый платок с королевской монограммой и показал Твожиянеку.
Тот с любопытством осмотрел платок, после чего свернул его и спрятал. После чего начал говорить ужасные вещи: он жестоко насмеивался, говоря, что я всего лишь червь, глупец, что верит в бабские сплетни. Что мать моя, будучи известной курвой и воровкой, наверняка сперла платочек у какого-нибудь королевского придворного во время известных дел. И что он заберет у меня этот платок, чтобы отдать его законному владельцу, то есть отнесет на Вавель, и ради моего же исключительно добра, чтобы меня не повесили как вора.
Я попросил, чтобы он платок отдал. Он снова насмеялся надо мной, называя червяком и шляпой. Я на него бросился, только он отпихнул меня без труда, он же был сильнее меня, больше. Я упал. Твожиянек пнул меня в живот и ушел.
Остался я сам. Без моего батистового платка, что принадлежал моему отцу и моей матери. Без того кусочка ткани, или, как вы говорите, материи, который, помимо меня самого, был единственной вещью, которая хоть как-то их объединяла. А еще – единственной вещи, полученной мною от моей матушки.
Он, платок этот, был всем. А Твожиянек у меня его забрал, я же предпочел бы, чтобы оторвал мне руку и забрал.
И ненавидел я Твожиянека тем сильнее, что чувствовал себя совершенно бессильным. Бессилие было принципом моей жизни, то есть, того периода моего истинного в-миру-пребывания Бессилие унаследовал я от матери, которая всю свою короткую жизнь прожила как невольница: своего отца, затем – в течение краткого мгновения – короля, который, похоже, не остался ею доволен, раз уж никогда больше за ней не послал; потом – махлера, чтобы, в конце концов, умереть как невольница собственной болезни, собственного аппендикса, того никому не нужного куска кишки величиной с палец, о котором тогда не знал никакой врач, и который свисает в животах наших словно дурацкая шутка Господа Бога, свисает только лишь затем, чтобы воспалиться и лопнуть, заражая всю брюшную полость своей болячкой и приводя смерть. У аантропов уже нет аппендиксов, тела аантропов сотворил лучший бог, чем ваше и мое, человеческое тело.
Твожиянек мог вот так просто забрать у меня мой батистовый платок. А я ничего, ну совершенно ничего не мог с этим поделать.
И я даже перестал плакать, потому что было у меня такое чувство, будто бы кто-то мне плакать запретил.
И вот тут двери моей комнаты снова распахнулись, и в них встал махлер.
Я боялся его, словно самого дьявола. Был он мужчиной не слишком рослым, всего на чуть-чуть повыше моей матушки; лицо он гладко брил, череп у него был лысый, но лысину он прятал под дорогим, достойным вельможи шапероном[24]24
Шаперон – chaperon, chaperone – берет.
[Закрыть] из красного бархата. Передвигался он с трудом, так как мучила его подагра, то есть ножная опухоль, опять же, тяжело было ему носить громадное брюхо: настолько большое, словно бы в нем собрался жир со всего тела, потому что ноги в обтягивающих штанинах были у него худыми; помню, как матушка льстила ему по поводу тех его ног, говоря, что прямые они и красивые, когда отвязывала тесемки от штанин, это когда приходил он к ней, чтобы иметь телесное дело. Отвязывала она тесемки, стягивала штанины, с его опухших от подагры ног поначалу снимала она патинки – неглубокую обувку из дерева, что-то типа калош, потом poulaine, краковские туфли длиной в локоть, то есть в шестьдесят сантиметров, остроконечные, с заполненными мохом носками, это чтобы под ноги не попадали при хождении. У деревянной обувки-патинок тоже имелись удлиненные на половину локтя концы, это чтобы поддерживать носки сапог из дорогого сафьяна. Я же глядел на эту пару, а они меня не видели. Махлер, измученный подагрой, едва-едва ходил в своей модной, удлиненной обуви и в деревянных башмаках высотой в десять сантиметров. Матушка же раздевала его, со штанин начиная. Она отвязывала тесемки. И снова отвязывала тесемки. Гладила его по мохнатым, худощавым ногам, в то время как его брюхо чуть ли не опиралось на ее голове. Она же отвязывала веревочки. Снимала покрытые грязью патинки, старательно ставила их рядом с ложем, стаскивала краковские туфли и все время щебетала:
– Какие красивые у тебя ноги, мой милый господин. А корешок у тебя большой и прекрасный.
Так должна была она говорить, ибо он ей так приказал; все духны, к которым он приходил, обязаны были говорить.
И целовала матушка моя ноги и стопы махлера, целовала их из страха, не из любви, ибо так он приказал, после того стаскивала с себя полотняный нагрудник, обнажая себя, я же отворачивался от щели в двери, не хотелось мне на это глядеть; и так уже много протекло ко мне и впиталось в меня страха и унижения матушки моей.
И когда встал он в дверях, ведущих в мою комнату, то я боялся его страхом своей матушки, словно самого дьявола и как Господа бога, и как короля; его боялись все духны, ибо был он хозяином их тел, душ и мыслей, он мог иметь их, награждать, бить, убить, выкинуть из дома терпимости, чтобы бедствовали они, короче – мог все. Звали его Вшеславом, и был он жмудином из самой дальней Жмуди, с той самой, где как раз по-жмудински, а не по-русски говорят; в Краков попал он в 1352 году после литовского похода моего отца. Слыхал я, как духны между собой перешептывались, будто бы он даже крещеным не был, и что на самом деле звали его Виссегердом, и что поклонялся он жмудинским божкам; говаривали, что когда-то он целого вола богам в жертву принес.
И вот встал в двери моей комнаты этот страшный, ополяченный жмудин, который притворялся, будто бы по-жмудински он давно все забыл, этот самый махлер, начальник над баней и борделем, то есть кочот, барашник, мерженник или альфонс, как назвали бы его вы во времена вашего истинного в-миру-пребывания.
А потом прошел он вовнутрь и уселся на ложе, на котором ранее привык иметь мою матушку. Помолчал. Потом спросил, был ли у меня сын палача, поскольку видел его на лестнице. Я подтвердил, кивнув головой. Снова он молчал, прервав его через время, за которое можно прочесть несколько молитв:
– Пашко, зачем слезы льешь, отрок?
Почему я плачу? Ну вот как мог я ответить на такой вопрос? Ведь даже в его каменном сердце вопрос должен быть ясен: лью слезы, потому что мать у меня умерла. Или я должен был из этого сделать вывод, что вот даже каменное сердце махлера размякло по причине сироты, оставшегося один-одинешенек на свете? Наверняка следовало бы помолчать. Но я все же отозвался:
– Слезы лью, пан Вшеслав, так как та паскуда, Твожиянек, пана малодоброго сын, отобрал у меня платок, – говорил я, вытирая слезы. Паскуда в те времена означало вора, никчемного человека.
– Тот самый платок, который король Казимир дал матушке моей, когда имел с ней мужнинское дело, и когда был зачат я в животе у нее, – пояснял я.
Вшеслав покачал головой, не удивился он и не посмеялся надо мной. Наверняка, должен был слышать он эту историю от матери моей. Он еще помолчал, а потом начал говорить.
М были то, наверное, самые важные слова, которые слышал я в своем истинном в-миру-пребывании. То были слова и предложения, которые меня воспитали. Да, да, меня воспитал жмудин, махлер, возможно даже – язычник, в течение тех пары минут, которые заняло у него изложение этой пары простых мудростей.
Это по причине пана Вшеслава сталось со мной то, что стало со мной в истинном в-миру-пребывании и стало причиной моего извечного умирания во времена, в которых иные живут, и в которых живете вы.
А говорил он просто. Говорил о нас, то есть: говорил он о себе и обо мне, но применил общее местоимение "мы", хотя мне казался принадлежавшим к иному роду людскому. Один род людской – это навоз людской, то есть моя матушка, духны, стрыки – то есть нищеброды всяческие, я, и Малгожатка, и Пётрусь, и Твожиянек, и бабы, что в бане воду греют, и конюшенный хромоножка, которого каждый господинчик в морду бьет за то, что тот ему за конем плохо ухаживал; а он за лошадями все время плохо ухаживает, поскольку хромой, а значит – медлительный, и от этих побоев он уже не совсем в себе; а дальше кухонная прислуга и всякие ничем не связанные люди, что по городу покорно бродят, пару грошей желая заработать – а другой род людской это те, кто ездит верхом, господа, опоясанные рыцари в блестящих доспехах, вельможи и сановники.
Иисус Христос и Господь Бог, казалось мне, обязательно должны были ко второму роду принадлежать, а еще король Людовик, что тогда правил, хотя в Кракове бывал редко; и отец мой, покойный король Казимир, и цеховые мастера, и брат деда моего, купец. И, наконец, пан Вшеслав, махлер, повелитель моей матушки и меня тоже.
И говорил он о том, что это должен быть мой первый урок. Урок того, что я абсолютно сам, сам-один, один-одинешенек, и что сам я единственный опекун свой, и что люди не заберут у меня только лишь того, чего я им не позволю забрать. И что получу я лишь то, что силой вырву у мира. Что брат мой – кинжал, сестра моя – секира, приятель – нож.
Не было у меня ни кинжала, ни секиры, ни ножа; ножичка даже не было, да и откуда мне его иметь.
И тогда пан Вшеслав, махлер краковский, спросил меня: желаю ли я получить назад свой платок? Кивнул я головой, радуясь про себя самой мысли: вот пойдет сейчас махлер матери моей к пану малодоброму, скажет ему, что сын его, паскуда проклятая, и что обязан он, как можно скорее, отдать батистовый платок, который украл у Пашко, сына короля Казимира и краковской духны.
Только махлер никуда не пошел. Он сунул руку в кошель, что носил на поясе, и вынул оттуда нож. В принципе даже ножичек: лезвие в пять пальцев длиной, видно, что много раз на камне затачиваемый, потому что тонкое. Но без щербин, без ржавчины. Оправленное в кусок дубовой древесины, отполированный только лишь от держания в руках.
– И к Твожиянеку пойди сам. А точнее – вдвоем: ты и этот ножик. И забери свой платок назад.
Он подал мне нож, встал, хлопнул по спине, как будто бы я был, по крайней мере, подростком, что начинает задирать девчонкам юбки, но не десятилеткой – сиротой.
– Ну, молодой, ну… – взлохматил он мне волосы и вышел. Значительно позднее, но еще в истинном в-миру-пребывании, понял я, что это был самый ласкающий жест, который я когда-либо видел у этого страшного человека. Тогда же дошло до меня, что махлер Вшеслав меня любил.
Я спрятал нож в льняной мешочек, что исполнял роль моего кошелька. Встал я и понял, что был сам-один, один-одинешенек, но сейчас нас двое: я и мой ножичек, мой единственный приятель.
Не был я этой дружбе верен, потому что ножичек поменял на палаш и меч, на мушкет и на винтовку, на могучие панцеры и боеходы войн Извечного Грюнвальда, на вросшие в тело шаршуны, алебарды и рогатины, на кривые лезвия, на автоматические самострелы, на дистанционные рубаки и газометы, на гочкисы и максимы, на огнеметы и самострелы, на все то, что дырявит и раздавливает тело ближнего, на то, что отравляет его газом, поджигает, на то, что разрывает его легкие резкой сменой давления, как бомба объемного взрыва, на то, что убивает его излучением или душит.
И даже на то менял, что врага ослабляет, что манит его, обводит вокруг пальца, что склоняет его к трусости, но отвлекает от храбрости; на то, что отбирает у него волю; на то, что погружает его в летаргии, потому-то и творил я до тошноты сладкие фигуры людей, сплетенных в различных конфигурациях копулирования, любовные программы, в которых всякий способен потерять голову, ибо каждый мог найти в них то, что по-настоящему требовал, иногда и не зная о том: и безразлично, то ли были это белые, округлые женщины, стоящие на коленях, с покорными взглядами, с опухшей от ударов задницей, но дрожащие от вожделения; то ли десятилетние мальчишки, то ли дамы, не позволяющие прикоснуться к себе и бьющие за это по морде, или что-либо иное, а все более истинное, чем даже сама правда, крепче пахнущее, в лучшем цвете, с эластичной кожей, прогибающейся под ласкающей ладонью или же под ударом.
А еще творил я терпкие и мудрые теории, благодаря которым враги мои легко могли сами себя возненавидеть – убеждал я их, что несут они на своих плечах тяжкий багаж вины сотен поколений собственных предков, вины по отношению к другим людям и выны по отношению к миру, и была это правда, но они не ведали о том, пока я им не сообщил об этом. И я потому убеждал их возненавидеть самих себя и своих предков, полюбить же тех, кто их ненавидит, дабы восхищались они теми, кто презирают ими, и чтобы презирали они самих себя.
Но даже во всех тех вооруженно-развлекательных предприятиях всегда был только лишь я и орудие для причинения вреда ближним. Этому научил меня ужасный жмудин.
И вышел тогда я на улицу, все время трогая пальцами льняной мешочек, в котором лежал ножичек. Случилось это уже после третьего колокола, по улицам уже нельзя было ходить, но я и так пошел наиболее осторожно, как только можно тише, держась теней и закоулков, отправился я к башне у конца улицы Шротарской, обойдя перед тем костел святого марка или же костел Регулярно Кающихся Каноников.
Двери в башню были закрыты, но я отыскал окно комнаты, в которой спал Твожиянек; и крикнул я: хуй-хуй, ку-ку! Хуй привычным возгласом был во времена моего истинного в-миру-пребывания; даже поговорка такая была: не говори хуй, пока не перескочишь. Вам это наверняка понравится, потому-то сейчас я об этом и вспоминаю.
Но ничего не случилось, так что еще пару раз крикнул я, и он, в конце-концов, выглянул. Помахал ему я, чтобы он спустился ко мне, вниз – и он кивнул, что придет. И пришел.
– Только платок я тебе не отдам, червяк, – сказал он сразу, без всякого вступления.
А я уже держал ножичек в руке и вонзил его в живот Твожиянека. Короткий клинок едва-едва пробил кожу и брюшину и, похоже, вряд ли порезало кишки. Точно я этого не знаю. Не знал я тогда, как убивать людей ножом, лишь потом узнал. Еще в истинном в-миру-пребывании, в Нуоренберке. Узнал я, что ножом убивать следует не в сражении, а исподтишка, не глядя в лицо, а заходя сзади, и целиться нужно не в сердце, а в правую почку, одновременно притягивая левой рукой жертву к себе, так что, не успеет она заметить, а уже перерезано горло. После удара ножом человек напрягается и откидывает башку, открывает горло, как бы приглашая к себе блестящий язык клинка. Меня этому научили в Нуоренберке, а в ваши времена – этому же учили коммандос в армии, а в Извечном Грюнвальде этому же учили людских битвенных работников – и только их, потому что аантропы и не должны были учиться тому, как убить другого аантропа, поскольку вокруг этого и формировалась их натура, ибо не было у аантропов ближних, только они сами и обязанность, текущая в Blut или пахнущая в Приказе.
Твожиянек же свернулся клубком и упал на землю, ужасно крича, а я стоял над ним, словно все мое тело сотворили из камня, стоял и смотрел. Твожиянек плакал и кричал, извивался, зажимая себе руками живот. Дитя, раненное дитя. И я так и стоял бы и глядел, только где-то за спиной распахнулись ставни, в ночь посыпались злые слова курвы-матери сыновьях, что не дают спать порядочным людям, и подтолкнутый этими вот словами, бросился я на него и колол, и колол, и колол – так долго, пока не перестал тот вопить.
И вот когда он перестал, когда до меня дошло, что сижу верхом на трупе, на продырявленном моей собственной рукой трупе – мир остановился.
Восстали черные боги. Боги махлера Виссегерда и боги Арджуны, серебряного лучника; боги тех, что прибыли верхом с востока; боги Нибелунгов; Арес с Фобосом и Деймосом, Перун, То, Индра. Мои боги. Боги кшатриев, боги тех, кто на колесницах влились в Европу. Dyeus Pater, то есть Див Пацеж, светылый небосвод Перквунос, бог дуба. Санти, Санти, Санти – запели они.
Санти, Санти, Санти.
Вырвал я короткое лезвие из неподвижной груди, поднял его вверх, а они слизывали с него кровь, и были черные боги моими слугами на то мгновение, пока питались жертвоприношением моим. Я, Пашко Ублюдок, был их господином, так же как становится повелителем для домашней скотины тот, что дает ей еду. Черные боги коснулись моего сердца. Черные боги устроили церковь в моей голове; храм, сводом в котором был купол моего черепа, с витражами глаз моих и вратами уст моих.
То был первый, которого я убил. Последним в моем истинном в-миру-пребывании пал от моей руки крестоносный кнехт. Позднее, значительно позже, эоны времен позднее, мириады времен позднее узнал я, что последний Рыбкой прозывался, и был он вендом из-под Геданска.
Тогда был он для меня всего лишь людским телом, скрытым за панцирем и кольчугой, за капеллиной. Был я уже ображен болтом самострельным, кнехт же спиной отвращен был ко мне, збавляясь щитем от жмудской барты, есмь же стал с мечом в окс; но держал меч хальбцферт, ибо был он в харнаше, и тут же повернул ко мне передом и желал сечь меня глефом, я же сечь при ельце остановил и вонзил железо в рожу, гнев выпуская, когда же кнехт пал, за горло его я схватил пока не умер он; то есть: я был уже ранен, меня подстрелили из арбалета, и кнехт повернулся ко мне спиной, отбивая щитом удар литовского топора, я же встал в позицию вола и в полумече, то есть, схватил я левой рукой клинок своего меча на половине его длины, а крестовину меча держал у левой щеки, о чем, собственно, буду я говорить позднее; кнехт развернулся ко мне снова и захотел рубануть меня палашом, я же принял удар на плоскость меча и вонзил острие в лицо с громадной силой, после чего бросился на него и стал его душить, пока он не умер. И так убил я кнехта Рыбку, и сразу же после того, какой-то закутанный в шкуру литвин, которого я даже не видел, свалил меня топором на землю, дестриэ протанцевал у меня на груди, и пришел конец, а с концом пришло страшное начало.
Нравится мне о том размышлять, и люблю я об этом говорить. О своих собственных и о чужих смертях. В этом у меня бо-ольшой опыт. Имелась у вас, в Америке, такая поэтесса, которая сказала, что умирание является искусством, как и все иные виды искусства, и что сама она уже желала бы лежать в могиле. А через пару лет после моей смерти объявлена была книга на том соборе, на котором Гуса сожгли, книгу про ars moriendi, то есть про искусство умирать.
Но тогда, в истинном в-миру-пребывании и моем, и вашем, и Сильвии Плат, кто мог заниматься искусством, когда всякое искусство тренировок и занятий требует? Ведь все вы умирали всего лишь раз. А я умирал так много раз, что только лишь некоторые, наиболее сильные из смертей моих в состоянии заметить, только те, что происходили в наиболее выразительных ветвях жизни моей.
Так что, в извечном своем умирании, умер я под Грюнвальдом, и пережил Грюнвальд, как рыцарь, как кнехт, как господин, и как жмудинский дикарь, жерца, которого махлер Вшеслав еще ребенком забрал в литовские пущи и воспитал как язычника без веры.
В извечном умирании умирал я от аппендицита, от чумы, холеры, малярии, анального свища, когда от кала сгнил весь низ живота и бедро, умирал я от рака всего тела, и от пуль, умирал и от старости, от меча, топора, копья и от столярного долота; от ножа бандита и от ножа хирурга; и от иприта, и от лучевой болезни, и шел я на дно на борту крейсера "Худ" и сухопутного крейсера "Гаутама", и в чешской штуке (пикирующий бомбардировщик), и в танке "Пума", и на веслах галеры Петра Великого под Гангутом; умирал, в конце концов, от голода и от жажды, и от печали, и сам отбирал у себя жизнь бесчисленное количество раз, вешаясь, словно Иуда, травясь газом, стреляя себе в голову словно Хемингуэй или же Курт Кобейн, топясь, бросаясь под ноги боехода или панцера, или же бросаясь на провода под напряжением в Маутхаузене или на гранату, либо же вызывая на себя огонь польских опоясанных аантропных рыцарей, которые никогда не промахиваются; и умирал я, становясь легкой добычей для немецких вольных ночных егерей. Умирал я бесчисленным количеством способов, о которых не могу вам рассказать, ибо нет у меня для этого слов, потому что слова те я уже позабыл, или же вы их правильно не поймете; не поймете вы даже слов, которыми бы я пытался вам их объяснить. Как видите, люблю я об этом размышлять и люблю об этом говорить: об умирании и об убивании. Многие из вас представляют умирание и убивание вещами исключительными. А я знаю, что ничего исключительного в этом нет; умирание – тот же самый процесс, как дыхание, хождение, как пить, жрать и срать, как копулировать и читать книжки. Обычное дело – умираешь. Смерть не является чем-то исключительным. Можно умирать пристойно и гадко, это же ясно, то же самое, как иметь хорошие или плохие манеры поведения за столом. А вы даже не можете убить животное, которое потом едите; весь этот процесс вы замыкаете в фабрики и делаете вид, будто бы его нет. Что является, уж поверьте мне, ужасно жалким делом. Эти ваши вопли, что кто-то там убил собачку, в то время, как свиней убиваете на фабриках, а потом жрете их мясо. А еще все те разговоры, будто бы убивать на фабриках – это гуманно. Что меня еще больше удивляет, ведь, в свою очередь, фабричное, конвейерное убийство людей вы считаете негуманным. Сжечь человека насмерть атомной или фосфорной бомбой – это гуманно, а вот отравить газом на фабрике смерти – негуманно. Хотя, может, не так больно? Тут уже ничего не известно, пока не проверишь, а двух смертей вам не дано, зато мне их дано много, так что моему опыту поверить можете. Фосфор – гораздо больнее.
Вы не умеете жить со смертью и с убиванием, и это смешно, как при в "Призраке свободы", который я видел в Париже в семидесятых годах, но в ветке истории, минимально отличающейся от вашей (например, Пикассо еще был жив), потому что в других ветвях этого фильма я как-то не видел. Я имею в виду тот самый пир, в ходе которого срут за столом, сидя на унитазах, а потом идут есть в отдельные маленькие комнатки. Наверное, потому, что вы так этого убивания и умирания боитесь, зато любите о них читать и слушать, а еще их наблюдать, правда? Так я буду об этом говорить, не беспокойтесь. Но вы и так не поймете того, что самое простое и самое главное. Убивание – дело обычное. То ли речь идет о курице на обед (а вы убили, по крайней мере, курицу?) или же речь идет о целых народах или даже об одном человеке. И я знаю, что у человека имеется душа, а у курицы ее нет. В определенном смысле, это правда, куры не пробудились к извечному усмертию. Только вот что с того, кровь есть кровь, боль есть боль, куриная или людская. Так что убивание – обычно, даже когда речь идет о женщине или ребенке. Хотя сам я ни детей, ни женщин в истинном в-миру-пребывании не убивал. Твожиянек не считается, ибо, хотя и был он ребенком, но лет ему было больше, чем мне. Это значит, что я не убивал непосредственно. Когда палил я жмудинскую вёску, никогда не вонзил клинка в женщину или ребенка, а что потом они сдохли от холода и голода, не имея убежища, то это вина черных богов, видеть, черные боги так хотели. Может жертва была уж слишком тощая, а может кто священный дуб осквернил.
Но вот потом, в извечном умирании: да, убивал я и детей. Ведь львы тоже убивают своих львят, но мир над этим не рыдает.
Ибо, хотя Ирод и приказал перебить младенцев, но солнце на следующий день все равно встало.
Ибо, хотя Юлий Цезарь и рубил галльских детей, чтобы те не выросли взрослыми галлами, которые себя так легко рубить уже не позволят; потом дети в хороших школах учили на память "Галльскую войну" по латыни: Gallia est omnis divisa in partes tres (Вся Галлия разделена на три части – лат.), и это мириады раз было детскими устами повторено, в мириадах времен и веток исторического развития.
Ибо, хотя в Бабьем Яру и убивали детей, в тот же самый момент жители Берлина и Вашингтона подливали себе сливки в кофе. Нет, благодарю, мне без сахара.
Ибо, хотя в сжигаемой американским напалмом советской Варшаве дети и горели вьетнамскими факелами, жители Стокгольма глядели на это, хрустя чипсами.
Ибо, хотя девочек Парижа, Лиона и Марселя, девочек, чьи лона были еще безволосыми, и насиловали английские гуркхи, в то же самое время в Милане итальянцы раскрывали газеты на спортивном разделе, чтобы узнать результат матча "АЦ Милан" с "Лацио". Три – один.
Ибо, сдыхают от голода птенцы сороки, голову которой отстрелил из духового ружья мальчишка, стерегущий циплят.
Ибо, берлинских мальчонок трех-четырех лет топили в затопленных каналах метро, в Польше маршал Пилсудский пил пиво и играл в карты с Вандочкой, хотя, а что еще он должен был делать?
Ибо, некий неандерталец, имени которого я не смогу записать знаками ни одного из людских языков, видел, как рослый, рыжеволосый кроманьонец убил неандертальского ребенка, пронзив его копьем с роговым наконечником. Нанизав его на копье, затащил он его в свою пещеру, там выпотрошил и слопал, обшмалив на костре. Об этом мне рассказал нашем извечном усмертии отец выпотрошенного, и не понимал он усмертия точно так же, как не понимал его я, и так же как не можете понять его вы.
И ваши предки, как львы: нежелательных младенцев бросали, и те умирали от голода и холода, никогда не познав вкуса материнского молока; так верили германцы, что достойно бросить дитя умирать, если оно еще никогда не ело.
И греки, которые жертвоприношения из людей считали варварскими – не считали варварским обычай бросать нежелательных детей, чтобы они умерли.
И ваши славянские предки приносили детей в жертву Перуну.
А Илларион Александрийский писал своей сестре Алис за сто лет до рождества Христова, что если новорожденный будет мальчиком, то он должен жить, если же родится девочка, пускай Алис бросит ее умирать.
Вы же так любите охать и ахать, глядя на пухленькие детские щечки, только вы такие же самые, ибо человек, равно как и другие хищники, убивал, убивает и будет убивать своих детей. Вы, такие деликатные, убиваете их, просто-напросто, еще до того, как они родятся, по эстетическим причинам, ибо сделались уж больно впечатлительными: брошенные дети плачут слишком громко, в материнском животе плач не слышен. Я не укоряю вас за это, не возмущаюсь, этим вы меня не удивляете. Такие вы попросту и есть – люди. Такие мы и суть – как львы.
Так что убивал я детей в Ewiger Tannenberg: святым огнем палил польские усадьбы и слушал, как с треском лопаются лона Матери Польши, как наши шагающие панцеры топчут испепеленных щенков польских рыцарей. И прокалывал я пикой аантропных, безголовых самок немцев в лебенсборнах, тем более тех, что были беременными, а выстрелами из арбалета убивал немецких беременных работниц и их помет.
Кровь не имеет значения. Кры[25]25
Кры (kry) – кровь (старослав.).
[Закрыть] – это кры. Blut ist Blut, течет как вода, смазывает шестереночки истории словно масло, засыхает будто красная краска на батальных картинах. Кры не имеет значения. Трупы не имеют значения.
Ведь вы любите об этом слушать, правда? Возмущаться людскими обычаями. Так знайте, это о вас, это вы являетесь теми, что сидят и пьют, в то время как в вашей временной ветке продолжается 1996 год, вы сидите, пьете, обмываете первые свои победы на бирже, ругаете политиков, а в Северной Корее матери поедают тела собственных детей. А ваших дочерей и сыновей перерабатывают в мази и кремы, либо кончают они свои жизни на свалках, и время не останавливается, и не плачет над ними небо.
Так что для меня и убивание, и умирание – дело обычное.
А из всех ветвей истории более всего полюбил я Извечный Грюнвальд / Ewiger Tannenberg, ибо там убивание никогда не пряталось в тени, как у вас, ханжи. В Вечном Грюнвальде цивилизация, государство, люди нужны для того, чтобы убивать врагов.
Понятное дело, в истинном в-миру-проживании я этого не знал. Убивать людей было грехом, это ясно, но когда я хотел мяса, и мы могли себе это позволить, матушка посылала меня на двор бани и указывала курицу, принадлежащую нам, потому что у каждой духны имелось несколько собственных кур в общем курятнике, я же эту курицу ловил, держал под мышкой, а потом зарезал.
Потому-то и не удивила меня кровь на руках и на ноже, когда убил я Твожиянека. Знал я, что люди умирают, как и животные; знал, что истекают они кровью. Я начал обыскивать одежду Твожиянека в поисках своего батистового платка – и нашел его на покойном, за пазухой: мое лезвие порезало его, весь платок был в крови.