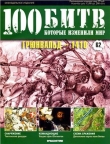Текст книги "Вечный Грюнвальд (ЛП)"
Автор книги: Щепан Твардох
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Забрал я платок с собой и совсем другой дорогой побежал в дом разврата, вошел через задний ход, через баню. Я видел мужчин, громадных мужчин, их тела: бледные, смуглые, различные; башки лысые или покрытые мокрыми лохмами, подрезанными и длинными; спины и груди – худые и жирные, мохнатые и нагие; видел я духн, которые ухаживали за мужскими телами, поливали их горячей водой, намыливали и ласкали, и думал я о том, что я, как они, господа, рыцари, богатые купцы, что могут прийти в в баню, заплатить махлеру Вшеславу, после чего довольствоваться купанием и ртом кочуги, после чего могут приказать принести себе кларету[26]26
Вино кларет – одно из самых запутанных и неоднозначных. Изначально так назывались некоторые сухие красные вина из Бордо, обозначаемые французским словом clairet («прозрачный», «бледный»). Это были легкие напитки, близкие по характеристикам к розовым сортам. Так что автор не прав, упоминая белое вино.
В 1152 году Генрих II Плантагенет взял в жены Алиенору Аквитанскую, после свадьбы регион Бордо перешел под юрисдикцию Англии. Корабли, курсировавшие в те времена между Англией и Францией, перевозили столько кларета, что их вес стал измеряться в винных бочках "tonneaux", от которых и появилась мера веса "тонна". Кларет стал самым популярным вином Туманного Альбиона – элементом каждого обеда: как званого, так и обычного семейного. Со временем в Англии кларетом начали называть любое красное столовое вино из Бордо, закрепив за ним термин claret, следом за Старым Светом эту практику перенял и Новый Свет. https://alcofan.com/chto-takoe-vino-klaret.html
[Закрыть] в серебряной кружке, вина белого и прозрачного.
Вот только я в истинном в-миру-пребывании никогда на подобное не покушался, поскольку поначалу была бедность, а потом – уже в Ордене – это запрещали посты.
Впоследствии, естественно, понял я, махлер Вшеслав имел в виду нечто совершенно иное. Я неверно определил дистанцию. Мне казалось, что между мною и Вшеславом имеется непреодолимое расстояние, громадная, непреодолимая бездна, а вот Вшеслава от господ, что приходили в баню, отделяет уже дистанция маленькая, не больше, чем между господином неопоясанным, и опоясанным рыцарем, strennus. А все было совершенно иначе, для тех светлых господ, рыцарей и короле, вельмож, князей и епископов, я и махлер Вшеслав были людскими отбросами, хуже даже сельского мужика, и даже еще хуже, ведь крестьянство занимало свое место в вечном порядке oratores, bellatores и laboratores, то есть тех, что молятся, тех, что воюют, и тех, что трудятся. Мужик-крестьянин был фундаментом этого порядка, его основой, крестьянским трудом жил и рыцарь, и священник – а во времена моего истинного в-миру-пребывания слово "кнеж" означало и князя-повелителя и ксендза-священеника, христианского жерца. Мы же, люди бесхозные, ничем не связанные, отбросы людские, были этого порядка наибольшими врагами, словно язычники или еретики. Только не бунтовал я против такого порядка; бунтовал я только лишь против места, которое занимал я в этом порядке. Ибо сам порядок казался мне таким же естественным и очевидным как восход солнца после ночи и закат после дня. Вот только желал я быть в этом порядке повыше.
И тогда, когда возвратился я домой, убив Твожиянека, до смешного казалось мне, будто бы теперь я уже один из них. Когда же, вскоре после того, понял я, что имел в виду махлер Вшеслав – хотел я быть, как они. Я хотел быть королевичем, рыцарем, светлым господином. Только лишь этого желал, ено не по причине какой-то безумной гордыни или амбиций, я же просто был воспитанным волками ребенком, и дитя это хотело вернуться к людям. Я был королевским незаконнорожденным сыном, живущим в публичном доме с кочугами.
Принес я в ведерке воды, чтобы выстирать мой платок. Спустился в баню, украл горсть мягкого будто масло мыла и отстирывал свой батистовый платок, только пятна оставались. После того взял самую тонкую иглу, которую удалось найти в бедных пожитках моей покойной матушки и, как учила меня матушка, заштопал продольные дыры, вырезанные в ткани лезвием моего ножичка.
И тут вошел махлер. Увидел он, что я делаю, все понял, подошел, погладил меня по голове и вышел. Я же, помня приказания матушки своей, что умерла у меня, начал молиться:
– Отче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое, да будет воля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим[27]27
Текст на старославянском языке: http://www.nsad.ru/otche-nash/
[Закрыть]…
И на этом прервался. Помешали мне черные боги. Дальше я уже не хотел молиться. Не хотели молиться черные боги. Мой батистовый платок снова был у меня, только отдал мне его ни Господь Бог, ни Христос, ни Богородица, ни вся христианская церковь – отдал мне его махлер Вшеслав, так как подарил мне ножик. Так что больше я уже не молился; весь мир вокруг меня молился, а я – нет.
А после того выехал я в Нуоренберк-Норенберк, выехал в Рейх.
Впервые в жизни покинул я Краков, и ехали мы два месяца; и в течение тех двух месяцев сидел я на запряженном волами возу между скатками медвежьих и волчьих шкур, которые везли на продажу в Империю. Возов было шесть, а помимо того – сто двадцать волов тучных, для продажи по дороге – в Силезии и дальше. Дорога вела нас не самая краткая, но согласно интересам купцов из каравана, то есть: по головному тракту на Олькуш, затем на Бытом, из Бытомя – по меньшей дороге – на Гливице и Ратибор; из Ратибора на Тиссу, потом на Минстерберк и Франкенштейн, после чего на Глатц и на Прагу. Даже когда останавливались мы в городах по дороге: в Гливицах или в Ратиборе, я и так оставался на возу, выходить мне разрешали только по нужде.
Мало чего видел я во время этой поездки: спал, мечтал о матушке своей, тосковал и плакал.
Подружился я с плоской волчьей головой с глазами из цветных камушков, я обращался к волку, а он отвечал мне; теперь думаю, что отвечал он мне голосами черных богов..
Иногда выглядывал я наружу, присматривался к дороге: к вёскам, лесам, иным, чем Краков, городам, и две картины запомнил на все свое истинное в-миру-пребывание. Первая картина – это рыцарский кортеж, красивейший рыцарский кортеж, который я в истинном в-миру-пребывании видел.
Рыцарь в поездке! Не было ничего в моем мире более красивого, ничего более торжественного, ничего более мужественного, чем рыцарь, путешествующий с богатой свитой.
Это и была квинтэссенция рыцарства: ехать. В паломничество, на войну, с договором к дружественному повелителю или в гости к дяде, или же просто: куда глаза глядят, искать приключений, гостить в замках. Ехать.
И вот на сиво-вороном пальфрей, то есть подъездке, едет рыцарь, в кафтане с гербом, с большим кинжалом; конь идет иноходью, слегка колышась, чтобы достойный всадник не слишком устал. А за ним свита: пажи, стрелки, все вооруженные; далее запряженные мулами телеги с имуществом, затем кони без поклажи и без всадников: громадный черно-гнедой дестриэ с покрашенными в красный цвет гривой и хвостом, белый парадный пальфрей, сивый курсер для турнира, другие маршевые кони, запасные для стрелков, сплошные жеребцы или валахи, только среди маршевых две кобылы. Вспоминал я Твожиянека; это он, после посещения турнира, научил нас, то есть Пётруся и меня, так как Малгожатка исключена была из этого знания, как различать рыцарских коней. Он говорил о них, словно большой знаток, хотя потом большая часть из того, что нам рассказывал, оказалась неправдивой или полуправдой, но тогда я слушал бы каждого, кто пожелал бы мне рассказать о рыцарских конях.
Наш караван – возы, волы, двое конных – уступила рыцарскому шествию дорогу. Я глядел во все глаза, приоткрыв холстину. У рыцаря на кафтане был герб с золотым полем, а на нем задравший голову черный тур.
Проезжая мимо нас, рыцарь бросил возницам пару монет – не из благодарности за то, что уступили дорогу, а просто так, из господской милости. Я же насыщал глаза богатством одежд, оружия – у всех стрелков и слуг мечи или палаши, с самострелами, рогатинами, в капеллинах и кольчугах, один лишь сам рыцарь менее всего вооруженный, без какого-либо панциря, шлема, в красивом темно-красном шапероне на голове.
И он проехал, даже не зная того, что на телеге сидит бастерт короля Казимира. А вот если бы знал – думал я – то, возможно, забрал бы меня с собой, сделал меня пажом и мог бы мною хвастаться: поглядите-ка, на службе у меня королевский бастерт. И в извечном усмертии, в мириадах событий наверняка есть и такие, в которых он останавливается, а я выскакиваю с телеги, припадаю к рыцарскому сапогу и плачу, и рассказываю свою историю о том, как меня похитили, и рыцарское сердце отмякает, ведь это же история словно из романа, так что забирает он меня и усыновляет, и дает мне рыцарский пояс и меч, и парчу, только я не забываю того, не забываю, и, в конце концов, благодарность превращается в неприязнь, неприязнь же – в ненависть, и наконец я скрытно убиваю своего благодетеля, и ухожу со двора его в мир как странствующий рыцарь без страха и упрека, только вот рыцарь лишь внешне, потому что с ужасным пятном на сердце, с сердцем, почерневшим от ненависти.
И наверняка ведь была такая история в мириадах событий, только я ее не выделяю, не упоминаю, отмечаю только лишь, что должна была иметься такая. Выделяю лишь то, что в истинном в-миру-пребывании или близко к нему: как проехали мимо.
И когда уже проехали они, услышал я, как возница разговаривает с начальником каравана, назвали они имя рыцаря: Бартош из Веземборга, герба Тур, сын Перигрина, староста куявский, в последнее время знаменитый тем, что взял в неволю шестьдесят французских рыцарей, направлявшихся в Пруссию, что желали присоединиться к крестовому походу против жмудинов. Якобы, взял он за них тридцать тысяч флоринов выкупа от Винриха фон Книпроде. И поехпли мы дальше, вслед за ними, я же размышлял, что вот если бы набрал я немного навоза, который оставили кони кого-то, кто обладает таким прекрасным именем: Бартош из Везенборга, герба Тур, сын Перигрина, староста куявский – то была бы у меня хоть какая память о нем, как платок от отца моего или ножичек, которым я Твожиянека убил. Только когда хотел есмь соскочить с телеги, кто-то из слуг стегнул меня нагайкой, наверняка думая, будто бы я сбежать навострился, так что я тут же в шкуры закопался и навоза на память не собрал.
Вторым образом, который я запомнил, был портрет. Лицо молодого священника в Праге. Купец, мой двоюродный дед, разговаривал с ним, мешая чешско-польские и немецкие слова, титуловал его по-латыни "canonicus", а потом когда священник уже ушел, сообщил возчику моей телеги, что это ксёндз каноникус Гонза из церкви святого Вита. Встреча, которых много случается, я бы ее наверняка и не запомнил, если бы не то, что ксендз этот меня заметил.
С тех пор, как стал я убийцей, черные боги дремали в храме, что размещался под сводом моего черепа. И почувствовал я внезапно, что под взглядом ксендза Гонцы из собора святого вита черные боги извиваются, ёжатся, и почувствовал я, что боятся они.
Ксендз-каноник ничего не сказал. Подошел он к телеге, развернул холстину, глянул на меня с близкого расстояния и начал присматриваться. Я молчал, а священник положил мне ладонь на голову и прошептал молитву.
– Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diabolic esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militia caelestis,Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infermum detrude. Amen[28]28
Святой Михаил Архангел, защити нас в бою, ты – наша защита от нечестия и козней дьявольских. Запрети им Господь, мы смиренно молим, и ты поступай, о повелитель небесных хозяев, дух сатаны и других злых духов, которые бродят по миру в поисках разорение души силой Бога, чтобы толкать нас в ад. Аминь. (https://www.webtran.ru/translate/latin/to-russian/)
[Закрыть].
Я не понял ни единого слова, но явно почувствовал, как черные боги корчатся, словно брошенные в огонь червяки. Ксёндз ушел, а их не было. Только знал я, чувствовал – вернутся. Ведь на то место, что осталось после них в моей голове, не пришел снова ни Христос, ни Господь Бог, ни кто-либо другой.
В течение тех двух месяцев поездки мне было так одиноко, как никогда еще не было в жизни: потом и еще впоследствии, чаще бывал я одинок и один-одинешенек, чем с кем-то, но тогда, на телеге, я переживал это в первый раз. Я тосковал по духнам из публичного дома, скучал по Малгожатке и Пётрусю, тосковал даже по махлеру Вшеславу и клиентам, что, выходя от духен, давали мне остатки еды. А здесь мне никто не давал мне помимо того, что обязывал их подробный договор с моим двоюродным дедом: во время поездки я получу место для сна, ежедневно bir suppe, то есть пивную похлебку, хлеба, сколько захочу, в воскресенье – кусок gekochte huner, то есть вареной курицы. И ничего более: и тут я имею в виду даже какие-то лакомства, но то, что со мной никто даже не заговаривал. Духны очень ласковы к детям, так что я привык, даже когда не хватало мне моей матушки, кто-то гладил меня по голове или прижимал к себе, или давал шутливый подзатыльник.
А тут два месяца на повозке – и ничего. Ни слова, если не считать коротких команд по-немецки, что пора идти по нужде, потому что потом целый день будем в дороге, без стоянок, или что дают кушать. Никто не поднял на меня руки; один раз только, когда я споткнулся и вылил похлебку на волчий мех, но даже и тогда меня не наказали так, как я того заслуживал; мне попросту дали кулаком по голове – и конец; ну и еще раз, плеткой, когда хотелось мне навоза взять
В городах был запрет сходить с воза и шататься по улицам, запрет наверняка верный, и я боялся его нарушить, и не нарушил, так что к иным мирам я приглядывался только лишь из-за полотнища воза, и было любопытно, когда я встречал взглядом взгляд иного ребенка, когда видел красивого рыцаря или даму, или какую богатую лавку – но по большей части дороги: ничего, лишь деревья, страшный и темны лес и страшные, неприступные горы; так что подружился я со своим уголком в телеге между шкур и, понятное дело, плакал, только я уже подружился и со своим плачем и переполнявшей меня печалью.
И все время видел я сны о матушке своей, и лишь к тому никак не мог привыкнуть, что когда просыпался, ее уже не было.
Пока, в конце концов, не доехали мы до Норемберка, выглянул я из воза и увидел этот город, опоясанный двумя линиями стен. В стенах, весьма часто, башни граненые, с машикулями[29]29
Машикули́ (фр. machicoulis, от средневекового фр. mache-col, «бить в голову») – навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостных стен и башен, предназначенные главным образом для вертикального обстрела штурмующего стены противника стрелами или ручным огнестрельным оружием[1], сбрасывания камней, выливания кипятка и смолы. В русском крепостном зодчестве употреблялись термины: «бойницы косого боя», «навесной бой», «навесные стрельницы», «варницы» и, соответственно, «варовый бой» (от вар, варёная смола, крутой кипяток) – Википедия
[Закрыть], побольше и поменьше, с крутыми высокими крышами, ощетинившиеся зубцами. Чуть подальше барбакан у ворот, граненый, с отверстиями, из которых защитники могли бы поражать врагов. Я посчитал башни: со стороны нашего тракта было их видно девять граненых в первой линии стен; кроме того: барбакан у одних ворот и две круглые башни у других ворот, под которыми не было дороги, зато из которых вытекала река; а рядом с первыми воротами еще и донжон, несколько выдвинутый перед плоскостью стен, так мне, по крайней мере, казалось, что это именно донжон. Стены были опоясаны рвом, воду для которого, наверняка, брали из реки. Над воротами располагался двуглавый орел римской империи.
Над городом, внутри крепостных стен, на холме, большем чем вавельский, высился замок. Когда увидел я его, то подумал есмь: это и есть мне место, тут должен я жить. Высились в небо четыре гордые башни его с коническими крышами и мощными машикулями, они высились над башнями церквей: святого Лаврентия, самыми высокими в городе, если не считать замковых, и святого Зебальда – пониже. В этом замке жил бургграф Фридрих, о чем я не знал, пока об этом мне не сообщил возница.
И никогда я в своем истинном в-миру-пребывании в этом замке не был. Вот если бы бургграф Фридрих знал, что в Норемберк в сей час прибывает казимировский бастерт, принял бы он меня? Пригласил бы в свои комнаты, по крайней мере, затем, чтобы на меня поглядеть?
Не знаю, в замке я бывал потом, в извечном усмертии, и в какой-то из ветвей я наверняка прибываю в Норенберк в красивых одеждах, мой отец все еще жив и прекрасно себя чувствует на краковском троне, я же, по крайней мере, являюсь официальным бастертом. Но как раз этого я почти что и не помню. Помню, как в ветке, близкой к вашей, бывал я в хамке, одетый в мундир гауляйтера края Варты или же в мундире советского генерал-лейтенанта, когда мы пировали в нюрнбергском замке, совершенно чуточку надкусанном минным огнем в 1942 году, а на замковом дворе болтался рейхсштаттхальтер фон Эпп, а шею его, помимо ленты Blauer Max, охватывала пеньковая веревка, и вывалил рейхсштаттхальтер фон Эпп синий язык и обоссал свои бриджи цвета фельдграу, и эта капающая на каменные плиты двора моча нас ужасно смешила. Замечательной была эта ветка истории, которую я ужасно любил, и которую завершил я красивой смертью в Пиринеях в 1944 году, когда меня замучили французские контрреволюционеры, а моим именем, именем красного героя и заводилы, называли школы от Владивостока до самого Марселя. Что же касается набора пыток, дети в школах всего Советского Союза учили, что палачи содрали с меня живого кожу, выдавили глаза и так далее, пока я не скончался. Детям постарше уже рассказывали, что в самом начале пыток мне отрезали гениталии и сунули их в рот – во многих ветках истории это типичный образ пыток в двадцатом веке после рождества Христова.
Возможно, впрочем, и имелась такая историческая последовательность, в которой со мной поступили именно так, но та, которую я выделяю сильнее, четче, и которая мне нравится, закончилась умеренными пытками: меня кололи штыками, пинали, выбили мне глаз прикладом ППШ (захваченного у моего же водителя), после чего меня застрелили, и все, и конец. Хорошая то была смерть, смерть авантюриста и забияки, от рук людей, достойных его убить. Таких смертей у меня было мало.
Больше же всего времени в нюрнбергском замке провел я в ветви Ewiger Tannenberg, в Извечном Грюнвальде, в котором рождался много раз, под знаком Mobilaufmachung и под горящими на небе буквами Сильные, Сплоченные, Готовые.
В замке я служил, подчеркиваю, в свите фельдоберсттраппьера, то есть великого полевого интенданта[30]30
Великий интендант ордена крестоносцев – Wielki szatny zakonu krzyżackiego (niem. der Obersttrappier) – управлял складами одежды, оружейными складами с панцирями. В Пруссии одновременно исполнял функции дзержгонского (кишпорского) комтура. – Из польской Википедии
[Закрыть], генерал-полковника Иоахима фон Эгерна, старого венгерского дворянина, который умирал извечно, точно так же, как умирал я. Я был его кнехтом, а замок высился в небо надменной башней из светящейся, прозрачной, хотя и черной стекломассы. Проживали мы внутри, на последних этажах.
Основание башни давным-давно прикрыло весь старый Нюрнберг, и сейчас в ней размещался Oberstheeresleitung, генеральный штаб, в который были запряжены аантропные чиновники без тел, наилучшие мозги Германии, погруженные в физиологическом растворе солей, запитываемые общим кровообращением и связанные общим стволом мозга, разделяющие совместные сенсорные сигналы миллионов подвешенных над полем битвы дронов, которыми заведовали препарированными, одурманенными наркотиками мозгами людских работниц. То есть там, в солях, плавали: Magister Hospitalis Domus Sancte Marie Theutonicurum Jerosolimitani[31]31
Магистр Ордена Девы Марии Немецкого Дома в Иерусалиме (нем.) – так официально назывался Тевтонский орден.
[Закрыть], или же великий магистр Хармут фон Боеес; далее, великий комтур Карл фон Штернберг, маршал ордена Вернер фон Триер, гроссшпитлер Поппо фон Тунна, орденстресслер Химмо фон Дзялинский. Стенки кровоточили, если на них сильнее нажимал, и мы питались этой кровью, кровью тевтонцев, производимой на Blutfabrik, расположенной в самом сердце Германии, в горах Гарца, внутри лишенной сердцевины горы Брокен, далеко за линией фронта, и эта Кровь текла к заводам, к панцерам аантропных воинов, к конторам аантропных чиновников, и к камерам, в которых проживали людские работницы, и мы, людские кнехты; по вечерам мы перекачивали себе свежую Кровь в кровеносные сосуды, отдавая старую, лишенную питательных составных кровь в систему кровообращения Германии, ибо все мы были одной и той же Крови и той самой плоти, служащие братья и служащие сестры.
А в солях, помимо Генерального Капитула, плавали находящиеся с визитом маршалы, генералы, адъютанты, полковники и секретари, плавали комтуры пятидесяти департаментов, плавал даже сам папа Священной Римской Церкви Германского Народа, Отто DCLXVI[32]32
Если помните римские цифры, легко можете проверить: Отто 666-й.
[Закрыть]. И только лишь Его Величество Кайзер Бальдур Германн DCCCXXXIV Гогенцоллерн, на мириады поколений отдаленный потомок Фридриха V Гогенцоллерна, бургграфа Горенберкаво времена моего истинного в-миру-пребывания, не плавал в солях Oberstheeresleitung, он носил развитое тело егеря и красивый панцирь, исполняя главную роль в государственных церемониях.
И стекал на его панцирь славный Blutfahne, флаг Крови, красный словно Кровь, пересеченный белым и черным, а на боку серебристо-черная шпага, на навершии – солнцеворот, на груди – все регалии, спроектированные мириады лет назад Карлом Бебитшем, великим графиком, с которым я познакомился, подчеркиваю, в ином мире, где он проектировал регалии рыцарского креста Ордена Варягов? Orden der Warager, для тех, кто сражался и победил в России.
А в Ewiger Tannenberg я служил под командованием великого полевого интенданта Иоахима фон Эгерна, который одновременно был бригадиром фрайнахтегерей. В мои ежедневные обязанности входила чистка легкого егерского панциря, в котором Его Превосходительство выходил по ночам на охоту, а в крупных битвах мы шли в эскорте Его Превосходительства, а при каждом выходе из десяти кнехтов не возвращалось восемь, поскольку были мы дешевыми и легко доступными, нас высиживали в работном лебенсборне, где работали малые матери, то есть – людские работницы, которым было приказано размножаться. Аантропы откладывали свое семя непосредственно в лона громадных аантропных самок, их оргазмы были оргазмами обязанности в отношении Крови, но мы, кнехты, обладали остаточным либидо, и как раз для нас в лебенсборнах работали и эротические работницы, с которыми заслуженные кнехты могли копулировать, и которые наше семя переносили в лона малых матерей. Роли малой матери и эротической работницы были разделены.
Мы не ели, не принимали жидкостей, наши пищеварительные тракты были заросшими, поскольку все потребности тел наших удовлетворялись ежедневными переливаниями, которых мы желали сильнее, чем секса; и это были единственные блага, которыми нас вознаграждали – ежедневная Кровь и ее состав, иногда обогащенный горионами, которые возбуждали эйфорию, спокойствие или же агрессивную ненависть, а для заслуженных особей – привилегия иметь потомство и привилегия посещения эротических работниц в людском лебенсборне.
Только Blut была более важной. Blut была нашей жизнью.
Бывал я и на фабрике в пустой изнутри горе Брокен, где Кровь производили аантропы: длинные ряды несколькотонных аантропных печеней очищали старую Кровь, которую мы отдали назад в систему кровообращения; аантропные пищеварительные тракты и поджелудочные железы переваривали любую органическую материю, наши тела и тела наших врагов, павших на поле боя, и выращиваемую для потребностей питания биомассу, все – и насыщали сахаром Кровь, что выходила из Blutfabrik. И железы, что производили гормоны, обогащающие текущую по особенным трубкам специализированную Кровь. Spezialblut.
На стеклянных сосудах с аантропными желудками, печенями, поджелудочными железами и почками были выгравированы их имена и звания, например, Хорст фон Ауэ, комтур Сарагоссы, а рядом к стеклу цепляли кресты орденов, серебряный Deutsches Kreuz или же Kriegsverdienkreuz первого или второго класса.
Визит на Фабрике Крови был наградой за самоотверженность в битве: спасая аантропного полковника фон Паулюса из горящего панцера, я потерял обе ноги.
То было крупное польское наступление: польские аантропные коронные рыцари мчались через ничейную землю с воем двигателей и секли чудовищным огнем. За ними шли тяжелые рыцарские боеходы, это должна была быть придворная краковская хоругвь Матери Польши, так как на панцирях несли они серебристые звезды Ордена Белого Орла, у многих имелись сине-черные ленты Ордена Виртути Милитари, за ними же шли шириной в горизонт людские отряды, служебные мазовецкие, польские, литовские и русские отряды, называемые так исключительно в дань традиции, ибо давно они уже впитались в Мать Польшу. С воздуха наступление прикрывал эскадрон аантропных истребителей, а у нас имелось только лишь пять стотонных панцеров и десятка полтора егерей, еще несколько люфтфарцугов (воздушных суден – нем.); а помимо того – только лишь кнехты, где-то с пару тысяч и спешно привлеченные к рытью окопов работницы.
И мы проиграли. Поляки вошли на сто пятьдесят километров в Германию, и им удалось стабилизировать фронт на Эльбе, под самым Дрезденом, я же попал в плен, нас охраняли литовские неизмененные люди в мундирах с меняющимся камуфляжем. Аантропный польский врач ростом в три с половиной метра ампутировал мне обе ноги, раздавленные люком лаза панцера, и вылечил меня.
После того установили локальное перемирие, и Германия заплатила за нас общий выкуп, поскольку таким был обычай, что когда происходил обмен схваченными аантропами, обменивали заодно и людей. Фон Паулюс, которого несли четыре кнехта во временной люльке для панцер-гренадеров, лишенных своего панцера, успел рассказать о моем подвиге. И вот в награду мне позволили посетить Blutfabrik, где между рядами аантропных печеней мою коляску толкала специально для этой цели назначенная работница.
И я посещал Фабрику Крови, и была это величайшая в моей жизни радость: находиться в самом сердце Германии, глядеть, как спокойно пульсируют аантропы, как нарождается Blut. Работница, что толкала мою коляску, слышала о моем подвиге; потому она не спешила, и у меня было много времени, чтобы общаться с самой сердцевиной существования Германии, потому я поглощал образы, запахи и звуки, самые прекрасные из познанных мною в жизни, и, подчеркиваю, я был очень счастлив, счастьем не экстатическим, но спокойным счастьем, которое следует из правильного прочтения своей Дхармы. Это наиболее интенсивное чувство счастья, которые выделяю я в своем извечном усмертии.
А после визита меня направили в утилизационный центр, где кнехт приставил мне к затылку schlachtschussapparat, нажал на спуск, боек ударил в капсюль, металлический штырь ударил и пробил мой череп, разрушив ствол головного мозга, после чего работницы спустили из меня кровь, прямиком в сосуды кровообращения Германии, и умело разобрали мое мервое, безногое тело на соответствующие части: мясо отдельно, кости отдельно, мозг отдельно, внутренности отдельно, и уже через мгновение меня переваривали желудочные соки аантропного желудка графа Бальдура Германа Гекемагена – графа фон Тротц цу Соч, и стек я в кишку, в аантропного дарм-комтура Жана де Валери, просочился скозь тонкие ее стенки в аантропную Кровь и разлился по всей Германии, давая питание аантропам, кнехтам и работницам. Кровь от их Крови, и все рождается из Крови, живет в Крови, и все в Кровь возвращается. Alles geburt dank dem Blut, lebt dank dem Blut und zum Blut zurückkehrt.
А Тацит писал о древних германцах, будто бы считают они, что только слабые добывают в поте чела то, что можно добыть кровью. Юлиус Штрайхер же утверждал, что мужское семя поглощается женской маткой и тем самым попадает в кровь женщины, так что достаточно одного полового контакта еврея с арийкой, чтобы кровь ее была навсегда отравлена; и даже если бы потом она вышла замуж за арийца, никогда уже не будет у нее детей чисто арийской крови, а только лишь зараженные ублюдки с двумя душами в груди.
Такие как я – ублюдок с двумя душами в груди.
Только Blut в Ewiger Tannenberg была уже устойчивой к подобным заражениям. Ведь человек взаправду умирает, но Кровь его продолжает жить за пределами могилы, а я уже не жил, но моя Кровь жила.
Кровь, которую делил я с Германией, и тек в ее венах и артериях.
И впитался я в вены бригадира и великого полевого интенданта Иоахима фон Эгерна, а он стоял у прозрачной, пульсирующей Кровью стены императорского замка в Нюрнберге и сочинял стихотворение, о фабриках, которые у подножья замка стелились словно опавшие листья у древесного ствола, далеко, вплоть до холмов Франконской Юры, и о сельских полях, на которых бауэры разводят биомассу и поют песни про Blut und Boden, про Кровь и Землю.
Так что сочинял он стихотворение и вспоминал собственное истинное в-миру-пребывание, ибо некоторым приказано всегда помнить все, и тогда-то извечное умирание делается более болезненным. И я тоже всегда помню все.
И писал фельдобертстраппьер Эгерн не свои слова про Blut, он помнил их, словно тень тени, тысячи лет назад, в истинном в-миру-проживании своем записал их человек, о котором здесь еще будет говориться, а потом их повторили мириады времен, мириадами способов, на мириадах языков: кровь глубже, чем все, что можно о ней сказать или написать. Ее светлые и темные вибрации вычаровывают мелодии, которые вводят нас в настроение печали или радости. Они притягивают нас к неким личностям, пейзажам, вещам или же отталкивают нас от них.
И пишет фельдобертстраппьер фон Эгерн, пишет свою поэму: о вечном огне, что горит на самых важных вершинах Германии, на вершине норемберкского замка и на вершине замка в Вевельсбурге, где в вытянувшемся в небо зале в стеклянные стены вплавлены перстни павших аантропных гренадеров и егерей. И на горе Брокен, и на горе Монсеррат, и на наивысших горах Альп и Пиренеев. Пишет бригадир фон Эгерн об арийском огне из космогонии Ганнса Хорбигера: о том, что был в пред началом времен, а наш мир был начат, когда в средину громадного шара из огня попала глыба льда, и тогда вселенная взорвалась, и с самого начала мира сражается огонь со льдом, и имеются всего два принципа космоса: лед и огонь, а сутью существования мира является их Извечная Война.
А на вершине нюрнбергского замка стоит древний, бронзовый памятник работы Георга Колбе, изображающий Хорбигера: металлический философ обеими руками держит громадный факел, в котором танцует громадный, подпитываемый Кровью огонь, святой огонь Рейха и Ордена, священное пламя ариев, индо-германцев.
Истекающие кровью замка вибрируют аккордами ре-минор, и вся Германия тонет в музыке: это "Der Tod und das Mädchen" Франца Шуберта, романтическая, камерная lied для голоса с фортепиано. Фон Эгерн считает, что это самая немецкая из всех музык.
Итак, вначале фортепиано, пианиссимо в ре-миноре.
И просит девушка? не прикасайся ко мне, смерть. Und rühre mich nicht an. И когда просит так, дрожит Германия, бунтует Blut, ибо знают все, что это напрасные просьбы.
И слушает дальше фон Эгерн, как зовет смерть девушку. Как ободряет: протяни мне руку, красавица. Не пришел я[33]33
В немецком языке Смерть – мужского рода (der Tod).
[Закрыть], чтобы карать тебя, прибыл как приятель. Засни спокойно в моих объятиях.
Как же призываем мы такую смерть, смерть, которая утешит, прижмет и заберет, уже навсегда, без пробуждения после вечности, что длится секунду. С какой радостью приняли бы мы такую смерть. И плачет Германия: почему же не приходишь ты, Смерть?
И думает потом фон Эгерн, что хорошо прозвучит Шуберт с гётевской балладой о короле Туле, помещенной потом в "Фаусте", а у Шуберта – опус пятый, пункт пятый: и поет уже тело Германии, поют замки, поют фабрики, поет Кровь, поют меццо-сопрано песнь о короле, которому любимая на смертном ложе подарила золотой кубок.
Фон Эгерн вслушивается в песню, и в смерть короля, который отдал все свое королевство наследникам, полностью, кроме кубка. И хотя приходит эта музыка из иного мира, но есть в ней наилучшее выражение немецкости, а через немецкость – того, чем является мир Ewiger Tannenberg, мир сожженной земли и двух уже и не народов, но двух форм пост-человечества, двух отдельных видов, сплетшихся в извечной и священной борьбе, борьбе, в которой не будет Endsieg, ибо с окончательной победой Ордена или Короны победитель утратил бы смысл существования.