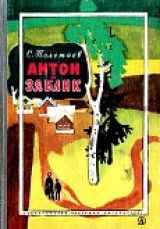
Текст книги "Антон и Зяблик"
Автор книги: Самуил Полетаев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
ПРИВЕТ ТЕБЕ, ТОЛЯ КНЯЗЕВ!
Памяти Г. А. Кольницкого
Ночами Георгий Иванович почти не спал. Он пробовал ложиться, но лежа задыхался. Тогда он садился на кровать и сидел, уронив седую голову на широкие мягкие ладони, часто и коротко дышал. Федосья Павловна, жена его, скатывалась с печки и стояла над ним, скорбно поджав губы.
– Худо мне, Федосья, дыханья не хватает…
Федосья оглаживала его худую, с глубокой ложбинкой, шею, заросшую клочковатым пушком.
– На вот, ноешь сахарку…
Она капала на сахар нитроглицерин и совала ему в рот. Старик безропотно жевал губами сахар, брал Федосьину руку и держал ее, пока не становилось легче.
– Поспи, Фенечка, иди, – говорил он, выпуская руку, и снова сваливал голову в широкие ладони. – К утру полегчает.
Но старуха качала головой и не уходила.
– Иди, иди, – уже требовательно говорил Георгий Иванович. – Будет стоять над душой.
Федосья тихо, на носках, отходила, оглядывалась на него и лезла на печку. А вскоре, заслышав кроткое, детское посапывание жены, он упирался дрожащими руками в кровать, вставал и, стараясь не скрипеть половицами, подходил к окну, всматривался в деревья, расплывшиеся в серых сумерках, в забеленные снегом избы, в небо, чуть тронутое робким зимним рассветом. Он прикладывался губами к стеклу, вбирая прохладу, прикидывал, который час и сколько оставалось еще ждать до утра.
Долго стоять он не мог. От бесконечной зимней ночи, от одиночества и тоски, невыносимой по ночам, от потраченных усилий беспокойно начинало биться сердце, и тогда он торопливо семенил к постели, усаживался и сжимал руками виски.
Старуха за долгие месяцы болезни мужа приноровилась засыпать в любую минуту и мгновенно просыпалась, заслышав скрип и шорох из угла, где находилась его кровать. С каким-то наслаждением и завистью вслушивался он в ее легкое дыхание, с нежностью думал, что хоть немного она отдохнет от него, веселел оттого, что ловко провел ее и не разбудил…
Как-то однажды Федосья разоспалась и не проснулась даже тогда, когда Георгий Иванович прошел в столовую, набрал ковшик воды из ведра и сполоснул усы и бороду.
Все же он, несмотря на старанье, оказался неосторожен. Ковшик, поставленный с краешка, опрокинулся на пол.
– Ах ты господи! – Федосья скатилась с печки, схватила ковшик и бросилась хлопотать.– Совсем, старая, с ума спятила!..
Впервые за долгое время они сидели за столом, завтракали, как люди. Федосья металась от печки к столу, накладывая в тарелку то капустки, то картошки, то ломтики сала. И Георгий Иванович, желая потрафить жене, отведывал всего понемножку. Сидел он на своем привычном месте, в деревянном кресле возле окна, спиною к маленькому столику, на котором в былые времена, когда он еще работал в школе, до выхода на пенсию, лежали тетради и учебники.
– Опять ты яичко передержала, – благодушно ворчал он. – Сколько раз тебе говорено – держать четыре минуты, не более. Зачем я только часики дарил тебе? Живешь, как курица, по солнцу время считаешь…
– Дай-ка я тебе другое сварю. – Она вскочила из-за стола и заторопилась к печке, радуясь придирчивости и насмешливости – благодушному его настроению. – Всего и делов!..
После завтрака старики продолжали сидеть за столом.
– Не покурить ли нам с тобой, Федосья?
– Думала выбросить, да как чуяла: захочешь курить! – Старуха достала из настенного шкафчика, где хранились лекарства, пачку с сигаретами.– Кури, кури, я тебе и муштучок поищу сейчас.
Георгий Иванович пускал дымок из-под усов. Федосья закладывала в нос нюхательный табачок, коротко всчихивала и, прослезившись, смотрела на мужа, в запавший его рот, следила за дымком, который стелился по его сивым, прокуренным усам, по небритой щетине щек – каждая волосина на них в особицу.
Старик не отгонял дымок, наслаждаясь терпким духом, и разглагольствовал. Она привычно внимала его наставительным речам, как делала это все сорок пять лет совместно прожитой жизни, чувствуя его умственное превосходство и в то же время житейскую беспомощность. Как бы он прожил без нее, думала она, без ее расторопности и крестьянской сметки в делах?
Она все еще благоговела перед ним, как и в тот далекий весенний вечер, когда он, молоденький, стройный, с голубыми девичьими глазами, весь затянутый в студенческий мундир, пригласил ее, простую деревенскую девушку, на танцы, которые происходили в доме у священника.
Отец его, известный в округе фельдшер, был человек просвещенный, и женитьбе их не препятствовал. Она родила ему пятерых детей, где-то росли уже внуки, слетавшиеся к ним на лето, чтобы пожить в саду, ночевать в шалаше под яблонями.
Располнела, огрузла когда-то застенчивая, крепко сбитая девушка, но все так же удивленно, словно бы не веря своему счастью (что-то нашел он в ней, неровне себе?), смотрела Федосья на старого, усохшего, но не утерявшего строгой выправки мужа, полная к нему участия и грубоватой нежности.
Покурив, Георгий Иванович сказал:
– А не заняться ли нам, Фенечка, с тобой делами? А то, глядишь, помру, как ты одна без меня распорядишься?
Федосья замахала на него руками, однако он так посмотрел на нее поверх очков, что она тут же примолкла и бросилась доставать чемоданы, как он и велел.
Занимались делами обстоятельно, не торопясь, Федосья сидела на чурбачке перед открытым чемоданом и, глядя снизу вверх, выслушивала его указания.
– Этот костюм ношен немного, пускай Василий заберет. Выпустишь, будет в самый раз.
– Васеньке, – кивнула Федосья, как бы затверживая то, что надо запомнить. – Материал-то, помнишь, вместе покупали, а костюм тебе шил Архип из Подруничей. Денег еще брать не хотел: детка, мол, в ученье у тебя, как же деньги брать? Помер, царство ему небесное, всю ниточку свою измотал. Все, бывало, говорю ему: куда ты, Архип, торопишься, шьешь быстро, нитку свою измотаешь, помрешь скоро…
– А мы, глядишь, не торопились и до сих пор тянем, – усмехнулся Георгий Иванович.– Ну, а это что? Картуз? Ну, теперь таких не носят, можно и на огород повесить, отменное будет пугало. Или отдай Пивикову, он ему для самодеятельности сгодится.
– Ладно уж, Пивикову твоему! – Старуха сердито спрятала картуз. – Который месяц лежишь, хоть бы разок зашел, бессовестный!
– Все же картуз отдай ему, пускай поминает старого директора. А это что за комбайн?
Георгий Иванович взял у жены мраморный чернильный прибор – подарок учителей, сообща купленный ему к шестидесятилетию и не поставленный на стол только потому, что точно такой же был ему подарен к пятидесятилетию.
– Башню эту, я думаю, ему же, Пивикову, отдашь, пускай в учительской поставит.
– Да куда же? Тут ведь написано!
– Вот и будет памятка от меня. Посмотрит и вспомнит, кто школу зачинал. Кое-что и мы, значит, сделали на ниве просвещения.
По улице проходил молодой человек – одет легко, не по-зимнему, под мышкой портфельчик. Старый учитель посмотрел в окно и поцокал языком.
– Эка важна птица! Кожанка, как у начальника. Видать, метит в район удрать.
– Это кто – Куцевалов? А чего ему здесь делать, там семья у него. Торопится А не подумает зайти сюда, почет тебе оказать.
– Бог с ним. Какие у него со мной дела-то…
Федосья вздохнула и положила перед мужем связку общих тетрадей, перевязанную тесемкой.
– А эту папочку кому же? – спросила она.
– Конспекты мои. Просил он их у меня, Куцевалов… Не знаю, дать их сейчас? В тот раз отказал я ему. Нет бы порыться в книжках, самому составить, все бы на готовенькое. ..
Он надел очки, развязал тесемку, снял верхнюю тетрадь, раскрыл ее и углубился в чтение. И что-то бормотал про себя, пока Федосья стирала пыль с других папок.
– Как, скажи, напишешь ты «по прежнему»? – спросил он вдруг Федосью. – Вместе? Ан, нет – через черточку. А у меня, видишь, вместе, как раньше писали. Нет, пожалуй, не отдам, а то еще будет учить ребят по старой орфографии.
– Куда же их?
Старик пожевал усы, размышляя.
– Отдай-ка их Маше, пускай к себе повезет. Ремонт они затеяли, под обои стены оклеить сгодятся.
Федосья развернула платок, извлекла коробку, в которой что-то звякнуло, и спрятала обратно.
– А ну-ка, давай! – Он раскрыл коробку, вынул оттуда трудовой орден и военные медали, потер их рукавом.– Положь на виду, с собой их возьму. Мое – оно со мной и уйдет. А то потаскают ребята их заместо игрушек.
Они долго сидели, перебирая альбомы, шкатулки, подарки, в немалом количестве полученные от учеников, учителей и различных организаций за долгую учительскую жизнь, вороша старые домашние вещи, аккуратно собранные в чемоданы и ящики еще несколько лет назад, после того как он вышел на пенсию и отошел от школьных дел, всецело уйдя в домашнее хозяйство, сад, огород и другие заботы, которыми раньше, но занятости, не мог и не хотел заниматься.
Старик приустал. Он откинулся на спинку кресла и выглянул в окно. С горки, начинавшейся у самого их двора, катались на санках ребятишки. Георгий Иванович постучал пальцем в стекло.
– Эй, за что же ты ее? – крикнул он, сердито вглядываясь в кучу малу под горкой. – Не слышит, сорвиголова!.. Эк его, эк!.. – горячился он, видя, как мальчишка, весь распахнутый, растерзанный, опрокинул девчонку головой вниз и норовил утопить в сугробе. – А ну-ка выдь, Федосья, задай ему, бандиту!
– Да сгинь они, окаянные! – Федосья открыла форточку. – Цыть, дурной, вот я тебе!..
Мальчишка вскочил, оглядываясь и не понимая, откуда кричат. Понял наконец, рассмеялся и тут же снова схватил девчонку. Но на этот раз девчонка оказалась проворней, на помощь ей подлетели подружки, они схватили мальчишку, перевернули вверх тормашками и затолкали в сугроб.
– Ну, это вот правильно, – рассмеялся Георгий Иванович и устало отвалился от окна.
А Федосья, чертыхаясь, сошла со стула и снова уселась на чурбачке.
После обеда Георгий Иванович подремал в кресле, проснулся и, удивляясь легкости, с которой дышалось ему, снова пристроился к окошку и смотрел, как торопятся куда-то парни и девушки, – кажется, в клуб, где сегодня танцы.
Редко кто из школы навещал Сторожева. Первое время после выхода на пенсию кое-кто, правда, захаживал – потолковать об учебных делах, порыться в литературе. Но постепенно отвыкли. В школе появились новые, приезжие учителя, вовсе не знавшие его – основателя школы и долголетнего директора.
Прошло уже больше трех лет, как болезнь сердца приковала его к дому. Старик часами просиживал у окна, следя за прохожими, то и дело справляясь о ком-то из них у Федосьи, потому что теперь она была лучше его осведомлена в деревенских делах.
Вот и сейчас, как обычно, он сидел у окна и как бы жил вместе с улицей, наслаждался светом, исходившим от снега, закуржавленными деревьями, курганом за озером, отливавшим ярким солнечным блеском. Глядя на этот курган, он часто сокрушался, что так и не осуществил заветной своей мечты – построить там школу, над самым озером. Школа до сих пор ютилась в двух старых избах, ребята учились в две смены, а начальные классы по два теснились в одной комнате. А ведь колхоз был богатый! При нескольких председателях поднимал он вопрос о строительстве школы, да все поважнее находились дела. Так и стоял тот курган укором его совести, укором его большой и вроде небесполезно прожитой жизни.
Смотрел учитель на курган, и старые угрызения шевелились в нем: помирать собрался, а не сделал задуманного, не докончил спора с нынешним председателем Князевым – бывшим учеником своим Толей, известным в районе человеком, о котором много говорили и даже писали в газетах. Человек хозяйственный, он закладывал в колхозе одну ферму за другой, построил сельпо, чайную и даже гостиницу, каких по селам нигде еще не было, но школьные дела обидно презрел: отобрал у школы овражек, заросший леском, и вырубил деревья на жерди под летние загоны для скота. Однако же и не отказывался выслушивать Сторожева.
– Мне бы ваши заботы, Георгий Иванович, – усмехался он и похлопывал учителя по плечу. – Не печальтесь, однако, все понимаю. Вот поставим колхоз и за школу возьмемся. Всему свой черед.
Но черед до школы так и не дошел. Сколько лет Сторожев на пенсии, а о новой школе ни звука, никто и не вспомнит.
А ведь что за место там, за озером! Словно бы сама природа подумала о школе: недалеко от деревни, чистое мелкое озеро, строй здесь лодочную станцию, разводи рыбу, высаживай фруктовый сад по склонам! Какой бы школьный городок раскинулся здесь – всем на удивление и на радость! Нет, не хватило сил усовестить ученика, не нашел учитель слов, чтобы передать ему свою мечту.
Вспоминались Георгию Ивановичу споры в отделе нар-образа, на собраниях сельсовета и колхозного правления, и, словно было все это недавно, он обидчиво поджимал губы, сосал мундштучок и чувствовал, как снова вскидывается сердце. Чего-то не усмотрел он в своем ученике, а ведь способный был паренек, цепкий на разум, быстрый на решения. Но, помнится, не хватало и тогда ему мягкости. Ребят легко подчинял себе, но мало с кем дружил. Хоть бы зашел когда к своему учителю! Вон и сейчас пропылила снегом председательская «Волга», промелькнула под окнами, унеслась в район, – привет тебе, Толя Князев, от старого твоего учителя!
– Федосья, а Федосья!
– Чего тебе, милый?
– Глянь-ка, у тебя глаза помоложе, это не Князева ли сынок?
– Он самый, Федька…
– То-то, я гляжу, отцова ухватка. Куда он торопится? Как думаешь?
– Знамо дело куда – в клуб, на танцы небось.
Старик разгладил усы и подмигнул жене.
– Вот что, Феня, выйди-ка на улочку, позови мне молодца. Разговор к нему.
– Какой еще разговор? Чего надумал?
– Есть разговор, раз прошу.
Федосья накинула на плечи платок и зашлепала на улицу. Старик видел, как они постояли на улице. Федя, пожав плечами, неохотно пошел за ней, пошел вперевалку, засунув руки в карманы.
– На танцы торопишься? – спросил Георгий Иванович, оглядывая подростка в свободном голубоватом пиджаке, из-под которого выступала редкая по деревне белая рубашка и узенький галстук. Старик насмешливо передернул усами: все как полагается! Брюки дудочкой, туфли шильями, прямо как из города.
– Вижу сам – торопишься, даже шубу не надел. В каком классе учишься?
Федя переминался с ноги на ногу, снисходительно улыбался, а старик назойливо осматривал его, примечая отцовские черты: такой же широкий, решительный лоб, такие же навыкате прозрачные глаза. На заносчивой губе уже пробивался пушок. Отец рано стал обнаруживать страсть ко всякому хозяйствованию, а этот, поди, норовит в пижоны, в городские тянется. Как только отслужит армейский срок, разве удержишь его в деревне?
– Придется тебе обождать, – сказал Георгий Иванович, чувствуя недрогнущую свою власть над учеником, наслаждаясь смущением и развязностью, которую старался напустить на себя паренек. – Дело, значит, есть, – строго добавил он, заметив кисловатое выражение на его лице. – И не к тебе, а к отцу.
Лицо у паренька оживилось, выказав одновременно и радость оттого, что не его, значит, распекать собираются неизвестно за что, и готовность выслужиться перед отцом, которого боялся.
– Ну-ка, Фенечка, дай-ка мне ту пачечку, с ленточкой. ..
Взяв стопку тонких ученических тетрадей, он развязал ее, выбрал оттуда две тетрадки.
– Теперь дай-ка мне руку, пройдем с тобой в сарай…
Вместе они, Федосья и Федя, одели Георгия Ивановича и, поддерживая, вывели из дома. Во дворе, ослепленный солнцем, старик прикрыл глаза, судорожно зевнул от изобилия морозного воздуха, постоял, пережидая, пока пройдет головокружение, потом неровной походкой медленно пошел к сараю.
В стылых сумерках сарая лежали в углу и на полках, прибитых к стене, инструменты, ящички, картины, свернутые в рулоны, столярные и слесарные поделки – много всяких памятных вещей, сделанных им самим, его учениками и собранных здесь после разных школьных и районных выставок.
– Вон видишь ту рамочку в бумаге? – показал старый учитель. – Достань-ка и стряхни с нее пыль.
Они постояли во дворе, пока Сторожев, раздувая усы и потирая прихваченные морозом руки, отдыхал.
– А теперь давай-ка пройдемся по саду…
Старуха пошла в избу, а они долго и неторопливо ходили мимо законопаченных ящиков с ульями, деревянной баньки, мимо деревьев с тяжелыми от снега ветвями. Цепко вглядывался Георгий Иванович в каждое дерево – всех их, высаженных собственными руками, знал он, как своих детей и учеников.
– Не пробовал моих яблочек? – спросил он Федю. – Летом приходи, с этой отведаешь. Привил я грушевую ветку к яблоне, замечательный вкус.
Федька молча, с принужденной обязательностью и застывшей скукой в глазах поддерживал старика, а тот приостанавливался, отдувался и все говорил, беседуя с деревьями :
– Старая ты, пора тебе на спил. Места много занимаешь, а толку чуть… А тебя пересадить бы надо; густо растешь, а яблочки худые… Ну, а ты еще поскрипишь…
И он оглаживал сломленную, стоявшую на подпорках, яблоню, стелившуюся ветвями по снегу.
Старик ступал своими разношенными валенками по сугробам, опирался на Федю и все толковал с деревьями: кому-то пенял, а кого и хвалил, словно проводил с учениками собрание. Федя услужливо смотрел на него своими прозрачными глазами, а сам думал: «Рехнулся старый, разболтались шарики, черт те что плетет!»
– Ну, пошли, а то замерз, поди, – сказал Георгий Иванович, пошел к избе, схватился за дверной косяк и оттолкнул Федю от себя. – А сейчас возьми рамочку, тетради да прихвати еще книжек и домой отнеси. Ну, иди с богом, а то я устал.
И уже из окна видел старик, как Федя, зажав под мышкой стопу с книжками и размахивая рамкой, бежал без оглядки по деревне. И не мог, конечно, видеть, как парень влетел в избу и, наскочив на мать, сбросил поклажу у порога.
– Ты что это притащил?
– Да вот Сторожев, учитель, дал. Я в клуб, а он в дом к себе призвал и дал вот. Не знаю, чего тут…
– Ну-ка, погодь чего это он вдруг? Неси обратно.
– Да нет, нельзя, больной он шибко.
– Чего это он вдруг раздобрился? ..
Все же, когда сын убежал, мать освободила рамку от бумаги, рассмотрела, покачала головой и вынесла в сени, а книги спрятала в чулан.
* * *
Ночью, впервые за долгое время, спокойно спал Георгий Иванович. Федосья посидела у изголовья, погладила мужнину руку, лежавшую на одеяле, потом полезла на печку и тут же заснула. А под утро проснулась, в окошке брезжил веселый рассвет, но сердце захолонуло: тихо в избе.
Муж лежал на животе, рука его свисала с кровати, пятерней упираясь в половицу, живая и напряженная, словно, сползая, он придерживал ею тело, чтобы не упасть. Федосья осторожно сошла с печки, повернула его на спину и перекрестила.
– Прости меня, Жоржинька. Как же это я проспала? – И заплакала.
* * *
На третий день после похорон Князев возвращался из города, где проходила районная партконференция. Узнал он о смерти Сторожева от женщины, которую подсадил в пути. Спросил, как похоронили и не надо ли чем помочь вдове. Но, подъезжая к правлению, успел о Сторожеве забыть.
А вечером, придя домой, увидел в сенях рамку. Постоял возле нее, силясь вспомнить, откуда бы ей взяться здесь, но так и не вспомнил.
– Это зачем? – спросил он.
– Федька от Сторожевых принес, – сказала жена. – Я вот в сарай вынесу. Старику блажь перед смертью пришла – картинку какую-то… – Жена схватила ее, чтобы вынести, но Князев отобрал и внес в избу…
Федя готовил уроки. Он обернулся и уставился на отца.
– Ну-ка, что здесь, прочти…
Князев подал сыну картину, и тот, запинаясь, прочел на другой стороне выведенную химическим карандашом, уже изрядно выцветшую надпись на грубом холсте:
– «Дорогом… Георг… новичу… Пейзаж… ученик– седьм… класса Толя Князев…»
Отец сел на стул, забрал у сына картину и, сощурившись, долго вглядывался в домик на размытом светлой зеленью бугре и кустарник, слабо отраженный в голубой заводи. Он отставил картину, провел кулаком по глазам, чувствуя, как горячей тяжестью наливаются затылок и шея, вытащил папиросу и закурил.
– Подкузьмил ты меня, Егор Иванович, подкузьмил,– сказал он, затягиваясь дымом.
– Еще книжечек каких-то прислал, – добавила жена. Она принесла из чулана связку, подала ему и отошла к печке, спрятав руки под фартук.
– На похороны ходили?
– Да ить народу-то было слава богу, а нам в аккурат дрова привезли, разгружать когда же…
– А ты?
Федя уставился на кончики своих туфель.
– М-да… – вздохнул Князев и махнул рукой.
Он перелистал книги, полистал тетради и сдвинул их в сторону. Потом встал, подошел к окну, задумчиво и долго смотрел на курган за озером, над которым вставала луна.
По небу торопливой чередой неслись низкие облака. Луна то скрывалась за ними, то снова вспыхивала, бросая отсветы на озерную снежную гладь. Казалось, это маяк из дальних пределов посылал сюда тревожные сигналы.









