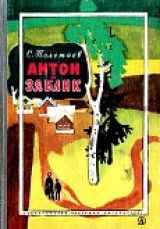
Текст книги "Антон и Зяблик"
Автор книги: Самуил Полетаев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Глава седьмая
Клава была в новом цветастом платке, глаза ее блестели, на щеках играли ямочки.
– Здравствуй, Панас, – сказала она. – Может, позавтракаешь?
Панас оглядел ее сверху донизу, ладную да стройную, смущенно прокашлялся и развел руками:
– Кормить нас будешь, а дело не сделано. Не пойдет так. Ты мне покажи лучше, где тут у вас Паныч прописан.
Тетя Маруся подала бечевку. Панас обмотал ее вокруг ладони и подергал.
– Авось да небось – может, и выдержит.
Ивка первым побежал в сарай. Паныч стоял в углу и чавкал, двигая пустым корытцем. И не обернулся, когда в сарай люди вошли.
– Так-то ты гостей привечаешь? Попанувал, и хватит. – Кузнец оглянулся на женщин и кивнул, показывая на выход: – Вы, бабы, оставьте нас, мужиков, тут одних, а сами подите укроп готовьте да лампу разогрейте…
Ивка выхватил из-за голенища француза, взмахнул им, как саблей, свистнул женщинам – дескать, вон выходите, сейчас мы делом займемся. Но мать схватила его за руку, отобрала штык и потащила за собой.
– Без тебя тут обойдется, – сказала она.
Ивка упирался изо всех сил, а все же она вытолкала его из сарая да еще и подзатыльник в придачу дала.
– Не горюй, – сказал Панас. – С бабами лучше не связываться, ты же и виноватый будешь…
Он взял у Клавы штык, спрятал за голенище.
– Управишься один?
– А кто его знает. В нем пудов шесть, почитай, а я еще не ел с утра.
– Я ж говорю, позавтракать надо сперва…
– Да это он себе цену набивает, – сказала Маруся. – Что ему, впервой, что ли? И на восемь пудов управлялся один.
– То восемь, а этот помоложе, прытче будет.
Паныч застыл над корытом, подозрительно скосил глаза и стал неуклюже разворачиваться, чтобы проскочить во двор.
– Быстрее выходите! – крикнул Панас. – А мы тут запремся и побеседуем с ним.
Ивка рвался в сарай. Мать поймала его и еще шлепка дала.
– Наглядишься еще!
Совсем разобиделся Ивка: вместе штык точили, вместе готовились, а теперь близко не подпускают. Он уселся на крыльце и скучно смотрел на сарай, на женщин и решил: ни за что не подойдет к ним. Но когда из сарая послышались хрип и возня, Ивка не выдержал, глаза округлились, подбежал к сараю и приник к щелке. Панас сидел на хряке, со лба кузнеца стекала толстая капля.
– Заснул наш Паныч, – вздохнул он и ребром ладони каплю смахнул. – Можно заходить.
Хряка вытащили во двор, разложили на соломе. Он лежал теперь успокоенный, крупный, седой, и, слегка ощерив клыки, улыбался. Женщины суетились в избе, прибирали кухню, готовили «укроп» – горячую воду. Из-за плетня глядели ребятишки. Больной Василий тоже не утерпел – слез с печки и возился в сенях, пытаясь наладить паяльную лампу. На помощь ему пришел Панас, и вскоре лампа густо загудела, выбрасывая голубой, пушистый огонь, похожий на лисий хвост.
– А теперь мы его погреем, – сказал кузнец, присел на корточки и стал водить огнем по шкуре, как парикмахерской машинкой.
Огонь заревом растекался по туше, и щетина, обугливаясь, сворачивалась в трубки, отваливалась и копотью падала на серый снег.
Работа была не простая. Грели кабанчика и со спины, и с боков, «разували» – снимали с копытцев роговые оболочки, потом ножом счищали нагар. Как только кончался воздух в паяльной лампе, Ивка бросался к ней, накачивал и, пока кузнец отдыхал, на весу держал гудящую лампу и бил огнем по шкуре, как водой из брандспойта.
– Теперь повернем на другой бок.
Все, кто были во дворе, – Панас, женщины и ребятишки – ухватили поросенка за ножки и перевернули на другой бок. Ивка накачивал лампу и не отрывался от Паныча.
– Помоем мы его, как младенца, и будет он у господа бога как именинник, – сам с собой говорил Панас. – Теперь с сальцем и зима не страшна, много мужику от него разного довольствия.
Женщины слушали, как кузнец беседует с собой, переглядывались. А Ивка думал, что теперь хорошо будет: поправится отец, начнет работать, мать продаст на базаре сало, купит разные разности, а ему, Ивке, новые книжки, потому что скоро ему уже в школу пора. Много всяких приятных мыслей передумал Ивка, пока палили поросенка.
А потом из сарая вытащили санки, взвалили на них поросенка, обмыли «укропом», и начал Панас полосовать широким ножом, разделывая тушу. Клава не отходила от него: то полотенцем кровь с бороды сотрет, то брусок подаст нож поточить, то со смехом скрутит цигарку – это оттого, что руки у него кровяные. Ивка давно не видел мать такой – быстрой и веселой. И Панас похож сегодня на озорного чубатого парня: глаза голубые, так и блестят, так и светятся, как уголья в горне.
Припекало солнце. Из-под снега текли ручейки. Ветерок, как котенок, возился с соломой, гоняя ее по уголкам двора. У старых ракит за сараем набухли почки, издавая горьковатый запах. Уже чуялось лето: черничные поляны, земляничные кладовки, брусничные закрома. Ивка представлял, как бегает по лесу, по полю, и от мыслей этих радостно дышалось. Скоро май придет, приновится деревня; заплещут флаги над школой и сельсоветом, пойдет гулять-колесить молодежь – мальчишки на велосипедах, парни в обнимку с девчатами; бабы все нарядные, в цветастых сарафанах и пестрых платочках. И в толпе этой видел Ивка Панаса и мать – вот таких, как сегодня: Панаса – чубатого, с подстриженной бородкой, а мать – совсем как школьницу, бедовую, с ямочками на щеках. И отец с ними: руки кренделем, цигарка в зубах, идет приплясывая.
Тетя Маруся набрала крови от поросенка, подала кузнецу ковшик и попросила испить. Панас прижал к шее бороду, подмигнул Клаве и запрокинул голову.
– И мне! – подскочил Ивка.
– На? вот, отведай чуть! – Панас передал ему ковшик. – Будем мы с тобой побратимы теперь.
Ивка чуть отведал и погладил себя по животу.
– Теперь силы в тебе много будет, – сказал Панас и двумя пальцами, как клешней, сжал ему руку повыше локтя. – Глянь, и верно, силы много!
Ивка оглядывается: на ком бы свою новую силу испробовать? На взрослых не испробуешь. Ребята, что глядят из-за плетня, пожалуй, на одного навалятся – не одолеть.
И вдруг увидел Мурку-беглянку, бросившую своих котят. Она стоит возле сарая, отощавшая, паршивая, жадно смотрит на поросенка и облизывается. Вот на ком испробовать свою силу! Но так просто ее не возьмешь, надо хитростью. Ивка взял кусочек мяса и подразнил издалека:
– На, Мурка!
Мурка слишком старая и опытная кошка, чтобы поддаться на такой крючок.
– На, Мурка, на!
Ивка приближается к ней. Мурка стоит на месте, вытянув морду и не двигаясь с места. А он подходит все ближе и ближе. Присел на корточки и вытянул руку. И тогда Мурка, пригибаясь, почти стелясь по земле, поползла навстречу… и оказалась в руках у Ивки.
Мурка еле вырвалась, прыгнула через плетень и исчезла в бурьяне.
– Будешь знать, как бросать котят! – грозил он кулаком. – Покажись теперь только!
А Мурка взяла да и снова показалась – появилась возле сарая, жалобно смотрела на Ивку: дескать, прости меня, вернусь я к котятам, буду хорошей! Все это прочел Ивка в ее зеленых нахальных глазах, поверил ей и не стал больше ловить. Он был добрый, Ивка, и бросил ей кусок мяса.
Глава восьмая
В избу набились друзья и родные. Из кухни в горницу носились женщины, готовя угощенье. Панас резал сало на полосы, солил и укладывал в кадку: вниз – куски потолще, выше – куски поменьше, а сверху – совсем маленькие.
– Ножки – на холодец, – говорил он, откладывая их в сторону, – а эти шматки к рождеству пойдут. К престольному вот эти сгодятся. Ну, а эти к октябрьским останутся. А сюда, значит, положим кусочки на гробки? – покойничков помянуть…
И выходило, что Паныч весь год будет участвовать в крестьянских трудах и праздниках. Панаса слушали со вниманием, словно бы он лекцию читал, даже Василий свесил голову с печки.
Ивка ухватился за дужку от кадки, но отодрать от пола не смог. Будто прибили бочонок к полу гвоздями.
– А ну-ка, мужики, помогаем ему.
Все мужчины, что были в избе, отодрали кадку от пола и перенесли в сени.
– А теперь, дорогие гости, пожалте к столу, – пригласила Клава.
Гости рассаживались. Клава поливала Панасу из ковшика прямо над тазом. Панас мыл руки с мылом, потом с ладони плеснул на бороду, круто отжал ее и расправил надвое, блестящую, курчавую.
– Эко борода, как у Маркса! – сказал Василий, подсаживаясь к столу, и все оглянулись на него, потому что заговорил он, кажется, впервые за долгое время, а это был добрый признак, и сразу стало веселее за столом.
– Во-во, – подхватил Панас. – Вся сила у меня в ней. Как улягусь спать, бородой укроюсь. Да и кладовка в ней у меня – все, глядишь, крошка застрянет…
– Ну, чистый Маркс, – смеялись в избе. – Только что помоложе.
– А что? – Панас оглядел гостей. – Я, как из армии пришел, на заводе работал, так говорили мне: далеко пойдешь, Панас, башка у тебя да руки очень соображают по металлу…
– А что ж ты в городе не остался?
– Про это дело лучше у Лариски моей спросите. Не захотела.
Женщины торжественно внесли сковородки с жареной кровью, печенкой и шипящим салом. Ивка первым схватил кусок, и никто не одернул его, потому что знали – работал он вместе со всеми и право, значит, имел. А когда разливали вино, Василий принес себе другого, и никто не знал, что это простая вода, потому что мутного пить со всеми не мог, а портить общего веселья не хотел. А Ивке налили смородинового квасу.
– У меня своя, малость покрепче будет, – сказал Василий и чокнулся с Клавой, с Панасом и со всеми гостями.
Ивка выпил квасу полную кружку, навалился на закуску, выбирая куски потолще, и ел не торопясь. Успокоил первый голод, заметил: что-то изменилось в избе. Стены раздвинулись, потолок приподнялся, за столом посветлело. Гости стали видеться, как в кино, – крупно и ясно, и какими-то особенными были Панас и мамка, сидевшие рядом. Глаза у Панаса прозрачные, как вода из лесного ручья, а мать совсем как девчонка. Подавала Панасу самые поджаристые кусочки, и тот, оглядев кусок с разных сторон, прятал его под усы, а когда жевал, борода шевелилась как живая.
И за кого не пили! За отца, за мамку, за гостей, и за него, за Ивку, и за мир во всем мире, и за всех ребятишек на свете. От шума гудела изба.
Только вдруг за столом все примолкли. Тихо стало, слышалось даже, как ходики стучат. На столе объявился незваный гость – Барсик! Как очутился он здесь, непонятно. Лапами прижимал кусочек печенки, рвал зубами и мотал головой, урчал и кашлял, бросая злые взгляды вокруг, будто кто собирался добычу отнять. Ивка хвать его за шиворот – вон отсюда, усатая шельма! Но взрослые не дали, смотрели на Барсика и улыбались, а тот целый спектакль давал. Панас, перебирая на столе пальцами, подкрадывался к нему. Барсик настораживал уши, готовый драться, а когда пальцы убегали обратно, снова принимался за печенку.
А где же Стрелка? Ивка выбрался из-за стола, поискал ее и нашел на лежанке. Стрелка следила за солнечным зайчиком, годила лапкой, пытаясь прижать его к рядну, но зайчик переползал по лапке. Глаза неотступно следили за ним, круглые и удивленные. Обнюхала кусочек сала, подсунутый Ивкой, но есть не стала, отвернулась и снова – шлеп по зайчику! Хотела схватить его и уволочь, а тот не давался…
Обидно Ивке за Стрелку. Оставил ее в покое, укараулил минутку, схватил Барсика со стола и в угол уволок. Барсик успел зацепить печенку и сидел за печкой с набитым брюхом, еле дышал. Никто не мешал ему – ешь свою печенку, жадина! А он и есть уже не мог, но на всякий случай все равно бросал грозные взгляды вокруг.
Ивка пролез под столом и уселся Панасу на колени. Что бы тот ни делал, Ивка все за ним повторял. Панас потянется к сковородке, Ивка тоже кусочек возьмет. Панас губы оближет, Ивка тоже облизнет. Панас бороду погладит, Ивка тоже почешет себе подбородок.
– Чистая обезьяна! – смеялись за столом. – Цирк!
– Панасу бы только с ним и возиться! Своих-то нет…
Он бы, Ивка, пошел к Панасу в подручные и не вылезал бы из кузницы, помогая в делах.
Из горницы принесли гитару, передали Панасу.
– Слазь, – сказала Маруся. – Панас нам что-сь сыграет…
Панас погладил гитару ладонью, поковырял струны грубыми, в заусенцах пальцами и задумчиво сказал:
– Забыл я, как играется, давно не играл.

– Спой, раз общество просит.
– Ну, разве что старинную… Только уж все вместе. – И затянул баском:
Я ли в поле да не травушка была,
Я ли в поле не зеленая росла…
Затянули вразброд и гости. Да только сразу как-то выбились из разноголосицы два голоса: один Панасов – хрипловатый, гудящий и осторожный, словно боялся дать себе полную силу, чтобы не заглушить другой – чистый и задумчивый, нежный и высокий мамкин голос.
Взяли меня, травушку, скосили.
На солнышке в поле иссушили…
Тихо и грустно звучала песня, унося всех за деревенскую околицу, в дальние поля и леса, где мир был светел и широк, где хоровод водили ветер, солнце и облака и где бродила по тропочке девчонка, жалуясь на печальную, горемычную участь свою:
Я ль у батюшки не доченька была,
У родимой не цветочек я росла…
Песня отзвучала и замерла. Из дальних полей, из-за сельской околицы вплыли в избу лежанка со Стрелкой, навострившей уши и забывшей про зайчика, отец, закрывший глаза, притихшие гости за столом. Лица у всех были добрые и задумчивые.
– Складно у вас получается, – сказала тетя Маруся и смахнула слезы с ресниц.
– А вы что же не поддержали? – спросила Клава.
Она отодвинулась от Панаса и стала торопливо прибирать стол.
Когда это появилась Лариса в избе? Никто и не заметил – сейчас вошла или давно уже стоит и слушает? Она едва умещалась в дверях, стояла, поджав губы, уперши руки в бока. Клава первой увидела ее, засуетилась виновато, принесла на сковородке сала и обтерла стакан полотенцем:
– Сейчас вина принесу.
Лариса метнула взгляд на Панаса:
– Забыл про наряд-то? Федор что тебе сказал?

– Подсаживайся, кума, – стали упрашивать гости.
– Когда ж поспеешь сделать-то? – Лариса повысила голос. – Кабы Федя не племянник мне, давно бы из кузницы прогнали тебя, бездельный ты человек!
– Да куда ж его из кузницы? Сам он ее по бревнышку сложил, как же так-то?
– А вот так-то! – распалялась Лариса. – На то он и бригадир, на то и власть ему большая дадена!
– Да где ж еще такого кузнеца сыщут?
– Захочет и прогонит, – куражилась Лариса, чувствуя, как распирает ее от силы и власти, даденной племяннику Федору. – Скажет председателю, его и прогонят взашей!
– Прогонят! – засмеялись в горнице. – Его в Стратонове ждут не дождутся, сварщик в РТС им требуется.
– Да он в город на любой завод устроится, чего он здесь не видел?
– Возьмет и сам уйдет отсюда, – шумели гости. – Чего ты к нему цепляешься?
– Да подавитесь вы с ним, с разлюбезным своим! – освирепела Лариса. – Да на кой он мне, леший, сдался? Да что я в нем, голодранце, не видела?..
И пошла, и пошла, и пошла – никому слова молвить не дает, все сидят, слушают да переглядываются.
Панас встал из-за стола, повел широкими плечами.
– Утишься! – сказал он и ласково так, укоряюще посмотрел на нее. – День еще не кончился, успею сделать наряд. Не порти людям праздника…
Лариса глянула на мужа, тут же и осеклась, словно бежала и споткнулась вдруг. Из сеней вышла Клава с бутылкой вина.
– Некогда мне распивать, – сказала Лариса подобревшим голосом. – Дел-то моих никто за меня не сделает.
– Ну возьми хоть сала с собой.
Клава увела ее в сени и открыла кадку:
– Бери!
Лариса деловито разгребла верхний слой, извлекла из-под низа кусок, прикинула на ладони, положила сверху кусок поменьше и присыпала солью.
– Ладный-то кабанчик, – сказала она. – Пудов на восемь потянет.
– Где уж! В нем и шести не будет. Рано мы его порешили. Кабы не Васина болезнь, ему еще погулять надо…
– Как же шесть? Что я, не знаю, не видела? Да и по кадке видно – все в нем семь, не менее.
– Кто его знает, не замеряла…
– Я и говорю – семь, не менее. Тряпица-то у тебя есть завернуть во что?
Клава принесла чистое полотенце. Лариса рассмотрела на нем вышитых петухов и аккуратно завернула.
– Полотенце опосля тебе верну, не волнуйся. – И, не оборачиваясь, крикнула в избу: – Сколько ждать-то тебя?
Панас вышел, сильно пригнувшись в дверях, пошел за Ларисой, держась поодаль. Сразу опустело в избе, от веселья не осталось и следа. Ивка бросился к окну и долго смотрел, как удалялись Панас и Лариса.
Глава девятая
Было утро следующего дня. Мать вошла в избу и присела к столу. Оторвав клочок от газеты, карандашом стала что-то подсчитывать, поднимала голову, смотрела в угол и снова писала.
– Ты что, мам, пишешь? – спросил Ивка.
– Ой, не спрашивай, сынок! Все считаю, что купить надо. А что мы с поросенка выручим, неизвестно – свинина нынче дешевая очень.
Потом вместе с Ивкой Клава выкладывала из кадки куски свинины. Ивка помогал ей и вспоминал вчерашнее. Почему это так, думал он, праздники проходят, а потом приходят скучные дни? Разве так нельзя, чтобы праздники никогда не кончались? Выдумывают себе люди заботы, а без них разве не лучше? Вот и мать – вчера веселая, молодая, новая какая-то была, а сегодня надела старый ватник, дырявый платок, в глазах суета… Даже и не посмотрит открыто, душевно, глядит будто на тебя, а сама прикидывает, считает и соображает, как выручить побольше.
Мать положила в корзину сало, каждый кусок оглядела и огладила, пересыпала крупной солью, укрыла чистой тряпицей.
– Ну, Вася, я пошла. Поешь, что в печке оставила.
Василий кивнул со своей верхотуры.
– Смотри, как бы не угорел. Печь-то я сильно истопила. А ты, сынок, за отцом поухаживай. Подай что надо.
И ушла. И остался Ивка один. Правда, был отец, но это все равно что один – с ним не поиграешь, не поговоришь. А занять себя чем-то надо, иначе от скуки помрешь. Ивка стащил котят с печки и стал учить их стоять на задних лапках. Стрелка валилась, как кукла, лежала недвижно, вяло отбивалась – все в толк взять не могла, чего от нее хотят. А Барсик – тот прыгал на задних лапках, пытаясь достать кусочек мясца, но, убедившись, что его водят за нос, рассердился и больно царапнул Ивке руку и даже попытался вцепиться в нее зубами.
– Иди к своей мамке! – рассердился Ивка и вышвырнул котенка во двор.
Мурка жила в сарае, часто пряталась на чердаке, но в избу не заглядывала – помнила Ивкину выволочку. Своих котят она не признавала, отвыкла, да и котята привыкли без нее. Барсик перебежал двор, остановился, увидев воробья возле лужи, встопорщил шерстку и замер. Воробей чирикнул и улетел – привет! Задрал Барсик голову, подождал – не вернется ли? – и побежал к мусорной свалке за сарай, где были у него свои тайные дела.
Ивка постоял у окошка, поводил пальцем по стеклу – звук получился глухой и хриплый. Тогда он смочил кончик пальца слюной и снова потер. Теперь звук был звонкий и чистый. На печке зашевелился отец – видно, звуки пришлись ему не по душе.
– Тять, тебе чего? Воды не подать? – спросил Ивка, вспомнив про мамкин наказ.
Отец кивнул в знак согласия. Ивка принес воды и стал соображать, как бы отца повеселить. Вспомнил, что у них есть домино. Правда, несколько фишек не хватало, но играть можно.
– Тять, в стукалку сыграем?
Отец пошевелил пальцами – не надо, мол. Включить бы радио – не работает. Тогда Ивка залез к нему на печку и стал усиленно рассматривать его лицо. Хотелось ему повозиться с отцом, вот и смотрел он: понравится это отцу или нет. Но по лицу отца ничего нельзя угадать. Глаза его закрыты, синие прожилки на веках дрожат, словно бы от сильного света. Ивка чутьем вдруг понял, что отцу сейчас не до него, и вообще ни до кого, надо оставить его в покое. От отца пахло так же, как от печки, сухим кирпичным теплом, на груди коробилась чистая полотняная рубаха, на животе сложены руки, прозрачные, мягкие, с заскорузлыми бледными ногтями.
– Тять, а тять, отчего ты тихий такой? – спросил Ивка, чего-то испугавшись.
Отец приоткрыл веки. Серые глаза его с огромным усилием заострились, выбираясь из плена другой, новой жизни, в которой он жил, далекий сейчас от всего, что занимало сына. Блеклые губы медленно зашевелились, обнажив редкие зубы.
– Погуляй, сынок, иди. Мне ничего не нужно, а тебе тут скучно.
Скучно, это верно. Но как же сразу так вот уйти? Может, попросить отца рассказать сказку? Но отец знал одну-единственную сказку про Ваню-дурака, который пугал всех зверей, а потом нарвался на медведя и не рад был своим проказам – еле вырвался. Эту сказку Ивка знал наизусть и готов был прослушать ее снова, но разве станет отец рассказывать? Нет, лучше не просить его.
– Тять, а тять, я тебе сказку расскажу, ладно?
Это он здорово придумал – самому рассказать, и отец сразу согласился, даже протянул руку и потрепал его по щеке. Ивка придвинулся к нему и начал:
– Ну, так слухай, я тебе про Конька-горбунка. Слухаешь? За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе – на земле жил старик в одном селе… Ну, а дальше я складно говорить не буду, а так… Ну и вот, были у него три сына… Слухаешь?
Ивка долго рассказывал, переживая похождения Иванушки-дурачка и его Конька-горбунка, а потом примолк, прислушиваясь к тихому дыханию отца, – отец спал.
Ивка слез с печки, вышел во двор и ошалел от солнца и птичьего звона. Вместе с ветерком прилетели из оврага звоночки-бегунки, они звенели и звали его, дразнили и щекотали слух. Ивка не стерпел, взбрыкнул ногами от приволья, как жеребенок, скатился по склону оврага и полетел к кузнице.
– К тятьке своему побежал, – сказала одна из баб, стоявших у колодца. – Ишь рад как…
Ивка бежал, брызгая по лужам, взлетая на кочки, перемахнул ручеек, обогнул кустарник, увидел маленькую кузницу с красным огоньком, пылавшим в черном нутре ее, и только тут подумал: о ком же это бабы говорили у колодца? Кто же это к тятьке своему побежал? Он огляделся. Кроме него, Ивки, никто никуда не бежал. Значит, про него это сказали? Но ведь он бежит не к тятьке, который лежит сейчас на печке, а к Панасу. Так ничего и не понял…
Влетел Ивка в кузницу, пролез в свой всегдашний уголок за точильней, устроился там, чувствуя, как приятно защекотало в горле от привычных запахов раскаленного железа.
Панас и Илья не оглянулись на Ивку. Панас рассыпал молоточком трели по наковальне, Илья, отставив ногу, подпрыгивал, обрушиваясь молотом по лемеху. Били они усердно и ожесточенно, – наряд большой, времени мало. Все же Ивке обидным показалось, что после вчерашнего веселья Панас даже не кивнул ему, не подмигнул, как всегда, будто совсем не приметил его прихода. И радость в душе его, вызванная солнцем, птичьим гомоном и дробью от наковальни, стала меркнуть и тускнеть…
Панас и Илья поменялись местами. Илья поворачивал поковку, дробь получалась у него дряблая и нестройная, а Панас, вздыбив усы, впивался в поковку светлыми глазами и наносил ей удары, словно убивал змею. Бил он с остервенением и страшной силой, поковка плющилась и корежилась, извиваясь в предсмертных судорогах.
Ивке наскучило сидеть в углу без дела, он влез под точильню и подгреб рукой старую подкову.
– Не балуй! – крикнул Панас и прижал ее ногой.
Ивка ударился головой о перекладину, вылез из-под точильни, почесал затылок, уселся в уголочке, отвернулся к стене, расставил глаза от обиды, чтобы не уронить нависшие слезы. С наковальни прыгали искры, сердитые и опасные, как пчелы. Дым стал едким и удушливым, дышать невозможно. Кузница показалась дряхлой и промозглой – стены грязные, унылые, в них теснился тоскливый сумрак, и в этом сумраке резко выделялись хмурые, злые лица кузнеца и его подручного. Илья сбросил наземь поковку, сплюнул, снял рукавицы:
– Все! Не буду я больше хребет ломать. Пускай сам работает!
Сбросил рукавицы и Панас и достал кисет:
– Ладно, не гуркуй. Поработаем малость…
– Мне еще навоз вывезти на огород.
– Поспеешь. Никто не вывозил.
Илья облизал губы и огляделся:
– Куды ведро подевалось?
– Лариса взяла его, – сказал Панас.
– На кой шут оно ей?
– Да оно из дому, ругалась…
– Только и знает, что ругается… Ну-ка, парень, чем торчать без толку, сбегай за ведром да и воды принеси. Живенько!
В избе никого не было. С печки слетела курица и, кудахтая, забилась в дверях. Ивка осмотрел ведра, стоявшие в углу, взял то, в котором вода, и поставил в дверях. Сам не зная почему, не вышел сразу, а взобрался на скамейку и стал рассматривать раму с фотографиями. На одной из них, самой большой, были парни и девки. Вон лицо знакомое – черные брови, крупные губы, родинка на щеке. Неужели тетя Лариса? Очень уж худая на фотографии, но все же это она. А вон чубатый паренек с живыми, едкими глазами. Неужто Панас? Нет ни бороды, ни усов, только в глазах что-то знакомое. А рядом что это за тоненькая, застенчивая девушка в пестрой косынке? Да это же Ивкина мать! Ну да, она – у них в доме в альбоме есть карточка, где мать почти такая же.
Ивка услышал шаги, спрыгнул со скамейки и в дверях столкнулся с Ларисой.
– Это кто же хозяйничает тут?
Ивка подхватил ведро. Она вырвала ведро и дала ему подзатыльник.
– Ты что сюда бегаешь бесперечь? Хаты своей нет?
Ивка чуть не задохнулся от гнева. Исподлобья, бычком, глянул на Ларису и ринулся в дверь, но она схватила его за плечи и так крутанула, что он отлетел на середину избы, споткнулся, упал и ударился головой о ножку кровати.
– Ох, матушки! – испугалась Лариса, бросилась к нему и подняла с полу. – Что я с тобой, окаянная, сделала!
Судорожно прижав его к себе, к мягкому животу, она закачалась с ним по избе, как с младенцем, охая и причитая:
– И за что ты покарал меня, господи, и-и-и!..
Она плакала, обливала Ивку слезами, голосила не стесняясь, гладила и чмокала его в щеки своими толстыми губами.
– И за что мне такое наказанье, и-и-и-и!..
Ивка задыхался в ее жарких объятиях, за шиворот ему падали чужие слезы. Противно и в то же время жалко было ее, толстую, несчастную, охваченную каким-то горем. До того непонятен был этот поток причитаний, что сразу забылась боль в затылке и расхотелось реветь.
– Ой, что же это я, дура! – спохватилась она, присела на скамейку, деловито высморкалась в платок и счастливым голосом сказала: – Дай-ка я ножом шишечку твою призабью!
Ивка лежал на ее просторных, толстых коленях, съежившись, тихо постанывал от боли, пока она вдавливала шишку, а потом невмоготу ему стало, он скатился с колен и схватил ведро.
– Я пойду, ладно? – сказал он. – Воды в кузню понесу…
Лариса нахмурилась и поджала губы.
– Ведро взял не то, – сказала она сухо, словно и не разливалась в ласковых словах. – На вот тебе это. – Вылила воду и подала другое ведро – мятое, с погнутой дужкой. – Воды сами наберут. Иди, да пускай ведро починит!
Ивка набрал в ручье воды, оставил ведро возле кузницы и, не заходя туда, побрел домой. Затылок, утихший было, вдруг снова заныл от боли, боль стала нестерпимой. Ивка всхлипнул и побежал. Шлепая по лужам и не разбирая дороги, проскочил мимо своей избы, бежал, пока не очутился за деревенской околицей, в поле, где ничего не было, кроме редких кустарничков, снежных островков да бурых метелок прошлогоднего ковыля.
До самого вечера, до первых звезд, проклюнувших низкое небо, бродил он в чаще, ковырял хворостиной ноздреватый лед в лужах, еще плотный под слоем воды, слушал птичий пересвист и думал, что есть на свете иные края, где люди живут веселые, добрые, счастливые. Он смотрел в небо, в нем померкивали звезды, но взгляд его притягивала одна из них – она выделялась, струила спокойный васильковый свет. Ивка смотрел на нее и думал о том, что хорошо бы полететь к ней на ракете, взять с собой Стрелку и жить там одному, без людей. Так он ходил по чаще, пока не примолкли птицы. В лужах звучно и таинственно лопались пузыри. Это, наверно, возилась нечистая сила, укладываясь ко сну…
Ивка пошел домой. В избах горели огни, цепочкой тянулись над оврагом, перемешиваясь со звездами на горизонте.
В дом Ивка не вошел – он стоял на огороде и смотрел, как мелькает силуэт матери в освещенном окне. Мать прошла в сарай, оттуда послышалось, как струйки молока бьются о подойник – сперва звонко, потом все глуше и тише. С полным ведром вернулась она в избу. Ивка, давно не евший, сглотнул слюну и смотрел, как ходит мать по избе, возится у печки и что-то подает отцу, который сидел за столом.
Ивка знал: мать приехала с базара, накупила там разных разностей, и не может быть, чтобы и ему не купила гостинца. Но он упрямо стоял за оградой, маялся от желания войти и не входил, растравляя себя мыслями о своих обидах, о том, что не переступит порога избы, уйдет отсюда куда глаза глядят и никогда не вернется, никогда!
Мать появилась в дверях, вгляделась в темноту, запахнула платок на голове и торопливо прошла в калитку. Ивка пробрался в сарай и улегся на сухой соломе. Вдруг показалось ему, что из угла смотрит Паныч, смотрит и хитро подмигивает: что, брат, обидели тебя, Ивка? Вспомнилось, как Паныч был совсем еще маленьким, игрушечным, розовым, повизгивал от нетерпения, когда выносили миску с едой. А потом Паныч вырос в горбатого и сильного хряка, вечно рыскал по двору в поисках корма. И еще обо всяком думал Ивка…
За калиткой послышались шаги двух человек. Он затаился и почти не дышал.
– Что же делать? Где искать? – говорила мать вполголоса, входя во двор. – Ехала я, ровно сердце екнуло: что-то случится! Ой, лихо мне!..
Странное, жестокое наслаждение испытывал Ивка, вслушиваясь, как всхлипывает мать. «Плачь, плачь! – думал он без всякой жалости. – А мне-то каково?!»
– Ничего с ним не случится, – тихо гудел Панас. – Дура-то моя обидела мальца ни за что ни про что, да и я нехорошо обошелся с ним. Сидел он в кузне, потом за водой пошел, а вернулся, вижу – лица на нем нет. Оставил ведро и куда-то сиганул. Я-то думал, дома он давно.
Мать всхлипывала, а голос Панаса гудел заискивающе и виновато. Ивка жалел их, мать и Панаса, в носу чесались слезинки, но выходить из укрытия не хотел – пускай, пускай помучаются!
Взрослые перешли на шепот, трудно было разобрать, о чем они говорят, только отдельные слова долетали до Ивки:
– Бабьи все сплетни. Хлебом их не корми, дай языком почесать.
– Не от Ларисы ли разговоры пошли? Баба-то она дикая, все может…
– Не станет она. Детей она жалеет.
– А ты ее жалеешь…
– Кабы не жалел, давно бы ушел. Мне по кузнечному делу где хочешь работа найдется. Да на кого оставишь ее? Того и гляди, руки на себя наложит…
– Вот и жалей всех, жалей! Себя одного не жалей…
– Такой уж уродился. И тебя мне вот жаль…
– Уж как-нибудь без жалельщиков проживу, – сказала она вдруг громко, со звоном в голосе. – Господи, ну куда же он подевался, чертенок? Ивка, Ванятка!..
– Не шуми ты! Здесь он, куда ему деться?
– Где здесь?
– Да рядом где-то прячется…
Установилась жуткая тишина. Ивка услышал, как страшно бьется сердце его, колотится, как пташка, попавшая в силок.








