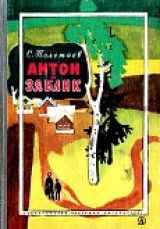
Текст книги "Антон и Зяблик"
Автор книги: Самуил Полетаев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
НАТАША
Филька снял с себя сапоги еще во дворе, приподнял щеколду и тихо прошел в избу, стараясь не скрипеть половицами. Время было позднее – второй час ночи, но мать еще не спала.
– Явился, полуношник! Ты тут маешься, дулу изводишь, а он шляется где зря. Говорил с бригадир м-то?
Филька не ответил, взял со стола кусок творожного пирога и полез на печь. Она проводила его осуждающим взглядом, повернулась к мужу, спавшему рядом, и сердито толкнула его:
– А ты что себе думаешь? Слышь, Герасим?..
Муж закряхтел, поворачиваясь.
– Спи ты. Ночь, гляди, – проворчал он.
– Успеешь выспаться. Я об нем одна должна думать? Ты что, не родитель ему?
Она встала, села на кровати, опустив ноги на пол.
– Из Сосновки послали ребят в город учиться на полный кошт, а ты, значит, хуже других? Иль отец твой в чинах больших и денег не знает куда девать? И за что меня бог наказал, какою радостью наградил за горькую жизнь мою?
Филька жевал пирог, чувствуя бессильную жалость к матери, но и не слушал ее, потому что знал все наперед, что она скажет, не в первый раз уже. Мать долго не унималась: всхлипывала, сморкалась в платок, поминала старшего сына, мальчишкой подорвавшегося на немецкой мине, наставляла мужа и корила беспутного Фильку, которого не мытьем, так катаньем положила себе вывести в люди.
Герасим безмятежно храпел, однако жена невзначай толкала его, чтобы слушал. Он кряхтел, огрызался:
– Выключи свое радио-то, – и снова засыпал.
Филька дожевал пирог, вздохнул, сожалея, что не взял куска побольше, а слезать не хотелось, чтобы лишний раз не тревожить мать, и так конца не видать ее причитаниям. Растянувшись наперекос, чтобы ноги не свешивались с печки, он натянул на голову тулуп и сладко поежился под ним, вспомнив бригадирову дочку Наташу, смешной ее белый передничек, косички с бантиками, и уже не мог отвязаться от смутных и сладких видений.
И чего в ней такого, сам не понимал. Худенькая, ершистая, на язык озорная, – только где бы ни был, всюду была она с ним, по пятам ходила и в душу смотрела, преданно и укоризненно. Вот и сейчас мелькала перед ним, прыгала в глазах, вертелась и никак не давала заснуть.
Мать сошла с постели, напилась воды, подоткнула тулуп, свисавший с печки.
– Поговорил бы завтра, а? – ласково попросила она.
– Ладно, – буркнул Филька, подобрал ноги, стараясь не растерять видения, колобродившие в его уже сонной голове. – Поговорю я с Наташкой. Она, может, того. .. скажет отцу.
– Вот и ладно, сынок.
Мать тут же примолкла и на цыпочках пошла к постели, уселась на нее, длинно зевнула, перекрестила рот и толкнула храпевшего Герасима.
– Господи, помоги ты ему в разум войти, дураку моему. ..
На следующий день Филька вернулся с фермы до обеда. Он надел чистый пиджак, натянул хромовые сапоги, смазал маслом вихор на макушке и пошел к школе. Он стоял напротив калитки, подпирая спиной телеграфный столб, курил и небрежным взглядом провожал девчонок, выходивших из школы.
– Здравствуй, Филечка. Кого поджидаешь?
– Проводи меня, Филя, а?
Старшеклассницы хихикали, стреляя в него глазами, а девочки помладше показывали язык. Но Филька был невозмутим. Завидев Наташу, он пропустил ее вперед и пошел за ней, огромный, широкий в плечах и сутулый, исподлобья глядя ей в затылок. Она замедлила шаги и откинула голову, будто идет себе не торопясь, ни до кого ей дела нет. Но от Филькиного взгляда не ускользнуло, как покраснели под косичками маленькие уши и напряженной стала спина. «Рада», – подумал он, перекатывая папиросу в зубах и ускоряя шаги. Однако Наташа свернула В сторону и скрылась в дверях сельсовета.
Скосив глаза на часики, Филька взошел на крыльцо и присел на перила. Побалтывая сапогами, он терпеливо ждал, курил и звучно сплевывал на середину улицы.
– Ты чего это расплевался здесь? – Наташа вышла и насмешливо уставилась на него. – Другого места не нашел?
Филька щелчком отшвырнул недокуренную папиросу и неторопливо слез с перил.
– Мне книжку поменять нужно…
– Закрыто. Не видишь, что написано? А книжка-то где?
– Дома осталася, – ухмыльнулся Филька.
– «Осталася»!-передразнила она. – А сам три месяца держишь.
– Мне всего десять страничек дочитать. ..
– По складам читаешь, что ли?
Они сошли с крыльца и шли теперь, не таясь и не смущаясь друг друга, меся осеннюю грязь и не обращая на это внимания, и долго препирались насчет книжки, не сданной в библиотеку, благо можно ни о чем другом не говорить. А когда разговор выдохся и наступило неловкое молчание, Филька вспомнил про семечки, выгреб из кармана полную горсть и насильно сунул ей в белый передник, задержавшись пятерней в тесном кармашке.
– Не люблю я их, – сказала она, осторожно и как бы между прочим вытаскивая его руку из кармашка.
– Щелкай! – грубо сказал он, покраснев, и бросил себе в рот несколько семечек.
Теперь они шли, усердно лузгая семечки и радостно молчали, потому что семечки вполне заменяют разговор. На всякий случай, зажав портфель под мышкой, Наташа делала вид, что идут они как бы не вместе, а случайно сопутствуют. Однако приятно было знать, что Филька рядом, что дойдут они вон до того вяза и еще дальше пойдут, и до самого ее дома будут идти вместе. И оттого, что не хотелось так вот сразу прийти и расстаться, она поневоле замедляла шаги.
– Ты чего в клуб вчера не пришла? – спросил он.
– Некогда, вот и не ходила. Уроки за меня ты, что ли, сделаешь?
– А мне что! Могу и сделать…
– Ой, умру! За что же тебя вытурили?
– Сам ушел. Мать старая, батька хворый. Работать кому-то надо?
– Велика работа – из коровника навоз вывозить. ..
Филька сразу приотстал от нее, лицо его стало скучным. Тоска прямо – едят его все, кому не лень: мамаша, папаша, школьные учителя, а тут еще и эта. ..
У самой калитки Наташиного двора он, однако, нагнал ее, ухватился за планку ограды, помутузил носками грязь, покраснел и не своим, чужим каким-то голосом сказал, не глядя ей в глаза:
– Ты вот что… ты бате своему скажи… того… пусть меня от колхоза отчислит учиться, а? Как ребят из Сосновки…
Наташа повернулась к нему и вскользь оглядела его ушастое, красивое мальчишеское лицо, с глазами, как у взрослого парня, сонными и нахальными.
– С чего это ты вдруг? – удивилась она. – Сам из школы ушел, а тут проспался…
– То школа, а то техникум – разница. Поучусь на животновода или еще на кого, а там снова вернусь. А?
– Бе! – Наташа без стеснения, в упор глядела на него. – А я-то здесь при чем? Почему меня об этом просишь?
– Ну, замолвила бы словечко. Убудет с тебя, что ли?
– Ой, а я-то думала – чего провожать увязался? – рассмеялась она и вдруг перед самым носом грохнула калиткой, влетела на крылечко и шумно захлопнула дверь. – Бессовестный!
Филька бестолково постоял, вытащил папироску, сунул ее табаком в рот, сплюнул и пошел обратно, чувствуя, что гора свалилась с плеч. Он со злорадством предвкушал теперь, как врежет матери словечко, только начнет она приставать к нему с разговорами о ребятах из Сосновки. «Я те покажу сосновских! – Он скрипел зубами и плевался дымом. – Тихо скажу, утрешься!» Однако, завидев мать возле избы, судачившую с соседкой, круто повернул обратно и пошел слоняться по деревне.
Вечером Филька пришел в клуб, где плясали под гармонь. Он потолкался среди танцующих, пристроился к доминошникам, стучавшим костяшками об стол, так что стены тряслись, сыграл партию и отвалился – неинтересно. У рыжего Петьки взял гармонь, попробовал подобрать венгерочку и бросил – получалось плохо. Постоял без толку, мешая танцующим, и вдруг схватил толстую Нюрку, покрутился с нею два круга и сразу же оставил, увидев Наташу в дверях.
Расталкивая танцующих, он раскатился к ней и остановился, опустив голову.
– Что хотел сказать?
– Здравствуй.
– Ну, здравствуй. И все?
– Может, станцуем?
Наташа фыркнула ему прямо в лицо, метнулась в сторону и, схватив Нюрку, закружилась с ней в вальсе. Он тупо проследил за ней глазами и полез за папироской.
После вальса он снова подошел к Наташе, смотрел куда-то мимо, сводил брови, шевелил ушами и молчал. Молчал, но все же не отходил, слушая, как она болтает с Нюркой.
– Ой, Наташа, а Филька хочет сказать тебе что-то…
– Да неужто? Не может быть!
– Ей-богу, хочет сказать что-то.
– Правда? Ой, как интересно!
– Это он тебя на танец хочет пригласить, – догадалась Нюрка, – только стесняется…
– Очень кавалер разговорчивый.
– Может, со мной станцуешь? – спросила Нюрка.
Филька скользнул по ней равнодушным взглядом.
– Чего стоишь, как столб? – Она толкнула его.
– Место не купленное. Стою, где хочу.
– Вот и поговорили, – рассмеялись девушки и отвернулись. – Поищем, которые поразговорчивей.
Заиграли русского. Филька вздрогнул, стиснул Наташин локоть и стал тянуть ее в круг. Наташа упиралась, но подружки не пустили обратно.
– Ой, не хочу я, отстань, пожалуйста, – шептала она, но Филька уже вытянул ее на середину.
И тогда она – делать нечего, – притоптывая резиновыми сапожками, нехотя пошла по кругу, обмахиваясь платочком. Филька тоже, как бы нехотя, пошел за ней, обводя всех сонными глазами и с ленцой приволакивая по полу носками сапогов.
Гармонь заиграла живее. С вихляющего шага Наташа перешла на быстрые перебежки. Косынка упала на шею, разлетелись в стороны косички с бантиками, затряслись, как пружинки, а Филька словно бы очнулся и вдруг припустил за ней, отчаянно заколотив сапогами по полу – четче, звонче, быстрее!.. Наташа проворно уходила от него, мягко и дробно пристукивая каблучками, а Филька, разбросав свои длинные руки, как крылья, коршуном кружился над нею, появляясь то с одной, то с другой стороны, не давая Наташе прохода. Но она, хоть и маленькая, но юркая, как пташка, упорхала в просветы, ныряла из-под косолапых рук его, прочь улетала – догоняй, догоняй меня, Филька, Филечка, лопоухий мой, дурачок ты мой!.. Он сужал круги над ней все туже и туже, вот схватит ее, беззащитную, милую, легкую, но она сама вдруг повернулась к нему – пропадай, моя бедовая!.. И пляшут они лицом к лицу, трепещут косички с бантиками, влажный чуб его трясется под козырьком. Гармошка, охрипшая, усталая уже, глухая, бросает свои звуки изо всех углов, керосиновая лампа – сплошной светящийся круг – летает от стены к стене. Бьются в лад сапоги и сапожки, разбивая половицы вдребезги, стены колышутся, готовые упасть, идет веселый, сумасшедший перепляс.
И во всей этой круговерти остановились две пары глаз: Наташины – мерцающие, как омуты, покорные и ласковые, и Филькины – шалые, призывные, бесстрашные – вот схвачу тебя, улечу с тобой! И ничего и никого уже не видят они, крепче слова связанные взглядами...
В клуб вошел Шурка Рокотов – слепой гармонист. Гармонь вдруг притихла и погасла. Напряженно вытянув шею, словно бы силясь вспомнить что-то, Шурка шел сквозь расступающуюся толпу прямо к рыжему Петьке. Взял гармонь, уселся с ним рядом и в наступившей тишине перебрал тонкими, нервными пальцами лады. Лицо его, страдальчески сморщась, повернулось к Петьке.
– Регистр спорчен, – сипло сказал он.
Петька зашнырял глазами.
– Что ты, Шурочка, откуда?
– Спорчен, дура! – небрежно бросил Шурка, впиваясь слепыми впадинами в Петькино лицо и презрительно вздергивая губу. – Сколько раз говорено – не рви меха!
– Не буду больше, Шурочка! – заюлил Петька и вдруг спросил, хихикнув: -А почему ты вчера не приходил?
– Не мог я вчора, – ответил Шурка, мягчея в лице. – У детишек в школе играл.
– И Зоя Викторовна там была?
– Была, – кивнул головою Шурка и вдруг осклабился в мечтательной улыбке, преобразившей лицо его, беспомощное, доброе и отрешенное.
Теперь он, чувствуя к себе почтительное внимание, мягко развернул гармонь, и полились тихие, согласные, спокойные звуки вальса. И сразу же из толчеи непонятным образом сформировался круг и поплыла по кругу пестрая карусель из парней и девушек в спокойном согласии. Как по команде, пары останавливались, руки взлетали вверх, ладони ударялись друг о друга: хлоп, хлоп! Хлоп, хлоп! И снова медленно и чинно кружилось пестрое колесо, и лентами кружились, свиваясь в кольца и расплетаясь, грустные звуки вальса.
Наташа еле доставала Фильке до плеча, и глаза ее преданно и жалобно смотрели снизу вверх. Филька чуть приподнимал ее от пола и готов был кружить на весу и не отпускать. Пары менялись, Наташа уходила к другому партнеру, но в толчее они быстро находили друг друга глазами и ждали, пока распорядок танца снова сведет их в пару. И она опять с радостью клала руки ему на плечи и послушно кружилась, вытягиваясь на носках, и расширившимися, беспомощными глазами все глядела, глядела на Фильку, ушастого, доброго, близкого…
Гармошка поднялась на самую высокую ноту, всхлипнула вдруг и смолкла. Карусель остановилась.
Наташа вырвалась из Филькиных рук и затерялась в толпе, а он все еще ходил, покачиваясь, и ловил ее глазами, прислушиваясь к отлетающим звукам, звеневшим где-то у него внутри. Но вот замерли они, отзвенели в ушах, и тогда очнулся он, увидел все на своих местах и вразвалку пошел к сцене, где играли в карты, странно безучастные к тому, что происходило в зале, к музыке, к танцам, к Филькиному счастью. Он вырвал у одного из игроков цигарку, затянулся, выдохнул и напряженно свел брови, всматриваясь в раскиданные по столу карты.
– Сёмку своего сдавай, – посоветовал он.
– Это мне-то Сёмку? Ты что, свалился? А он что сдаст?
– Ну, ходи, как знаешь. .. Мне-то что.
И отошел от играющих. Столкнулся в толпе с толстой Нюркой, оглядел ее невидящими глазами, потрепал по щеке. Она радостно вспыхнула, но он тут же забыл о ней, выбрался на улицу и там долго смотрел в небо, на низкие звезды, глубоко дышал ночной прохладой и чувствовал, как бьет к вискам кровь.
Из клуба выпорхнула Наташа. Протопала мимо Фильки, совсем ему посторонняя, все убыстряя шажки – частые, мелкие, дробные. Он постоял, прислушиваясь, ринулся за ней и пошел сзади, не смея нагнать, не зная, что сказать, а сказать надо было что-то важное, главное, единственное, что не давало дышать. Казалось, не скажи он сейчас, сию минуту – все рухнет вокруг и рассыплется в прах. И тогда ничего, ничего уж не надо, не жизнь будет, а сплошная напраслина и бестолочь.
Филька нагнал Наташу у самой калитки и тронул ее за плечо.
– Что? – сухо спросила она.
– Постой…
– Ну стою… Голосом, себе незнакомым, бездушным и вялым, промямлил :
– Ты это самое… говорила с батей?
Наташа молчала. Слышно было, как она сдерживает дыхание.
– Ну, о чем я просил тебя давеча…
– Больше ничего?
– Ничего.
– Нет, ты подумай – может, еще что хотел сказать?
Филька молчал, наливаясь тяжестью. – страшная сила давила его к земле, не давая шевельнуться. В небе погасли звезды, погасли огни в избах, погасла радость, теснившаяся в груди.
– Ну ладно, иди спать, – устало сказала Наташа. – Не могу ведь я, не могу…
И вдруг, схватив Филькину руку, зашептала страстно и горячо:
– Филечка, Филя! Ведь совестно самому, наверно, а? Совестно, скажи?
Лицо ее исказилось от страдальческой гримасы, на глазах выступили слезы. Устыдившись, она оттолкнула его, проскочила во двор и хлопнула калиткой. И тут же, словно дожидался команды, бешено облаял его пес из-за ограды. Филька стоял, не слыша собачьего лая, пока Наташа не исчезла в избе, потом медленно побрел обратно.
Возле дома увидел отца. Герасим покачивался, переступая с ноги на ногу, подавался вперед и снова пятился назад, не в силах одолеть нескольких шагов до дверей. Филька обхватил его под мышки, помог войти в избу и усадил на скамейку.
– Явились? – спросила мать, вставая с постели.
Герасим хихикнул.
– С тебя пол-литру, – сказал он, сдвигая в сторону посуду на столе. – Уважили меня, поскольку я, как инвалид войны, за родину здоровье положивши…
Мать бросилась к столу и с грохотом сгребла посуду к середине.
– Будет брехать.
Она недоверчиво покосилась на мужа.
– Завтра на правлении так и решат: отпустить Фильку, как сына, значит, военного героя, за родину здоровье положивши. И тогда придется с тебя за труды мои и хлопоты еще на пол-литру…
Филька разделся и полез на печку.
– Ладно, герой, – проворчала она, добрея, однако, голосом.
– Скупа ты, мать, ой скупа!..
– Будет те при сыне пакостить мать!
Он пьяно мотал головой и вдруг, словно бы только что увидев Фильку, дико заорал:
– А ты, змей, слазь с печки! Слазь, говорю, да поклонись отцу в ножки!
– Хватит тебе, батя, куражиться, – равнодушно сказал Филька. – Сладил дело, и ладно...
Разобиженный непочтением сына, Герасим всхлипнул и стал стягивать сапоги. Он тужился, стервенея, лил слезы и, наконец, совершенно обессиленный, миролюбиво попросил :
– Помогла бы, старая, что ли...
Мать стянула с него сапоги, раздела и, подталкивая, отвела в постель, откатила его к стенке и прилегла с краю. Филька, натянув на голову тулуп, зажал ладонями уши, чтобы не слушать мать. Говорила она долго, возбужденно И, даже засыпая, что-то бубнила про себя.
На следующий день, вернувшись с фермы, Филька развел на загнетке огонь, разогрел столярного клею, приладил к книжке выпавшие странички и пошел в сельсоветскую библиотеку, где после занятий три раза в неделю книжки выдавала Наташа. В синем халате она сидела за столом и готовила уроки. Книжки выдавали две девочки из младших классов.
– Обслужите его, – сказала Наташа, не отрываясь от учебника.
Одна из девочек протянула руку за книжкой.
– Я не к тебе, не цапай, – сказал Филька и кивнул на Наташу.
– Ты чего еще? – возмутилась девочка и выхватила книжку. – Мы тут практику проходим, а он не отдает…
Филька перевалился через стойку и уцепился за обложку.
– Отдайте книжку, Аникеев! – Наташа встала, покраснела и тут же, смутившись, снова села. – Какую тебе книжку?
Филька ухмыльнулся, довольный ее смущением, и, сам того не ожидая, сказал с некоторым даже вызовом:
– А никакой мне книжки не надо. Уезжаю скоро. До свиданьица. Без книжек проживем. Как-нибудь уж! . .
Он помахал кепочкой и вышел, осторожненько прикрыв за собой дверь, спустился с крыльца и постоял с минуту, соображая, что же это сказал сейчас такое? Удивился, вытащил папироску и пошел не домой, как собирался, а по направлению к станции, хотя и понимал, что в этом не было смысла. Просто ему надо было уйти подальше сейчас и не видеться ни с гомонливой мамашей, ни с придурком отцом, и вообще остаться одному, чтобы подумать, что же делать с собой и как жить дальше.
Шел он, со злостью сбивая ногами будылья татарника, глядел в землю и терзался от горькой мысли, что бестолково и глупо живет он, что худо ему без Наташи, худо…
И знал он, что не уйдет из деревни, зряшные все это мамашины хлопоты, пустые и никчемные, и надо что-то делать, а вот что именно – не хватало на это ни догадки, ни опыта, ни ясного желания.
Филька долго бродил за деревней, по старому жнивью, без пути и тропки, а потом вышел на косогор, откуда виделись леса: один – темно-зеленый, ближний и другой – через луговину – бело-дымчатый, сизоватый, над которым, провисая проводами, тянулась высоковольтка.
Странно: прожил он здесь семнадцать лет, а ведь ни разу не ходил в тот, второй лес и не был близко у высоковольтки, с ее шагающими, паучьи-тонкими столбами, которые вели, наверно, в новые места, в иные края. Что там, в других краях, куда ведут провода? Какая жизнь там, за чертой второго леса, на которую наплывали сейчас легкие светлые облака?
Филька оглянулся на деревню, утонувшую в пожелтевших осенних садах. Как-то она там сейчас, Наташа? Вспоминает, думает ли о нем?
Филька повернулся к лесу и подумал, что до темноты можно еще сходить туда и посмотреть, просто так посмотреть, куда же ведут они, эти провода. И он побежал с косогора, побежал, оскользаясь на мокрой глине, торопясь и не оглядываясь, а когда устал и перешел на спокойный шаг, тоска стиснула его сердце горькой сладостью, стиснула и отпустила…

ПРИЗВАНИЕ
Юртайкин вглядывался в избы, утонувшие в снежных наметах, в тополя и клены, кружевные от снега, и чувствовал приятную бодрость: предстоял долгий путь, вдосталь надышится морозным воздухом, увидит деревеньки в снегу, а ведь это, пожалуй, он не видел уже с детства.
Женщина, шедшая впереди – вместе сошли они с поезда, – то растворялась в белом мареве, то снова показывалась, резко выделяясь на снегу кирпично-розовым полушубком. А вдруг и ей до Угреничей? Юртайкин перебросил чемодан в другую руку и поспешил за женщиной.
– То-то я не признала вас. – Она остановилась, пытливо рассматривая Глеба. – Что же за мной-то увязались? Мне в Старокунье, а вам направо. А идти вам до Угреничей еще верст пятнадцать.
– Значит, лучше вернуться? – спросил он упавшим голосом.
– Теперь уж зачем ворочаться… Лучше так пройдете. Справа целиком, потом ровочек будет, а там на большак выйдете. Может, машина какая попадется. А нет – большаком до Угреничей и дойдете.
Женщина пошла вперед и вскоре нырнула вниз, исчезнув за увалом. Теперь надеяться Глебу уже было не на что – он ринулся по «целику», проваливаясь в снег чуть не по пояс.
Что ни говори, нелегкая жизнь у газетчика! Ради какого-то жалкого очерка о ходе подготовки к весеннему севу в отстающем колхозе терпеть такие проклятия! А ведь описание путешествия могло бы хватить на целый рассказ. В довершение повалил снег – и какой! Вчерашняя метель, улегшаяся было к утру, снова опомнилась и стала кидаться охапками снега.
Сколько он плавал в снегу – час, два? .. Во всяком случае, добравшись до пригорка и усевшись на чемодан передохнуть, он уже не чаял переночевать сегодня под крышей. И вдруг услышал странные, чавкающие всхлипы. Он повернулся и тотчас уперся руками в бревна. Сарай!.. Он не поверил своим ушам: оттуда неслись успокоительные звуки– мерное дыхание, хруп и возня.
– Ну, банда, цыть!.. Пошла, подлая!.. – раздался густой мальчишеский басок.
Из сарая тянулось тонкое позвякивание молочных струй о ведро. Там доили корову. Юртайкин обогнул сарай, оббил с себя снег и пошел в семи низкой избы, но самые окна занесенной снегом.
– Здравствуйте, люди добрые! – объявил он с порога, открыв двери и никого не увидев.
На печке послышались возня, вниз свесилась заспанная женская голова с растрепанными полосами.
– Заходите, – сказала женщина.
– Что, не рады незваному гостю?
Женщина криво усмехнулась.
Юртайкин стал подробно объяснять, как заблудился. Женщина выслушала его без удивления и не сделала попытки сойти.
– Скоро хозяин придет, – сказала она и, помолчав, добавила: – Захворала я, извиняйте…
В избу с шумом ввалился мальчишка – рослый, с румянцем во всю щеку, с подойником в руке. Он поставил его на скамейку, оглядел пришельца сияющими глазами и спросил:
– Это кто, мам?
– Пойди отца позови. К нему, чай.
Мальчишка захлопнул двери, мать отвернулась к стене и больше не поворачивалась к гостю – то ли от безразличия, то ли от полного к нему доверия.
Глеб напился воды, закурил и повеселевшими глазами стал рассматривать комнату, в которой, помимо печи, были еще стол и полати, застланные одеялами и подушками. На стене висела картина, порванная в нескольких местах, изображавшая замок над озером и девушку, кормившую с берега лебедей. На столе трещала лампа-трехлинейка. Под скамейкой мокло что-то в корыте, издавая кислый запах.
– Тут, Сазон, до тебя человек пришел, – сказала хозяйка.
– Здравствуйте, – сказал Сазон и пожал Юртайкину руку, настороженно приглядываясь к нему. – Какое же дело до меня, извиняйте?
Однако Юртайкин не сразу ответил. Он достал пачку папирос и протянул хозяину.
– А у вас взамен махорочки не найдется? – спросил он.
Махорка нашлась. Юртайкин сладко затянулся и только тогда с оживлением повторил то, что рассказал уже хозяйке. Сазон крутил в пальцах папиросу, кивая головой, напряженно улыбался.
– Вы, может, сомневаетесь? – Юртайкин сделал движение, чтобы достать командировочное удостоверение, но Сазон махнул рукой – чего там!
– Не обидите, чай. Снимайте с себя обувку, а я вам валенцы дам. Чего бы нам, Марья, пообедать?
Хозяйка, кряхтя, сползла с печи, но сын опередил ее, сноровисто и быстро вынул из печи чугунок со щами.
– Седайте! – сказал Сазон. Он вышел в сени и вернулся с бутылкой мутновато-зеленой жидкости. – Хворая она, – кивнул он на жену. – Сами здесь и хозяйствуем. Не выпьешь с нами, мать? – спросил он, разливая по стаканам.
Хозяйка придвинулась к столу как-то боком, выпила, ничем не закусив, и присела поодаль, страдальчески закрыв глаза.
– Поясника у ней, – сказал Сазон. – Как скрутит, спасу нет.
Юртайкин открыл чемодан и достал реоперин, он брал его с собой в дорогу на случай приступов радикулита.
– Не попробуете ли этой вот штуки? Иногда помогает.
Хозяйка послушно проглотила таблетку, запила водой, лицо ее разгладилось, стало мягче и добрее.
– Я на печку, мам, ладно?– спросил Ваня.
– Лазь.
Ваня внял лампу, пристроил ее на краешке печки, поднял туда самодельный чемодан с инструментами и, сбросив валенки, залез сам. Лежа на боку, он стал возиться, перематывая проволоку. Как он там управлялся в тесноте, непонятно.
После выпитого почувствовав благодать во всем теле, Юртайкин снова, теперь уже с преувеличением и смешными подробностями, рассказал, как плутал в буране. Ваня скрипел напильником, зачищая пластинку, а сам прислушивался к взрослым и часто всхохатывал – громко и неожиданно, будто от каких-то своих мыслей, а на самом деле от того, что рассказывал Юртайкин. Он прямо-таки изнемогал от смеха, который напал на него, как икота, и хозяйка, глядя на сына, смешливо махала рукой.
– Дурной он у нас, – сказал она, – теперь не успокоится.
От смущения Ваня все еще ковырялся в чемодане, но явно было, что ему не до этого, его так и распирало от интереса к новому человеку, от расположения к нему и сочувствия: угораздило же так заблудиться прямо возле деревни и так недалеко от станции!
От сытости, от тепла, от приятного знакомства в избе установилась та легкая близость, которая располагает к душевным разговорам. Юртайкин все поглядывал на картину с лебедями, и Сазон, перехватив его взгляд, сказал:
– Ты бы, Ваня, показал свою картину, а? Видишь, человек интересуется видом…
– ©то что же, Ваня писал?
– Это еще покойный дед по случаю купил. Да в ней что интересного? Небось на фабрике делалась, а вот Ваня саморучно картины пишет…
– Да ну, что там! – смутился Ваня.
– Покажи, чего уж там чиниться, – сказала и мать.
И пока Ваня, уйдя в чистую половину избы, искал там картину, Сазон чуть притихшим от волнения голосом поведал о сыновних делах.
– Ведь откуда это взялось в нем? Махонький еще был, а что ни увидит – цап и давай разбирать. А теперь вот приемник ладит, на этих, значит, самых, как их, проводниках. Называется. .. э… не помнишь, Марья?
– Зистор, – подсказала жена.
– Во-во! Зистор. Только это баловство. А то ведь он еще художник у нас – картины пишет! Талант, сказать. И все пристает – карандаши купи ему цветные, краски, бумаги там разной, а то и вовсе удумал – простынь утянул! И все себе мажет, все себе мажет… И откуда в нем талант этот? – В голосе Сазона слышались испуг и удивление. Он заморгал покрасневшими глазами и перешел на шепот: – Может, судьба это у него? А? Вырастет и не станет нашу деревенскую лямку тянуть. – И вдруг печально вздохнул, одолеваемый сомнениями: – Да где же в деревне красок достанешь?.. Нет тут красок никаких. В сельпо, считай, одни карандаши. Был я в городе, купил каких было, а теперь когда еще выберешься? А малый картину закончить не может, красок не хватает...
– Каких же это красок? – спросил Юртайкин. – Может, я мог бы достать?
– Да кто их там знает, как у художников прозывается, – белила, охра?
– Охра, – подтвердила жена.
Чувствуя себя в долгу перед этими людьми, Юртайкин вытащил блокнот, прочистил перо в авторучке и стал записывать.
– Да Ваня сам вам надиктует, – сказал Сазон. Он конфузливо проследил за авторучкой, покивал головой и разлил по стаканам остатки вина.
– Да нешто им делать больше нечего? – вмешалась хозяйка. – Не слушайте вы его, мальчишку только сбивает.
– Баба ты темная! Что ты видела в жизни? Лезь себе лучше на печку и знай лежи там, помалкивай.
– И то верно, – согласилась она и полезла на печку, однако устроилась так, чтобы видеть мужчин.
Юртайкин захлопнул блокнот и растроганно посмотрел на хозяев. Сколько их, подумал он, не знающих, не ведающих о своих талантах самородков, живет по глухим селеньям! И разве не удивительно, что этот сивый, с жиденькой бороденкой, тщедушный Сазон и жена его, скрюченная болезнью, прочат сыну дело, такое далекое от крестьянского обихода!
Глеб с умилением подумал о художниках, картины которых украшали стены крестьянских изб. Редко в какой не встретишь клеенок с фантастическими замками, вроде той, что висела напротив, с лупоглазыми оленями на берегу лазурных озер, и девицами, похожими на лебедей. Темнота! Лубок!.. И все же и в этом извечная тяга к искусству. А вдруг в деревенском мальчишке, таком смешливом и простодушном, вдруг в нем настоящий талант, божья, что называется, искра?
– Ваня, ты что там завозился? – крикнул Сазон и добавил тихо: – Очень он у нас стеснительный.
По грохоту передвигаемых в другой половине избы вещей чувствовалось, что парень медлит и переживает. Наконец дверь отворилась, Ваня втащил картину и поставил ее перед лампой. Он отошел и присел на скамейку. Глаза Сазона и хозяйки беспокойно перебегали от картины на гостя и обратно. Юртайкин важно сосредоточился, разглядывая странные деревья на сером фоне, изображавшем не то снег, не то осеннее убранное поле. Он долго молчал, понимая, что слова его будут многое значить для этих людей, с такой робостью взиравших на него, городского человека. Хмель, который поддерживал его приподнятое настроение, стал проходить.
– Это я из головы, – заикаясь, сказал Ваня.
– Из головы, – подтвердил Сазон, как бы подчеркивая: а ведь как получается!
– Краски не хватило, – смущенно добавил Ваня. – Это у меня здесь трава, а здесь вот поляна, а там ручей. Зеленая краска кончилась.
«Ясно: ему просто не хватило краски, чтобы все получилось похоже», – подумал Юртайкин. Плохо все, неумело, прямо сказать – никуда. Но как все это скажешь Сазону и Марье, немолодым этим людям, с такой верой глядящим ему в рот? Как возьмешь грех на душу после того, как открыли они ему самое заветное? Время шло, и молчать уже было неловко.
– А что, неплохо ведь, – сказал он наконец и сразу почувствовал себя уверенней. – Ай да Ваня, ай да молодец! И до деревни дошли, значит, новые веяния. Какой великолепный примитив! Ну, правда, – торжествующе огляделся он на хозяев, – зачем все эти никому не нужные подробности? Дерево это суть дерево, и ничего больше. Не береза, там или осина, а именно дерево. И ведь какое здесь обобщение!.. Плюнь, Ваня, в глаза тому, кто скажет, что это неумелая мазня…








