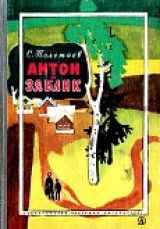
Текст книги "Антон и Зяблик"
Автор книги: Самуил Полетаев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
МЫ – КУЗНЕЦЫ
Маленькая повесть
Глава первая
Колхозная кузница стояла на склоне оврага, спрятанная в зарослях бузины и лещины. Ее ниоткуда не увидишь, кузницу, но зато из нее видно все, что окрест: вон гуси плещутся в ручье, протекающем в овраге, а вон женщины стирают белье в бочаге, гулко хлопая вальками. А если вверх посмотреть, то увидишь, как по краю оврага катятся автомашины, подводы и велосипеды.
В кузнице работает чернобородый кузнец Панас. Он высокий, сильный, еле втискивается в кузницу, а работая, пригибается, потому что иначе голова пробьет крышу и будет торчать наружу, как телевизионная антенна – всей деревне на смех. Вот почему, наверно, и сутулится Панас – ходит, словно боится развернуть свои плечи и ненароком кого задеть.
В кузнице и возле нее много всяких вещей: старые бороны, мятые колесные ободья, пудовые амбарные замки, стертые автомобильные покрышки… Бог весть в какие времена и кому они служили!
Но главные в кузнице вещи: горн с мехами, похожий на древнего дракона – такие в жизни не бывают, а только еще в сказках живут, и наковальня – не наковальня, а огромный перевернутый утюг.
Вместе с Панасом работает в кузнице Илья, его подручный. Дело у него маленькое – качать палку-качалку от мехов и плющить кувалдой поковку. А уж вертит поковкой Панас, – здесь соображать надо. Выхватит ее из горна, швырнет на наковальню, рассыплет молоточком призывную трель, укажет точно, куда бить надо, а уж Илья примерится своей кувалдой да как бухнет. И пойдет по кузнице стук-перезвон, полетят звоночки-бегунки над оврагом, над деревней, над полем, над лесом – повсюду слыхать.
Любое чудо вдвоем могли сотворить: из длинной пластины обод согнуть, из кривой железяки лемех отковать, а из стержня сколько хочешь понаделать скоб, клепок и болтов.
Где бы ни был Ивка Авдеев – дома ли, на огороде или на улице, но как заслышит стук-перезвон, дух захватит от радости, побежит он в кузницу, протиснется в уголок, сядет за точильню, спрячется там, как мышонок, и уставится на горн, похожий на дракона. Дышит дракон своей морщинистой грудью, шипит из горна, как из пасти, злющий-презлющий огонь, а Ивке не страшно с Панасом – тот любое страшилище одолеет!
Очень любил Ивка слушать, как Панас разговаривает. А говорил кузнец не только с людьми, но и с вещами.
Приедет водовоз – колесо на телеге шатается.
– Развезло тебя, сердечного, – скажет Панас.
Это кому же? Водовозу? Нет, колесу.
– Вправим тебе косточку, чтобы ходил как надо, а не плясал камаринского.
Забежит хозяйка с худым ведром.
– Кто тебе ухо оторвал? – спросит кузнец и покачает головой. – Ладно, окажем тебе скорую помощь, новое приладим.
А вещи Панас называл по-своему. Плуг величал старичком, борону – матушкой, скобу – собакой, топор – однозубом, а горн по-человечьи Кузьмой называл.
Однажды ушел куда-то Илья, Панас остался работать один. Сам поковку держал, сам же и молотом плющил ее. Отковал он ее, другую в огонь положил. А тут и Ивку приметил: сидит мальчишка в углу, глазки блестят, угольным смрадом дышит, все ему здесь интересно.
– Откуда ты, мил человек? – Панас насупил серые от пыли брови свои.
– Это я, Ивка.
– Ивка? Постой, где я тебя видел? Не ты ли у меня тут лампочку разбил?
– Это не я, Витька Кашинцев.
– Витька, говоришь? Ладно, разберемся. Ну, а что тут делать собираешься?
– Смотреть.
– За «смотреть» трудодни не платят. Вот что, механик, надевай-ка рукавицы и подержи пруток, а я повеселюся над ним.
Ивка струсил: не шутит кузнец? И так известен своим озорством: ребят ли, баб ли, старух – кто бы у кузницы ни останавливался, любил стращать горячими клещами. Однако делать нечего. Послушно выбрался Ивка из угла, натянул по самые локти Ильевы рукавицы и взялся за железный прут.
– Как жахну, так повернешь, – объяснил Панас. – Как в другой раз жахну, так еще раз повернешь. А теперь начнем. Раз-два!..
И пошла потеха! Ударит молотом кузнец – раз! Прут дергается в руках, только знай держи… Раз-два! Ивка прыгает, изгибается, еле прут удерживает. Искры прыгают вокруг, садятся на рукавицы, на бороду Панасу, мельтешат перед глазами, а Ивке хоть бы что – даже не примечает. А ведь как боялся, когда в углу сидел!
И летят из кузницы звоночки-бегунки, несутся над оврагом, над деревней, над полем и лесом. Тускнеет кончик прута, плющится в лепешку, в бледно-розовый леденец. Слаще меда щекочет в горле от смрадного дыма окалины, по вискам струится пот, заливает глаза. И гудит голова от тяжкой кузнечной работы.
Ну, скорей, давай живей!
Ну, скорей, давай живей!
Ну, скорей, давай живей!
– Маленько отдохнем теперь, – сказал Панас, – а потом и еще одну собаку откуем.
И бросил скобу в точильное корыто с водой. Зашипела она, зафыркала, швырнулась клубами пара и затихла.
Сколько их, собак этих, отковали в тот раз – не счесть! Валялись в углу, на земле, на кучах угля, блестели сизыми боками, остуженные водой и уже неопасные.
– Маленький ты, да ухватистый, – похвалил Панас. – Учиться будешь, выйдет из тебя инженер, не мне, кузнецу, чета… Мне бы это самое… образование, разве сидел бы в этой развалюхе?
Панас достал из-под фартука кисет, раскрутил шнурок и высыпал на ладонь серую пыль.
– Жаль, табачок кончился. Не в службу, а в дружбу: сбегай до моей хаты. Там на окне корешки пошукай и газетку посмотри заодно.
Плескались гуси в ручье. Белое солнце поковкой слепило глаза. Ивка бежал вверх по склону оврага.
– Эй, Ванюш, к нам! – кричали ребята, ладившие плот в бочаге.
– Глянь, а у нас что! – звали друзья, пускавшие змея с моста.
– Некогда мне, – отвечал он и тем и другим. – Я за куревом бегу, я за куревом бегу!..
А сам думал: «Ничего вы не знаете на свете. Мы – кузнецы и вам не ровня, чудаки! Нам бы еще образование!..»
И только чуточку сердце сжималось от страха: а как-то встретит его тетка Лариса, жена кузнеца? Шальная была, нрава крутого. «Не баба, а бес», – говорили о ней.
Глава вторая
Тихо в избе у Панаса, пахнет холодным дымом, под ногами солома шуршит. Из угла мрачно глядит бородатый Христос, сбоку огромным черным ухом висит и молчит на шнуре репродуктор. И еще на гвоздях ножовки и пилы висят. На улице солнце, а здесь еще ночь – сквозь мутные окна едва пробивается свет.
Нету дома Ларисы, отлегло на сердце у Ивки. Прошел он мимо кровати, заваленной ворохом подушек, чуть не споткнулся о кучу ржавых железных пластин, сгреб с подоконника табачных корешков. С пола взлетела курица и, хлопая крыльями, уселась на стол.
– Кыш!..
Ивка смахнул ее на пол, нахальную, услышал, что кто-то протяжно, с подвывом зевнул. Оглянулся и видит – с печки свисают босые толстые ноги.
– Здравствуйте, тетя Лариса, – тихо сказал Ивка. – Дядя Панас просил корешков принести, а еще бы газетки… Где она тут?
– А кто ее знает. Куда положил, там и лежит.
Лариса сидела на печке, ее водянистые глаза еще плавали во сне, но сквозь сон они цепко следили за Ивкой. Цветочный горшок стоял на окне – не горшок, а жестяной тавотный бачок, обернутый старой газетой.
– Можно, кусок оторву?
– Мне что, бери.
– Дядя Панас табачку и газетку просил принести…
И тут Лариса свалилась с печки. Взорвалась будто бомба. Изловив петуха, который скромно стоял под столом, она крепко зажала его меж колен.
– Вернулся, гуляка! Третий день ищу, а он пропадает, поганец!
Распушила его и швырнула во двор. Петух постоял, в себя приходя, похлопал крыльями, пыль с себя отряхнул, вытянул шею и заорал:
«Кук-реку-у-у!»
– В щи тебя, дармоеда! Ишь ты, к чужим повадился бегать!
«Кук-реку-у-у!» – снова пропел петух, грозно оглядываясь.
И тут, откуда ни возьмись, из сарая, из-под крыльца, с огорода сбежались во двор куры, сбились в кучу, смотрят и не верят: хозяин пришел! То-то рады! Какой ни есть – побитый, ощипанный, – а все же вернулся, гуляка!
Ивка топтался в дверях, никак не решался уйти.
– Чтоб ты сгорел с кузней своей! – ругалась Лариса, ища башмаки в куче железного лома. – Все люди как люди, а ему, кроме кузни, и дела нет. Хату в склад превратил, нищета, горе мое, запущенье!..
За вторым башмаком полезла она под кровать. Выползла оттуда, прижимая к груди поросенка. Он дергался у нее в руках, верещал, вырывался, а Лариса – косматая, в перьях и паутине – сияла как солнце, с языка ее ласковым ручейком бежали слова:
– Ах ты буян, ты моя ласточка! Чего голосишь, махонький мой?!
Ивка слушал и ушам не верил: только что ведьмой была, а сейчас бабы добрей не найдешь.
– Ну что уставился на меня, как на картину? – вскинулась Лариса, снова обернувшись ведьмой. – Иди к Панасу: хай ему горько будет с того табаку!..
Панас сидел на чурбаке у входа в кузницу. Что, однако, случилось с ним? В кузнице был богатырь, а сейчас похож на старика: плечи обвисли, глаза воспаленно-красные, щеки серые и грязные, будто не мылся сто лет.
– Шумела? – спросил Панас и усмехнулся печально.
– Угу! – Ивка кивнул и недобро подумал: «Ведьма! Оттого он, наверно, невеселый такой».
– Бывает с ней это. Пошумит и утихнет. Ты не серчай на нее. Мается, бедная.
«Отчего бы?» – подумал Ивка и хотел было спросить, но кузнец взял табак и рукой махнул.
– Иди-ка, пожалуй, домой. К Илье загляни, скажи, чтоб пришел – наряд еще не сделали.
Илья был у себя во дворе, ладил ульи к весне.
– Панас зовет, – сказал Ивка.
Сонный какой-то, ленивый парень Илья, слова от него не услышишь, а тут вскинул на Ивку злые глаза:
– А мне по дому надось что сделать? Ну, тикай отседова, покуда цел!
Дома столкнулся с мамкой в дверях.
– Посмотри на себя, на кого похож!
Глянул Ивка в лужу: на верхней губе копоть – усы отросли, на подбородке черная бородища, чуть поменьше, чем у Панаса, с бровей серые лохмотья висят; только сверкают зубы и глаза.
Эх, жаль, смывать все придется!
Глава третья
Ивка помылся, поел и забрался на печку. Там на старой варежке лежала Стрелка – серый котенок с черным ремешком на спине. Ивка заглянул под тулуп, поискал по углам, вниз поглядел – второй котенок куда-то исчез.
– Барсик!
Никто не отозвался.
– Барсик!
Ивка слез с печки, заглянул под стол, под лавку, под мешки, что лежали в углу, но котенка и след простыл.
– Барсик! Барсик!
Ивка вышел в сени. Слышит, что-то хрустит. Заглянул в угол и видит: в чугунке с объедками сидит, раскорячив лапки, Барсик и косточку гложет.
– Вернулся, гуляка!
Вытащил Барсика из угла, а тот царапнул его за палец.
– Кусаться, поганец?
Отвалтузил котенка, а потом пожалел:
– Ешь, дармоед!
Положил на печку рядом со Стрелкой, налил им в блюдце молока. Барсик затолкал косточку под варежку, отпихнул сестричку и грудью в блюдце залез. Поднял Ивка за шиворот Стрелку и подвинул ее к молоку, но братец встопорщил усишки и как смажет по морде ее. Стрелка зафукала в блюдце и давай бог лапы – от братца. А тому и не надо больше. Вылакал молоко, вылез из блюдца, отряхнул свои лапки и под варежку – юрк. Все в порядке, на месте косточка!
– Ах ты горе мое! – Ивка вздохнул, подхватил невезучую Стрелку и вышел во двор. Огляделся по сторонам и закричал: – Мурка, Мурка!
Мурка – это их мать. Вторую неделю сбежала куда-то и до сих пор ее нет. Как в воду канула. Долго Ивка кричал, надеясь – проснется Муркина совесть при виде родного котенка, но зря: потеряла Мурка совесть, совсем забыла котят.
Во дворе появилась тетя Маруся, мамина сестра.
– Ты куда? – спросила она.
– Барсик все у нее отбирает…
– Дай-ка сама покормлю, а ты вот что: сбегай к Московкиным, узнай, дома ли бригадир.
– А зачем?
– Насчет коня узнать, за отцом съездить.
– Ладно. Только Стрелку не забудь покормить.
Глава четвертая
Московкины жили на другом конце села. Ивка открыл двери избы и застыл на пороге. Мать и сын сидели за столом, похожие друг на друга, – большие, угрюмые. У Федора на худых щеках редкая бородка, глаза маленькие, сидят глубоко, затаившись, прямо на тебя не глядят. Старуха вяжет носки, сверкая спицами, Федор записывает что-то в тетрадь.
Ивка ни разу у них не бывал – не приходилось. Все подоконники в горшках с цветами. От фикусов, столетника, китайских роз и герани в комнате зеленоватый сумрак. По стенам теснятся кушетки и буфеты, уставленные коробочками и шкатулками в виде диванчиков. В углу горит лампадка, отбрасывая рыжие блики на иконы в золоченых рамках с яркими неживыми цветочками. А под иконами важный и тяжелый, как сундук, телевизор, сияет своим слепым матовым экраном.
С фотографий на стене смотрят суровые старики, мужчины с короткими усами и молодые женщины в белых венчальных платьях.
Вошел Ивка в избу и глазеет по сторонам: все-то ему здесь в новинку! Старуха оставила вязанье и стукнула пальцем о стол.
– Ай? – опомнился Ивка.
– Не ай, а здравствуй! – поправила старуха. – Зачем пожаловал?
– Здрасть, – ответил Ивка. – Насчет коня, значит…
Федор оторвался от тетрадки.
– Тятьку из больницы привезть…
Федор грохнул стулом, с места вскочил, узкие глаза его ощупали Ивку.
– Да это Клавкин сынок! Авдеевых! – сказал он и спрятал тетрадку в карман. – Ты, мать, посиди с малым, никуда не пускай, а я к ним сам дойду…
Федор накинул кожанку, надел перед зеркалом шляпу, надвинул ее наискосок и вышел, пригнувшись в дверях. Старуха всплеснула руками, глаза ее заволоклись слезой.
– Ах ты гостюшко дорогой! – сказала она, поднимаясь. – А я и не признала сразу. Вот и хорошо-то, что к нам зашел. Сказку тебе расскажу. Сказки-то любишь слушать?
Ивкины глаза разгорелись.
– То-то, – рассмеялась она. – Только кто сказками кормит спервоначалу? Сказкой сыт не будешь. Съешь-ка вот сладенького…
Старуха достала из буфета коржик – черствый и твердый, как камень. Раскусить не просто, но Ивка храбро стал кромсать его зубами. Бабка так и сияла, так и лучилась от счастья, привалившего ей нежданно, – такой-то гостюшко пожаловал!
Ивка осмелел, снял с себя резиновые сапожки, полез на кровать и потрогал ружье на стене.
– А пули в нем есть?
– Нет в нем пуль, касатик, погладь, сколь душе нравится.
Ивка погладил ладошкой синие стволы, подергал курки, понюхал ложу – вкусно так пахло! Снял бы ружье со стены, наигрался бы вволю, да неловко стало чего-то. Слез он с кровати и уселся напротив.
– Сказывай сказку! – потребовал он.
– Ну, слушай! – подхватила старуха и сцепила скрюченные пальцы обеих рук.
Ивка подвинулся поближе, однако старухины руки пугали его, и он, слушая, следил за пальцами: то разжимались они, то снова собирались, как когти у птицы.
– …И вот вызвал он Ивашку и говорит: поймаешь Горыныча, жизня тебе дарована будет, станешь при мне управителем, а не поймаешь – будешь висеть на той вон липке, пока птицы глаза не склюют…
Слушал сказку Ивка, а сам все смотрел на старухины руки – они то сжимались, то расправлялись, жили своей особой жизнью, отдельной от старухи, от всего, что окружало их в избе. И тогда понял Ивка, что это не руки старухи, а лапы Горыныча и что старуха и есть тот Горыныч, который водится со всякой нечистью, и за спиной у нее гремят железные крылья, в горле клокочут хрипящие звуки, а в хате – под лавками и в подпечье – прячутся жабы и змеи, послушные слуги Горыныча. Когда Ивашку повели, чтобы вздернуть на липке и над ним воронье закружилось, стало вдруг мальчику скучно.
– Я пойду, бабушка…
– Ай не нравится сказка?
– Я пойду, ладно?
– Я тогда другую расскажу, у меня их много.
– Меня мамка ждет.
– На, возьми коржик еще, возьми…
Ивка схватился вдруг за живот и запрыгал от нетерпения.
– Во двор тебе нужно? Ну, сходи, сходи…
Ивка выскочил на крыльцо, вздохнул полной грудью – ловко ее обманул! – и побежал по деревне. И летел во весь дух, будто гнался за ним сам Горыныч, будто мчались за ним жабы и змеи, норовя покусать ему пятки. Вечерние тени от ракит гнались за ним, собаки лаяли вслед, в избах мигали огни: беги скорее, Ивка, беги, покуда цел!
У самой своей избы увидел: плывет навстречу кожанка. Прижался Ивка к плетню, затаился, а это Федор мимо прошел, не заметив мальчишку, и грязью его окатил. Воздух рукой рубил и ворчал про себя:
– Сама придешь, в ножки поклонишься…
«Чего это он? – Ивка проводил глазами недобрую спину его. – Мамка, что ли, ругала за тятьку его?»
У калитки стояла мать. Косынка на плече, волосы распущены, красивая и злая. Ни слова Ивке не сказав, отвесила затрещину и толкнула его во двор.
Что это с мамкой? Никогда руки в ход не пускала, а тут такую вкатила, что в голове загудело. Ивка дотерпел до печки, а там заскулил от обиды. Поскулил, поскулил, придвинул Стрелку, запустил пальцы в мягкую шерстку, стал пересчитывать тонкие ребрышки – раз, два, три, четыре…
О чем это шушукаются мать с тетей Марусей?
– «И на кой он, говорит, тебе, бабе пригожей такой?..»
– Ну, а ты что? А ты?
– У меня разговор с ним короткий – шуганула его от ворот…
– Ой, лихо, не забудет он этого…
– Не пугай. Сам испугается. Схлопочет еще!
Заерзал Ивка на печке, женщины притихли и совсем на шепот перешли.
– Спи, сынок, спи!
– Сплю, мамка, – сказал Ивка, а сам притаился: хотел послушать еще, да не удалось – и в самом деле заснул.
Глава пятая
Ивка проснулся и увидел тетю Марусю. Она прибирала избу.
– У нас что, праздник?
– Праздник, праздник, деточка. Папка твой скоро дома будет.
– А мамка где?
– Где же? За ним и пошла.
– А меня почему не взяла?
– Без тебя хлопот много.
– А когда придут?
– Сегодня, чай, и придут.
Однако не пришли они и к обеду, не пришли и вечером. На следующий день стало известно, что по распутице застряли они в соседней Апрелевке и остались у Тимофея, отцова брата. День их не было, два, только на третий пришли…
Гонял Ивка с дружками на улице. Стегали прутьями по лужам, окатывая друг друга талой водой. И тут увидел он мамку с каким-то мужиком. Ивка не сразу признал в нем отца: полтора месяца прошло, как его отвезли в больницу. Отец был бледен, зарос жидкой щетинкой, мешком висела на нем старая шинель. Сутулился он, опираясь на мать, тянул голову вверх, как слепой. Жалкий он был, совсем какой-то чужой и растерянный.
Ивка подскочил к отцу, уткнулся в шинель, засунул руку в карман: может, гостинца из города привез, как раньше бывало? Но в кармане пусто. Отец положил ему на голову руку – рука была легкая, мягкая, будто тряпичная. Жаль, конечно, гостинца нет, ну и ладно – зато сам пришел. Шли они вместе – мать с одной стороны, Ивка с другой. Встречные женщины здоровались. Мать кивала направо и налево, как артистка на сцене. Отец рядом с нею, молодой и красивой, совсем старик стариком, но она и виду не подавала – радовалась, довольная и даже гордая за мужа, потому что хоть и квелого, но живого домой ведет.
Дома отец опустился на скамейку и часто задышал, облизывая губы.
– Кровать постелить или на печку полезешь?
Отец показал глазами на печку. Ивка стащил с него сапоги и помог взобраться.
– Ты, бать, Стрелку не трог, ладно? – предупредил Ивка и вдруг сообразил, что отец еще не видел котят. – Ты Барсика тоже не знаешь? – спросил он. – Опять удрал, гуляка, поганец такой!
Отец отвернулся к печке и не стал расспрашивать о котятах, о Мурке. А Ивке так хотелось рассказать!
Приходили и уходили люди, поучали Клаву, как дальше жить-поживать: надо писать, мол, жаловаться, ругали бригадира – это он заставил работать Василия в холодном кормозапарнике. А пуще всего возмущало их то, что не захотел дать коня – привезти из больницы.
– Ты на него в суд подай, – советовали женщины.
– Я с ним без суда посужусь, – грозилась мать и бросала недобрые взгляды в окно. – Я ему припомню за Васю!
– Ты лучше пенсию требуй! – говорили другие. – Как же ты Васю поднимешь?
– Вот поросенка зарежем, на ноги поставим Васю. Такой еще работничек будет! Правда, Вася? Еще спляшем с тобой на майские, а?
Женщины смеялись.
– Бедовая ты, однако… Тебе все смех, а Вася-то вон как плох…
Но о чем бы ни говорили в доме, Василий не откликался с печки, лежал он там невидимый и неслышный. А то слезал изредка, пил воду, сидел на лавочке и безразлично смотрел на всех из-под мышастых бровей. Посидит немного – и снова на печку.
Ивка первое время лазил к нему, глядел в лицо, клал ему на грудь котят, старался развлечь. Барсик хищно скалил пасть и тут же сползал, а Стрелка, растопырив лапки, так и оставалась лежать, испуганно двигая хвостиком. Но и ее отец не замечал. Скучно становилось Ивке с отцом. Он слезал с печки и больше об отце не вспоминал…
Глава шестая
Как-то утром встал Ивка, прислушался – не слыхать из кузницы стука-перезвона. День был будний, а кузница молчала. Что бы это значило? Давно он не бывал там. Не утерпел и побежал к оврагу. И надо же – у самой кузни с кузнецом повстречался, тоже шел туда.
– Будем Кузьму заводить?
– Сегодня Кузьма выходной, – улыбнулся Панас. – Обещался я твоей мамке хряка заколоть.
– Сейчас пойдем?
– Экой прыткий ты. Сготовиться надо.
Тихо в кузнице. Рыжие огоньки-бесенята укрылись под серой горкой шлака, недвижна палка-качалка, звучки-бегунки спрятались под наковальней. Сквозь щели бревен пробивается солнце, глядятся в окошко острые почки веток. Кузница проветрилась, почти не слышно в ней гари и хорошо так пахнет – теплой землей, водой из ручья, горечью еще не народившихся листочков. Пахнет весной.
– Покрути-ка ты мне точило, – сказал Панас. – Надо наладить нам француза.
Француз – старый плоский штык, которым кузнец колол щепу, рубил капусту, мастерил свистульки и деревянных медвежат. Но можно им и петуха зарезать, кабана заколоть, а если надо – и побрить мужика. И был тот штык не простой. Ивка знал от Панаса, что прибыл он из Франции еще в начале старого века, воевал он против русских, а потом достался партизанам. А когда французы бежали из России, поселился у кого-то в чулане, переменил несколько хозяев, пока навовсе не определился у Панаса. Вот какой это француз!
Ивка раскрутил точило, Панас прижал штык, камень завизжал, как поросенок, веселой струйкой посыпались искры. Наточил штык, потрогал ногтем лезвие и прицокнул языком.
– Хорош! – сказал кузнец.
– Давай мне! – потребовал Ивка.
Панас потер лезвие фартуком и засунул Ивке за голенище сапога. Шагали они по деревне – каждым шагом чувствует Ивка жесткое прикосновение штыка. Холодок шевелится в груди оттого, что сейчас будут резать хряка Паныча, оттого, что прохожие оглядываются на них и думают, наверно: куда же это спешат-торопятся кузнецы-работнички?
Ветерок вздергивает лужи, в них плещется солнце, воинственно шелестят ветки деревьев. От гулких, грозных шагов разлетаются куры и затихают собаки.
– Бам-бара-бам! Бам-бара-бам! – кричит Ивка, отбивая шаг. – На войну идет француз, на войну идет француз! Разбегайтесь кто куда! Разбегайтесь…
Однако не убоялся и не убежал от них Федор Московкин. Он стоял возле своей избы, смотрел поверх крыш, в небе что-то искал.
– Далеко? – спросил он, продолжая смотреть вверх.
– Недалечко тут. Клавка Авдеева просила хряка ей заколоть. – Панас заискивающе улыбнулся и тоже уставился на небо. – Некому у них, сам знаешь…
– Дело понятное, – подумав, ответил Московкин. – А только наряд у меня к тебе: двадцать скоб для коровника. И чтобы к вечеру, значит…
Ивка тоже уставился на небо – там летали голуби. Ленивые, сытые голуби. Панас потоптался на месте, сутулые плечи его обвисли, он опустил глаза в землю и досадливо крякнул:
– Обещался я ей…
– Дело твое, однако. А к вечеру скобы на ферму, Гришке отдашь. Разговору у меня больше нет. – И снова, задрав на затылок мятую шляпу, узким взглядом уставился на голубей.
– Фьють! – свистнул он, и голуби, преодолевая тяжесть, ввинтились в небо. И заслонили солнце собой.
Невесть откуда набежала на солнце тучка, задул ветерок, потянуло стужей – холодным мраком повеяло с неба и стынью потянуло от земли. Панас потеребил свою бороду, зябко поежился и вздохнул:
– Пошли, Ванятка, сейчас маманьке твоей скажем…
Когда отошли, Ивка вытащил француза из-за голенища, отвернулся и, не глядя на кузнеца, протянул ему штык.
– Хай ему пусто! – сплюнул Панас и француза не взял. – Спрячь на место. Горит ему – скобы! Всю зиму стоит коровник, не нужны были, а сейчас ему вынь да положь!
Тучка прошла мимо, и снова потоки солнечного света омыли землю. И снова идут Панас и Ивка в ногу.
– Бам-бара-бам! На войну идет француз! Разбегайтесь кто куда! Разбегайтесь…
Дружно, братцы, начинайте!
Да ровнее отбивайте,
Да ровнее отбивайте!
Отбивайте, отбивайте,
Да ровнее отбивайте!








