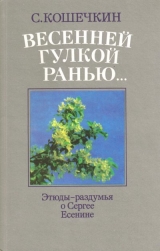
Текст книги "Весенней гулкой ранью..."
Автор книги: С. Кошечкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
свободы и счастья.
Спустя несколько лет Каменский выпустил поэму и пьесу о другом
защитнике закабаленного люда – Пугачеве.
Петру Орешину седая волжская волна пела о былом:
Как негаданно встал
Из крутых берегов
Воевода-капрал
Емельян Пугачев.
Свистнул ветер-степняк,
Оглушил Жигули.
Стенька, вольный казак,
Отозвался вдали.
"Баюн Жигулей и Волги" (слова Есенина), Ширяевец в отблесках костров
отшумевшей вольницы узнавал зарю-заряницу Октября:
Нет, не умер Стенька Разин,
Снова грозный он идет...
Стихи и поэмы В. Маяковского, В. Хлебникова, М. Волошина, И.
Рукавишникова, А. Безыменского, И. Садофьева, В. Гиляровского...
Проза А. Чапыгина, В. Шишкова, А. Яковлева...
Пьесы К. Тренева, Ю. Юрьина, И. Шадрина, Д. Смолина...
Если все, что в те годы печаталось, ставилось, пелось о Пугачеве и
Разине, собрать воедино, получилось бы, пожалуй, несколько объемистых томов.
Идейно-художественные основы этих вещей, естественно, разные, запасы
литературной прочности – тоже. Но все они были вызваны к жизни героическим и
суровым временем. Тем самым временем, которое открывалось Есенину в видении:
"Пляшет перед взором буйственная Русь".
Жигули, костер Стеньки Разина, о которых поэт вспоминал накануне
Октября, спустя три года обернулись в его раздумьях разбойным Наганом,
Таловым уметом, грозной тенью императора Петра Федоровича...
Есенин задумал написать своего "Пугачева"...
2
В конце 1920 года одна из знакомых Есенина зашла в книжную лавку
"Московской трудовой артели художников слова" и застала поэта сидящим на
корточках где-то внизу. Он копался в книгах, стоящих на нижней полке, держа
в руках то один, то другой фолиант.
– Ищу материалов по пугачевскому бунту, – сказал Есенин. – Хочу писать
поэму о Пугачеве.
В. Вольпин, примерно в то же время побывавший у поэта в Богословском
переулке, видел на столике несколько книжек о Пугачеве с пометками Есенина,.
Материал для своей поэмы, вспоминал Анатолий Мариенгоф, Есенин черпал
из "академического Пушкина".
"Пугачев", по словам поэтессы Н. Грацианской, был написан "в окружении
эрудитных томов".
Сам поэт в разговорах с друзьями замечал, что, готовясь к "Пугачеву", он прочел "много материалов и книг", изучал их "несколько лет".
Сейчас, пожалуй, невозможно точно установить все источники, с которыми
знакомился Есенин. Но очевидно одно: историю крупнейшей крестьянской войны
он знал не понаслышке.
Начать с того, что из всех фамилий действующих лиц трагедии автором
вымышлена только одна – Крямин. Кирпичников, Караваев, Оболяев, Зарубин,
Хлопуша, Подуров, Шигаев, Торнов, Чумаков, Бурнов, Творогов – подлинные
фамилии сподвижников Пугачева. У Караваева сохранено и имя – Степан.
Не придуманы Есениным и генерал Траубенберг, атаман Тамбовцев,
оренбургский губернатор Рейнсдорп, полковник Ми-хельсон, вошедшие в трагедию
как действующие лица или упоминаемые по ходу действия.
Казак Крямин ни в пушкинской "Истории Пугачева", ни в других источниках
не встречается.
Чем же можно объяснить его появление у Есенина?
На мой взгляд, вот чем. Крямин действует только в одном,
заключительном, эпизоде – "Конец Пугачева". Он первым из заговорщиков стал
нагло поносить народного вождя:
О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый...
Крямин обливает грязью не только Пугачева. "Монгольский народ"
(калмыки) для него – трусливый "сброд", "дикая гнусь", способная лишь
грабить "слабых и меньших".
Дело, которому Пугачев и народ отдали так много сил, по словам Крямина,
"ненужная и глупая борьба".
Стреляя в Крямина, Пугачев стрелял в циничного предателя, презренного
негодяя: "Получай же награду свою, собака!"
Известно, однако, что при пленении Пугачева убит никто не был. Но
художнику нужен этот выстрел в несправедливость, подлость. Выстрел,
защищающий благородство помыслов Емельяна.
Так появилась в поэме зловещая фигура Крямина"
Этот вымысел не нарушает тактичности поэта в обращении с историческими
фактами.
Бережно сохраняет Есенин и названия мест, связанных с отдельными
событиями повстанческого движения.
Черемшан, Яик, Иргиз, Сакмара, Волга; Яицкий городок, Таловый умет,
Самара, Оренбург, Казань, Уфа, Оса, Сарапуль, Сарепта, Аральск, Гурьев – все
это пришло в трагедию из исторических документов.
Более того, за каждым эпизодом "Пугачева" стоит реальное событие, описанное в научной литературе.
Начало трагедии – "Появление Пугачева в Яицком городке". Емельян
обращается к старику сторожу:
Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?..
Так же ль мирен труд домохозяек,
Слышен прялки ровный разговор?
Сторож
Нет, прохожий! С этой жизнью Яик
Раздружился с самых давних пор...
. . . . . . . . . . . . . . . .
Всех связали, всех вневолили,
С голоду хоть жри железо.
В книге профессора Н. Фирсова "Пугачевщина" (1-е издание – 1908 год, 2-е – 1921 год) говорится:
"В глухом степном умете... Пугачев приступил к разведкам о положении и
настроении яицкого войска. "Каково живут яицкие казаки?" – спрашивал Пугачев
старика уметчика. "Худо, очень худо жить", – отвечал тот".
В своей книге Н. Фирсов пишет:
"...Внутри империи шаталось много бродячего люда. От безысходной нужды
многие приходили на фабрики и заводы... но, найдя тут еще худшее положение,
чем дома, снова бежали куда-нибудь к раскольникам, на Иргиз или на Яик...
Так создавалась особая, бродяжная Русь..."
Не в этих ли строках ученого исток поэтического монолога того же
старика сторожа:
Русь, Русь! И сколько их таких,
Как в решето просеивающих плоть,
Из края в край в твоих просторах шляется?
Чей голос их зовет,
Вложив светильником им посох в пальцы?
Идут они, идут! Зеленый славя гул,
Купая тело в ветре и в пыли,
Как будто кто сослал их всех на каторгу
Вертеть ногами
Сей шар земли.
Так на основе правды исторической Есенин силой своего таланта создает
правду особого характера – правду поэтическую. Здесь к месту вспомнить
Белинского: "... поэтические характеры могут быть не верны истории, лишь
были бы верны поэзии". Историзм "Пугачева" – поэтический историзм, а не
научный. Это, однако, отнюдь не означает, что Есенин произвольно определяет
реальные связи между событиями, причины того или иного явления. Дело обстоит
как раз наоборот.
"В "Пугачеве" нет никакой общественно-экономической подоплеки, вызвавшей к жизни Пугачевщину", – писал в свое время критик А. Машкин.
Но разве не об общественно-политической подоплеке восстания идет речь,
скажем, в первых эпизодах?
"Стон придавленной черни", "всех связали, всех вневолили", "пашен
суровых житель не найдет, где прикрыть головы", – насилие чиновников, дворян
Екатерины, тюрьмы, ложь, нищета, голод...
Уйти некуда – так всюду... Как же добиться воли, как найти счастье?
Путь один:
Вытащить из сапогов ножи
И всадить их в барские лопатки.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Чтобы колья погромные правили
Над теми, кто грабил и мучил.
К такому решению и приходит Пугачев, чувствуя, что степь уже запалена,
что "уже слышится благовест бунтов, рев крестьян оглашает зенит".
Непосредственным поводом к мятежу послужил, о чем писал еще Пушкин, и
отказ казаков "удержать неожиданный побег" кочевников-калмыков, состоящих на
службе у Екатерины. Есенин не обошел и этого факта, посвятив ему весь второй
эпизод – "Бегство калмыков".
Пугачевский мятеж, по Есенину, имеет классовую природу. "Грозный крик", что "сильней громов", раскатился по степным российским просторам, был криком
мести Екатерине и ее дворянам.
Уже в первом эпизоде трагедии заложена мысль о том, что восстание
созрело, что лишь "нужен тот, кто б первый бросил камень". Сама жизнь, общее
негодование крестьян и подняли на гребень мятежной волны Емельяна.
Дух возмездия, яростный порыв сбросить с плеч ярмо рабства оживают в
монологах Пугачева и его сподвижников. Великая сила народная выплескивается
в ликующие слова:
Треть страны уже в наших руках,
Треть страны мы как войско выставили.
Живое и грозное дыхание народной войны – оно веет со страниц трагедии.
Нет, не зря поэт копался в книгах, искал нужные материалы...
Нет, не зря побывал он в местах, где шумело пугачевское воинство, где
когда-то до неба подымались костры от горящих помещичьих усадеб...
И книги, и то, что открылось поэту на равнинной шири оренбургской
земли, – все стало благодатной почвой для его вдохновения, его поэтической
фантазии...
3
Первые строки трагедии... Уйдя от вражеской погони, Пугачев появляется
в Яицком городке...
Ох, как устал и как болит нога!..
Ржет дорога в жуткое пространство.
К месту здесь вспомнить: "Кони ржут за Сулою..." Как к верному другу, попавшему в беду, обращается Емельян к реке:
Яик, Яик, ты меня звал
Стоном придавленной черни!
И где-то в отдаленье слышится тебе голос великого Святослава, что
"изронил золотое слово, со слезами смешанное": "Дон тебя, князь, кличет и
зовет князей на победу".
И ранний плач Ярославны на забрале в Путивле городе: "О Днепр
Славутич!.."
И достойная речь Игоря Святославича: "О Донец! Немало тебе величия..."
"Слово о полку Игореве"...
Пожалуй, ни одну книгу Есенин так не любил, как это изначальное
творение русского поэтического гения, жемчужное слово нашей древней
литературы.
– Знаете, какое произведение произвело на меня необычайное впечатление?
– говорил он Ивану Розанову. – "Слово о полку Игореве". Я познакомился с ним
очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая
образность!
Читая "Пугачева", все время чувствуешь его внутреннее родство со
"Словом...". Дело тут не в подражании Есенина безвестному певцу Древней
Руси. Родство это определено тем, что дух "Слова..." органично вошел в
поэтическое мироощущение, чувствование автора "Пугачева". Есенину (об этом, на мой взгляд, очень точно пишет Б. Двинянинов в статье, опубликованной в
сборнике "Сергей Есенин", М., "Просвещение", 1967) оказались близкими не
внешние приемы, а диалектика внутреннего видения, художественный метод,
принципы лиро-эпического воплощения замысла.
Внимательный читатель не может не заметить: природа в обоих
произведениях играет активную роль, создает ощущение неохватного простора
русской земли.
Мчатся по небу грозовые тучи, пыль поля покрывает, текут реки мутные...
Предупреждая князя об опасности, "солнце мраком путь ему загородило"...
Донец сторожит гоголями и утками бегущего из плена Игоря... Звери и птицы
волнуются, разговаривают с людьми... Оживлены даже неодушевленные предметы:
"кричат телеги", "поют копья"... Все – в непрестанном движении, все
участвует в событиях – радостных и печальных...
Природа включена в непосредственное действие и у Есенина.
"Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняла мне в
рот молоко", – романтически-приподнято повествует каторжник Хлопуша о
пережитом в пути к пугачевскому стану. В монологе Зарубина: "Месяц, желтыми
крыльями хлопая, раздирает, как ястреб, кусты" – образ, за которым встает
беспощадная мощь, неудержимая дерзость восставших. После поражения
мятежников "сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать...".
Начиная "Пугачева", Есенин говорил Розанову, что в трагедии никто, кроме Емельяна, не будет повторяться: в каждой сцене – новые лица.
В процессе работы поэт несколько отступил от этого замысла. Так
Творогов и Караваев участвуют в двух сценах, а Зарубин даже в трех из
восьми. И наоборот, Пугачев как непосредственно действующее лицо в трех
эпизодах не присутствует.
Но есть один участник, который проходит через всю трагедию. Это -
природа.
Внутреннюю связь изображения природы в "Пугачеве" и в "Слове..."
отмечал и сам Есенин.
– Говорят, лирика, нет действия, одни описания, – обрушивался он на
незадачливых критиков трагедии, – что я им, театральный писатель, что ли? Да
знают ли они, дурачье, что "Слово о полку Игореве" – все в природе!
В есенинском "Пугачеве" тоже "все в природе". И так же, как в
"Слове...", она выступает в разном обличье.
На одном из них надо остановиться особо.
Как известно, крестьянская война под руководством Пугачева развернулась
с сентября 1773 года.
"Осенней ночью" – так Есенин назвал третий эпизод, с которого, собственно, и начинаются основные события трагедии.
Сюжетно к третьему примыкает четвертый эпизод – "Происшествие на
Таловом умете"; время действия – та же "осенняя ночь".
Сцена: кромешная тьма, промозглая непогодь, льет холодный дождь.
Караваев – в дозоре, сторожит, чтоб в мятежный хутор "не пробрался вражеский
лазутчик". В монологе Караваева впервые и появляется интересующий нас образ:
"О осень, осень! Голые кусты, как оборванцы, мокнут у дорог". И в этой
напряженной обстановке рождается тревожное предчувствие: "Проклятый дождь!
Расправу за мятеж напоминают мне рыгающие тучи".
В следующей сцене об осени уже говорит сам Пугачев:
Это осень, как старый оборванный монах,
Пророчит кому-то о погибели веще.
"Кому-то"... Но не нам, повстанцам, задумавшим правое дело...
Затем образ осени возникает в двух заключительных эпизодах, связанных с
заговором изменников и пленением Емельяна. По данным историков, измена
группы казаков и выдача ими Пугачева правительству произошли в сентябре 1774
года.
...Емельян окружен заговорщиками, – вот-вот его свяжут...
Что случилось? Что случилось? Что случилось?..
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплевываясь от солнца?
. . . . . . . . . . . . . . . .
...Ах, это осень!
Это осень вытряхивает из мешка
Чеканенные сентябрем червонцы.
Да! Погиб я!
Приходит час...
Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...
...Это она!
Это она подкупила вас,
Злая и подлая оборванная старуха.
Это она, она, она,
Разметав свои волосы зарею зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна,
Под ее невеселой холодной улыбкой.
В глазах Пугачева осень – воплощение всего мерзкого, зловещего,
ненавистного в жизни, против чего он "ударился в бой". Емельян поначалу
недооценил ее коварство ("Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего
страшного") и за это жестоко поплатился.
Заговорщики ценой измены рассчитывают избежать наказания за участие в
мятеже. Ведь все равно, говорит Творогов, "мак зари черпаками ветров не
выхлестать". Он покорно склонил голову перед силой властей и свое
предательство выдает за благодеяние: "Слава богу! конец его зверской
резне"... И в низкой душонке таит надежду: "Будет ярче гореть теперь осени
медь..." "Ярче гореть" – для кого? Для таких вот, как он, Творогов, трусливых прислужников той самой "злой и подлой оборванной старухи"? Пусть
кто-то гибнет "под ее невеселой холодной улыбкой". Лишь бы ему не "струить
золотое гниенье в полях...".
Как видим, образ осени имеет существенное значение в трагедии. Однако,
на мой взгляд, не следует считать, что в коллизии Пугачев – осень -
пугачевцы "сосредоточен пафос пьесы и ее идейно-художественный смысл", как
это сделал П. Юшин в книге "Сергей Есенин" (изд-во МГУ, 1969 год).
Осень, по П. Юшину, в пьесе якобы символически обозначает Октябрьскую
революцию, поскольку поэт неоднократно сравнивает ее, осень, с "суровым и
злым октябрем".
Действительно, такие сравнения в пьесе есть. Но ведь там же осень
соотносится и с сентябрем. Так, Караваев, говоря об "ощипанных вербах", замечает, что им
Не вывести птенцов – зеленых вербенят,
По горлу их скользнул с_е_н_т_я_б_р_ь {1}, как нож,
И кости крыл ломает на щебняк
Осенний дождь.
Холодный, скверный дождь.
{* Разрядка моя. – С. К.}
В уже приводимом предпоследнем монологе Пугачева – "осень вытряхивает
из мешка чеканенные с_е_н_т_я_б_р_е_м червонцы".
Что ж, в этих случаях уже с_е_н_т_я_б_р_ь символизирует Октябрь?
Малоубедительны у П. Юшина и другие обоснования аналогии: осень -
Октябрь.
Опираясь на эту прямолинейную и весьма зыбкую аналогию, П. Юшин считал,
что Есенин якобы представил пугачевское движение в условиях послеоктябрьской
действительности и <понял его бесперспективность и обреченность".
Если принять это утверждение критика, то, до конца выдерживая его
концепцию, надо видеть в Екатерине и ее дворянах представителей Советской
власти, а в Пугачеве и Хлопуше – закоренелых контрреволюционеров. Но ведь
это просто немыслимо! Подумать только: осень-революция подкупает сообщников
Пугачева и отрывает их от него! "Вероятно, так понимая свою пьесу, – писал
П. Юшин, – Есенин называл ее "действительно революционной вещью...". Где уж
тут "революционная вещь"! Нет, вероятно, совсем не так понимал Есенин
замысел своей пьесы, когда говорил о Пугачеве как о "почти гениальном
человеке", а о многих из его сподвижников как о "крупных", ярких фигурах.
Не стоит ли, размышляя о поэтической мысли "Пугачева", опять вспомнить
"Слово о полку Игореве", слова старинного певца о княжеских стягах: "Врозь
они веют, несогласно копья поют"?
4
"Почти гениальный человек..."
Да, таким, по свидетельству И. Розанова, виделся Есенину вождь
крестьянского восстания.
Наверно, логическое ударение в этом определении надо сделать на
последнем слове – "человек".
Он действительно необыкновенный человек, есенинский Пугачев.
"Из простого рода и сердцем такой же степной дикарь..." Был – дикарь.
Но "долгие, долгие тяжкие года... учил в себе разуму зверя...".
Сердце его стало жалостливым и нежным ("бедные, бедные мятежники..."), но мгновенье – и вот уже оно обжигает неукротимым огнем гнева ("чтоб мы этим
поганым харям...").
Шутки с ним плохи. У него нашлись решительность, мужество, разум
"первым бросить камень" в тинистое болото империи.
Как неимоверной тяжести ношу, берет он на себя чужое имя: "Знайте, в
мертвое имя влезть – то же, что в гроб смердящий. Больно, больно мне быть
Петром, когда кровь и душа Емельянова".
Тут в самый раз вернуться к словам Разина из сценария Горького:
"...Людей я жалею. Я для них, может, душу мою погублю..."
Есенинский Пугачев тоже жалеет людей. Ради них он и пошел на тяжкие
муки: "опушил себя чуждым инеем" – и даже думать не смел, что платой за все
его страдания будет черное предательство.
У Пушкина в "Капитанской дочке" Пугачев был осмотрительнее:
"– ...Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры.
Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моей
головою".
Для есенинского Емельяна его "ребята" – "дорогие... хорошие...". Мог ли
он предвидеть, что настанет срок и они, его недавние друзья, крикнут нагло,
грубо: "Вяжите его!.. Бейте прямо саблей в морду!"
Он вспомнит в этот страшный час ночную синь над Доном, золотую известку
месяца над низеньким домом, услышит убегающий вдаль колокольчик – и душа его
не выдержит тяжести всего, что в себе носила, чем жила...
Осенней ночью, в начале восстания, он говорил Караваеву:
Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, -
Тот медведь, тот лиса, та волчица,
А жизнь – это лес большой,
Где заря красным всадником мчится.
Нужно крепкие, крепкие иметь клыки.
У него ли – "звериная душа"? Нет, не похож он на зверя – этот мужик с
душой мечтателя, которая полна любви и сострадания, доверчиво открыта людям.
И здесь, может быть, стоит вспомнить слова Горького о есенинском
чувстве "любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего
иного – заслужено человеком".
Любовь к людям не покидает Пугачева даже в самые трагические минуты,
ибо она – его глубинная сущность. Наиболее сильно эта сущность выявлена в
заключительном монологе Емельяна.
Не потому ли последние строки трагедии звучали в авторском исполнении с
особой проникновенностью?
"Совершенно изумительно, – рассказывал Горький, – прочитал он вопрос
Пугачева, трижды повторенный:
Вы с ума сошли? -
громко и гневно, затем тише, но еще горячей:
Вы с ума сошли?
И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:
Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Неописуемо хорошо спросил он:
Неужели под душой так же падаешь, как под ношей?
И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:
Дорогие мои... Хор-рошие...
Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось".
Вторая колоритнейшая личность трагедии – Хлопуша, "крестьянин Тверской
губернии" (в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона – т. 37, кн. 73, Спб., 1903 г., с. 325 – указывается: Хлопуша, "крестьянин с. Мошкович, Тверской губернии". Есенин и в этой детали точен).
"Местью вскормленный бунтовщик", он шел в лагерь пугачевцев со своей
бесценной ношей: "Тяжелее, чем камни, я нес мою душу". "Отчаянный негодяй и
жулик", "каторжник и арестант", "убийца и фальшивомонетчик", Хлопуша через
Пугачева прозрел, "разгадал" собственное "значенье".
Все, что было в его жизни до Пугачева ("то острожничал я, то
бродяжил"), кажется ему ничего не стоящим, никчемным. "Черта ль с того, что
хотелось мне жить?" – восклицает он, вспоминая те десять лет, которые
растратил попусту.
Казак Бурков мыслит по-иному:
Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли!
Хоть карманником, хоть золоторотцем...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Научите меня, и я что угодно сделаю.
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!
Учитель нашелся. Но им оказался не Пугачев, а Творогов – презренный
изменник. Это о "философии" таких, как Творогов, говорит старик сторож в
начале поэмы:
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.
Они остаются жить – Бурнов, Творогов, Чумаков... Но "черта ль с того"?
Достойно "звенеть в человечьем саду" им не дано.
Ибо не может затеряться в этом саду страстный, рвущийся из самого
сердца голос Хлопуши:
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
И не смолкнет полное неизбывной боли, безысходной тоски по несбывшейся
надежде слово "этого человека":
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
5
В год завершения работы над "Пугачевым" Есенин писал об имажинистах:
"У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого
слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот
диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния
ради самого кривляния".
Как и безвестному автору "Слова о полку Игореве", Есенину в высшей
степени присуще "чувствование своей страны". Оно проявилось не только в его
стихотворениях и поэмах, но и в трагедии "Пугачев". От глубинных раздумий о
судьбах крестьянина до "всей предметности и всех явлений вокруг человека", воплощаемых в слове, образе, – все пронизано этим чувствованием.
В трагедию "Пугачев", замечал П. Юшин, Есенин внес резкие, вызывающие
тона, эстетически отталкивающие образы:
Быть беде!
Быть великой потере!
Знать, не зря с луговой стороны
Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слюны.
И рассуждал: "Ягненочек кудрявый – месяц", "...всадник унылый, роняющий
поводья-лучи", "месяц – плывущая по ночному небу ладья, роняющая весла по
озерам", превращается в череп, а ровный желтый свет месяца, так радовавший
раннего поэта, становится гнилью, слюной, капающей на землю".
Да нет же, при чем тут "ягненочек кудрявый – месяц"? Суть-то в строках
из "Пугачева" совсем иная! Поэт говорит о зловещем предзнаменовании, создает
соответственно впечатляюще-страшный образ, а критик недоумевает: а почему не
ягненочек? Ягненочек был лучше...
Тот же критик сетовал: очень уж "образно" говорят герои. Даже сторож:
"Колокол луны скатился ниже..." Нет чтобы сказать просто: светает...
Сторож еще изъясняется: "Уже мятеж вздымает паруса".
Но так ли это далеко от тех фраз, которые произносят, например,
действующие лица в исторических хрониках Шекспира?
"Полоний: Уж вечер выгнул плечи парусов..."
Правда, эти слова звучат в устах гофмейстера королевского двора.
Но вот говорит простой воин (сцена смерти Энобарба в "Антонии и
Клеопатре"): "Смерть тронула его своей рукой". Неужели в Древнем Риме даже
простолюдины не могли обходиться без художественных тропов?
По мнению П. Юшина, "перенасыщенность... образами наблюдается в каждом
монологе трагедии". Кстати сказать, критик Г. Лелевич еще в 1926 году писал:
"В "Пугачеве"... образов больше, чем нужно".
Но кто может точно установить, сколько образов полагается на монолог?
Какое количество их должно быть в пьесе?
Есенинский имажинизм – это попытка мастера найти новые художественные
возможности поэтической речи с помощью органического, но усложненного образа
и "сгущенной" образности.
Не образ ради образа, а образ как выявление жизненных связей,
"внутренних потребностей разума".
Не отделение искусства от быта, а, наоборот, утверждение быта (жизни)
как основы искусства. Настоящее искусство невозможно без "чувствования своей
страны". Так говорит Есенин в статье "Быт и искусство", опубликованной в.
1921 году. По существу, эти же мысли он высказывал ранее в статье "Ключи
Марии".
Есенина в свое время высмеивали за "очаровательные анахронизмы":
"...Керосиновую лампу в час вечерний зажигает фонарщик из города Тамбова",
"степная провинция", "флот"...
Ну что ж, наверно, эти мелкие погрешности можно простить большому
художнику. Ведь не очень-то нас беспокоит, что, скажем, в шекспировской
"Зимней сказке" король пристает к берегам Богемии, хотя, как известно, никакими морями она не омывается.
Не в мелочах, конечно, дело.
"Пугачев" с его органическими, хотя и усложненными образами,
"сгущенной" образностью убедительно показал широту творческих возможностей
Есенина.
От этой пьесы, как верно, на мой взгляд, писал Сергей Городецкий, поэту
открывался широкий путь в театр. Недаром в разное время ее собирались
ставить Всеволод Мейерхольд и Николай Охлопков.
Не в пример критикам, сам Есенин считал трагедию своей удачей. Отрывки
из нее он с охотой читал в дружеском кругу и, выпустив тремя отдельными
изданиями, включил ее в трехтомное собрание стихотворений.
И все-таки "Пугачев" не стал венцом творческих поисков поэта. Они
продолжались.
Формально Есенин вроде бы числился по имажинизму.
Но друзья слышали от него все чаще и чаще: "Писать надобно как можно
проще. Это трудней".
Хотя и "Пугачев" дался ему нелегко...
6
...Московский театр драмы и комедии, или – привычнее и короче – Театр
на Таганке.
На сцене – помост из неструганых досок. Плаха. Топор. Цепи – они то
гремят о настил, то опутывают людей, обнаженных до пояса, в портах из
мешковины. Удары колоколов...
И вот он – человек со скуластым лицом, острыми, прищуренными глазами...
Мужицкий царь, гроза империи и мечтательный романтик.
Наконец-то я здесь, здесь!
Рать врагов цепью волн распалась...
Идет есенинский "Пугачев"...
Он, при жизни поэта исхлестанный критическими плетьми, оказался для
молодежи семидесятых и начала восьмидесятых годов живой художественной
ценностью, волнующей истинным драматизмом, глубиной чувств человеческих.
И, слушая в театре страстные монологи "буйных россиян", может статься, не я один вспоминал рассказ современницы поэта. Рассказ о том, как однажды
Есенин показал ей рубцы на своих ладонях и пояснил:
"– Это, когда читаю "Пугачева", каждый раз ногти врезаются в ладонь, а
я в читке не замечаю..."
"ПРОЯСНИЛАСЬ ОМУТЬ В СЕРДЦЕ МГЛИСТОМ..."
1
В середине 1921 года, когда Есенин заканчивал работу над "Пугачевым", в
Москву приехала американская танцовщица, ирландка по происхождению, Айседора
Дункан.
Эта, по словам Горького, "знаменитая женщина, прославленная тысячами
эстетов Европы, тонких ценителей пластики", приняла приглашение Советского
правительства и отправилась в революционную Россию не ради любопытства.
"Большинство художников и артистов полагают, что искусство идет особо,
а жизнь – особо, – писала Дункан в статье, напечатанной в одном из тогдашних
журналов. – Я не могу отделить своей жизни от танца. Сам танец меня не
интересует. Меня интересует только жизнь. Я прибыла в Россию не как
артистка, а как человек для того, чтобы наблюдать и строить новую жизнь. В
Москве родилось новое чудо. И я приехала туда для того, чтобы учить детей
Революции, детей Ленина новому выражению жизни".
Заявление, достойное художника-гражданина и меньше всего рассчитанное
на вкус изощренных эстетов.
Встреча Дункан с Есениным (на дружеском вечере в студии художника
Георгия Якулова) имела для обоих весьма важные последствия. Вскоре они стали
супругами, а в мае 1922 года вместе отправились в заграничную поездку:
Дункан предстояли выступления в городах Европы и Америки. Так поэт оказался
в мире, о котором у него были самые общие представления.
"Есть люди, которые по глупости, либо от отчаяния утверждают, что и без
родины можно. Но, простите меня, все это притворяшки перед самими собой. Чем
талантливее человек, тем труднее ему без России".
Это – слова А. И. Куприна. Они выстраданы писателем, за ними – долгие
годы, прожитые на чужбине.
Есенин провел за рубежом год и три месяца. Этого срока оказалось более
чем достаточно, чтобы вкусить все "прелести" жизни вдали от родной земли, в
чуждой атмосфере. Уже позже, в 1925 году, друзья хотели отправить Есенина за
границу на лечение (предположение врачей – горловая чахотка).
– Евдокимыч, – говорил он литератору Ивану Евдокимову, – я не хочу за
границу! Скучно там, скучно! Был я за границей – тошнит меня от заграницы. Я
сдохну там...
Он не рисовался. Там, в "ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит
с идиотизмом", поэт чувствовал себя действительно хуже худшего.
"...Весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то
важное и даже неясно помнит – что именно забыто им?" – таким в Берлине видел
Есенина Горький. Сам поэт писал И. Шнейдеру из Висбадена:
"...Берлинская атмосфера меня издергала вконец. Сейчас от расшатанности
нервов еле волочу ноги".
В письме издательскому работнику А. Сахарову из Дюссельдорфа:
"Развейтесь, кони! Неси, мой ямщик!.. Матушка! Пожалей своего бедного
сына!.. А знаете? У алжирского бея под самым носом шишка?"
И в самом конце, после слов "твой _Сергунь_" – "гоголевская" приписка: Ни числа, ни месяца.
Если б был и <...> большой,
То лучше б <...> было повеситься.
Видно, было от чего так "шутить"...
Бесконечные разъезды по европейским городам, где проходили концерты
Дункан, наглость и цинизм ее "друзей" – "этой своры бандитов", по выражению
Есенина, их подчеркнутое безразличие к "молодому русскому мужу" знаменитой
артистки, изобилие вин и "свиных тупых морд" – все это угнетало Есенина, рождало у него чувство одиночества, тоски. И не случайно именно здесь и были
написаны самые безысходные из стихов, составивших позднее цикл "Москва
кабацкая".
Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь...
Что-то всеми навек утрачено,
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.
Не в белоэмигрантском ли кабачке увидена эта мрачная картина? (Вспомним








