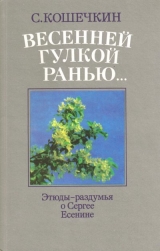
Текст книги "Весенней гулкой ранью..."
Автор книги: С. Кошечкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Снегиной" проявилось в его умении правдиво, художественно-конкретно видеть
жизнь и воспроизводить ее в художественных образах путем использования всех
изобразительно-выразительных средств поэтической речи. Лучшие стихи Есенина
рождались из подлинного, глубокого чувства, а при этом, по справедливым
словам А. Твардовского, "на помощь приходит всё, все впечатления бытия и все
языковое богатство, и все приобретает необходимую форму, ясность и
отчетливость, так, как это бывает в страстной, убежденной речи".
....ВОЛНУЯСЬ СЕРДЦЕМ И СТИХОМ*
1
...Мы сидим на веранде старой дачи в подмосковном Внукове. Михаил
Васильевич Исаковский только что прослушал мой рассказ о новом издании
Есенина и задумался, прикрыв ладонью глаза от неожиданно прорвавшегося
сквозь листву нетерпимо яркого луча солнца...
– Хорошо, что Есенина подымать стали, хорошо! Поэт удивительный,
истинно русский... – Замолкает, разглаживая лежащую на столе газету, потом
добавляет. – Лирик – редчайший, а лирика, как говорили умные люди прошлого
века, есть самое высокое проявление искусства...
– И самое трудное, – вставляю я, вспомнив строки из писаревских
"Реалистов".
– Да, и самое трудное... Рассказывают, он свое последнее стихотворение
написал кровью... Вы не знаете, это верно?
– Да, это так. Автограф – я его видел – хранится в Пушкинском доме в
Ленинграде...
– Ну вот... А ведь у него не только последнее – большинство стихов,
образно говоря, написано кровью. Может, я ошибаюсь?
Нет, он не ошибался. Исаковский говорил правду.
"Жизнь моя за песню продана" – не просто красивая фраза. За ней кровь и
нервы поэта.
Есенин не брал "творческих отпусков", не "занимался поэзией" в такие-то
дни недели и от такого-то до такого часа – она жила в его сердце постоянно.
Напряженность мысли и чувства было его естественное состояние.
– Вечно ты шатаешься, Сергей, – как-то сказал ему знакомый литератор. -
Когда же ты пишешь?
– Всегда, – последовал ответ.
Сколько раз за его спиной, ехидно подмигивая, шептали:
– Кажется, Есенин снова в кризисе...
Сколько раз завистливая бездарность хихикала исподтишка:
– Иссяк родничок-то, иссяк!
А в это время поэт просто и доверчиво делился с близким человеком:
– Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не
могу спать.
Встретив доброго знакомого, рассказывал:
– Зашел я раз к товарищу и застаю его за работой. Сам с утра не
умывался, в комнате беспорядок... Нет, я так не могу. Я ведь пьяный никогда
не пишу.
Так оно и было.
И прав мудрый абхазец Дмитрий Гулиа, который наставлял своего сына:
– Настоящая поэзия – как ни говори – требует светлого ума и трезвой
мысли. Никогда не верь тому, что иные болтают, например, о Есенине: будто он
хорошо писал, только будучи пьяным. Это чепуха!
Его внешняя беззаботность на людях вводила в заблуждение даже друзей.
"...Только по косвенным признакам, – вспоминал Юрий Либединский, – мы могли
судить о том, с какой серьезностью, если не сказать – с благоговением,
относился он к своему непрерывающемуся, тихому и благородному труду".
Листая его черновики, видишь, как придирчив был он к написанному. Поэт
вслушивается в музыку слов... Он как бы пробует их на вкус, на цвет, на
запах... И вот уже, кажется, все на месте, строфа отшлифована, но "подводное
течение" стихов пошло куда-то в сторону. Нет, это не годится! Росчерк пера -
и уже рождается новая строка, которая повлечет за собой другие,
действительно необходимые.
"Беспечный талант", "держится на нутре"... А этот "беспечный",
"волнуясь сердцем и стихом", некоторые строки и строфы переделывал по
нескольку раз. Загляните в черновую рукопись драматической поэмы "Пугачев" -
общее число вариантов почти вчетверо превышает окончательную редакцию. Их
немало – листов, хранящих следы настойчивого, самозабвенного труда...
И тут же – строки, набросанные без единой помарки характерным
есенинским почерком: округлые буквы, между собой не соединенные... Что же,
так, шутя, играючи, сразу и написалось? Нет, не так. Это значит,
стихотворение вынашивалось, "обкатывалось" в уме исподволь, незаметно. Оно
"бродило", "созревало", может, не день и не два, чтобы в один прекрасный
момент выплеснуться в завершенном виде на бумагу.
Работа – как течение реки подо льдом – непрестанная. Да, и разные
встречи, и выступления, и хождения по редакциям, и "дружеские попойки"... Но
главное – стихи, дело.
Потому, наверно, он по-отечески и наставлял юного товарища по перу:
– Запомни: работай, как сукин сын! До последнего издыхания работай!
Добра желаю!
Потому, наверно, и не мог он терпеть халтурщиков и скорохватов.
– Ты понимаешь, ты вот – ничего, – гневно бросал он в лицо некоему
сочинителю. – Ты что списал у меня – то хорошо. Ну, а дальше? Дальше нужно
свое показать, свое дать. А где оно у тебя? Где твоя работа? Ты же не
работаешь? Так ты – никуда! Пошел к чертям. Нечего тогда с тобой возиться.
Потому, наверно, и возмущало его, Есенина, своеволие издателей:
– Кто им позволил залезать в мою душу и хозяйничать там, как им
хочется?! Люди не понимают того, что ведь каждая буква ставится с
определенным расчетом. Прежде чем я ее напишу, я ее сто раз проверю! А
какой-то бездельник в редакции чирк карандашом – и весь мой замысел летит к
чертовой матери.
"Сто раз проверю..."
И его друг, уходя в тот декабрьский вечер – последний в жизни Есенина
вечер – из холодного номера гостиницы "Англетер", запомнил: накинув на плечи
шубу, поэт сидел у стола. Папка с бумагами была раскрыта. Есенин
просматривал рукописи... Есенин работал...
2
Фотография 1924 года. Стол, накрытый белой скатертью. На подносе -
старинный самовар, должно быть, тульский, фабрики Баташовых. Его верх
венчает фарфоровый чайник – чтобы не остыла заварка. За столом – мать и сын.
Она – в платке, в теплой кофте. Подперев голову рукой, смотрит на сына,
слушает. Он – в городском пиджаке, белеет ворот рубашки. В правой руке
книга: Есенин читает свои стихи матери, Татьяне Федоровне...
"Милая, добрая, старая, нежная..."
Священно чувство к матери. Оно свойственно каждому человеку. Но поэт не
только пронес это чувство до последних дней своих. Он запечатлел его в
строках, полных такой пронзительной сердечности, что они вроде бы и не
воспринимаются как стихи, искусство, а как сама собою изливающаяся
неизбывная нежность.
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Всего четыре строчки, но ты уже во власти музыки чувства. Поэт как бы
обнял старушку душой своей и вместе с нею обнял и тебя, читателя.
Строфа наполнена до краев: здесь и сыновнее тепло; и время, минувшее со
дня последнего свидания сына и матери; и расстояние, их разделяющее; и
бедность жилища старушки; и благоговение поэта перед родным кровом...
О чтении Есениным "Письма к матери" вспоминает друг поэта писатель Иван
Евдокимов:
"Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, когда я услышал:
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и
печальная фигура поэта...
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Дальше мои впечатления пропадают, – заканчивает Евдокимов, – потому что
зажало мне крепко и жестко горло, таясь и прячась, я плакал в глуби
огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между
окнами".
Так же близко к сердцу принимают есенинское "Письмо..." и современные
слушатели и читатели.
Как сейчас помню старый обшарпанный вагон, в который я с трудом
протиснулся на станции Жлобин. Ехать до Минска мне предстояло часов восемь,
и я примостился в углу нижней боковой полки у запыленного, с косыми
потеками, окна.
Вагон был полон. И наверху и внизу устраивались почти одни женщины.
Облаченные в самую неожиданную одежду – в засаленные полушубки, обтертые
шинели, армейские телогрейки, довоенного пошива длинные демисезонные пальто,
– затянутые поношенными платками разного цвета, они переговаривались,
гремели жестяными чайниками, кружками, банками, изредка негромко смеялись.
Война только закончилась, и они, судя по всему, добирались до родных
мест, незабытых очагов...
Я уже начал дремать, когда у дальней от меня двери робко пискнула
гармошка и какая-то женщина низким, похожим на мужской голосом кому-то
сказала:
– Садись тут. Хорошо сыграешь – не обидим.
Минуту спустя вагон наполнился озорным перебором сиповатой тальянки, и
я понял: вошел бродячий гармонист, каких в те годы немало ездило по нашим
железным дорогам и собирало подаяния. Вагон притих и стал слушать.
Пришелец играл неважно, то и дело врал, да и самодельная песенка, что
он бойко начал, была пустенькой и нелепой. От нее в моей памяти сохранилась
одна рифма: "Фросе – Форосе", и то, вероятно, только потому, что до того о
Форосе я ничего не слышал.
Я взглянул на своих уже немолодых соседок, молчаливо смотрящих в мутное
окно, и почувствовал, что их думы далеко-далеко...
Пошла вторая песня, уже получше, а когда всплеснулась третья – "Синий
платочек", – лица женщин словно осветились внутренним светом, помолодели. И
гармонист вроде бы обрел форму, пел точнее, захватистее...
Потом было есенинское "Письмо к матери". Первую строку певец выдохнул
медленно и бережно, как будто боялся неосторожным движением расплескать
заключенные в ней тепло, нежность.
В вагоне сразу стало тише, а на тех, кто еще продолжал говорить,
зашикали. Слова "Тот вечерний несказанный свет" уже прозвучали в тишине, если не считать безалаберного стука колес на стыках рельс да поскрипывания
привинченных к полу стоек.
"Письмо к матери" я знал наизусть, не раз слышал, как его пели солдаты, но и меня полоснули по сердцу это неизбывно ласковое "моя старушка", доверительно простодушное "жив и я", до смерти любимое "низенький наш дом".
А что уж напоминать о "несказанном свете", который даже и представить
невозможно, ибо о нем сказано как о чем-то чудесном, недосягаемо
таинственном, завораживающем...
У ближней ко мне соседки глаза стали влажными. Расчувствовались и
сидящие за ней женщины. Они плакали как бы про себя, безмолвно и затаенно,
плакали сердцем, а это, знаю, самые горькие, мучительные слезы. Песня
разбередила их еще незажившие раны, проникла в самые заветные уголки души,
всколыхнула там на всю жизнь запавшую любовь к тем, кто достался в муках и
радостях.
Песня говорила: не переживай, успокойся; каждый, кого нет, вернется, и
все станет по-прежнему: отчий дом, белый весенний сад, тихое утро... Да и
может ли быть иначе, если есть на свете ты – помощь, отрада...
В голосе гармониста переплелись и нежность, и радость, и тоска, и
надежда, и горечь, и какая-то детская беспомощность. Слушая его, я вспомнил
тургеневского Якова, в чьем голосе "дышала русская, правдивая, горячая душа
и так и хватала тебя за сердце, хватала прямо за его русские струны".
Последняя нота растаяла, мои соседки, вытерев кончиками платков глаза,
закивали друг дружке: вот, дескать, песня так песня...
А у дальней двери тот же низкий, похожий на мужской голос женщины
произнес:
– Хорошо спел, спасибо. Вот, возьми! – И потом – кому-то: – Вы его
проводите, проводите! Видите, человек с костылем!
Он пел, надо полагать, уже в третьем вагоне, а в нашем еще говорили о
сыновьях и дочерях, их нелегких судьбах, о долгожданных встречах с ними -
уставшими, опаленными войной, но, как и прежде, ласковыми, красивыми, самыми
любимыми...
Часа через два от дальней двери кое-как пробралась к моей соседке,
видать, ее знакомая – худенькая, востроносая старушка и, пристроившись на
уголок скамьи, быстро проговорила:
– Песню-то про мать слышала? Так вот у самого-то, то есть инвалида
войны, говорят, матери нет: фашисты в одночасье порешили, за помощь-де
партизанам в колодец живьем бросили... Вот ведь страхи-то какие, страхи-то!
Ученица-восьмиклассница говорит: "В стихах Есенина меня привлекает
большая лиричность, задушевность тона, неподдельная искренность. Одно из
самых моих любимых стихотворений – "Письмо к матери". Здесь раскрывается
жизнь поэта, его чувства и настроения. Возвращение к матери – это
возвращение к Родине, которую Есенин любил больше всего на свете. "Я
вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад..." Наверное, образ
этого весеннего сада – сада надежды и нового рождения – спасал поэта в его
горькие минуты".
Ты одна мне несказанный свет...
Воочию видишь ее, старенькую, согбенную годами и тревогой за нелегкую
судьбу сына, выношенного под сердцем... Ее, что стоит в старомодном шушуне и
смотрит с ожиданием и надеждой на пустынную, убегающую вдаль дорогу. .
И невольно приходит на память образ другой матери, такой же волнующий и
бесконечно близкий...
"Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко,
как будто он стоял тут же возле нее, позвала:
– Гришенька! Родненький мой! – Помолчала и уже другим, низким и глухим
голосом сказала: – Кровинушка моя!.."
Сердце матери... Они знают его затаенные движения, Есенин и Шолохов...
Ничего, родная. Успокойся...
Слова утешения и надежды звучат все увереннее, и вот уже поэт как бы
видит себя вернувшимся в низенький родительский дом. И белый сад,
по-весеннему раскинувший ветви, будет сродни душевному настрою поэта,
пережившего тоску и усталость.
Так забудь же про свою тревогу. .
Но тревога не унималась.
Она дала себя знать в "Письме от матери".
Беспокойство, что сын "сдружился с славою плохою", боль за его неуютную
судьбу, сожаление о несбывшихся надеждах, печаль одинокой старости, лишенной
сыновней заботы и ласки, горечь от жизненных невзгод – все вылилось в
бесхитростных строках "материнского" письма. Кажется, если бы мать и в самом
деле обратилась к сыну с письмом, она бы только так и написала:
"Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,
То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала".
Из обыденных, незамысловатых слов складывается строфа; они "текут"
легко и спокойно, каждое – на своем месте, каждое – "осердечено". Любовь с
печалью пополам. Чего стоит трогательная подробность: "И на ноге внучонка я
качала..."
Когда в 1927 году Адриан Митрофанович Топоров прочитал это
стихотворение крестьянам из коммуны "Майское утро", одна из слушательниц
заметила: "Мать зазнобно написала..."
"Зазнобно..." Лучше не скажешь.
"Ответ" на материнское письмо чистосердечен и прям, поэт говорит как на
духу. Его волнуют разноречивые чувства. "Сволочь-вьюга" рождает ощущение
одиночества, тоски. Скорбь о весне – "революции великой", всепланетной -
переходит в уверенность, что скоро "она придет, желанная пора!". И поэт
тогда откликнется на зов матери, вернется домой...
Так мотивы личные переплетаются с мотивами общественными, гражданскими.
"Тебе куплю платок..." и "Когда пальнуть придется по планете..." – разные
струи единого душевного потока.
И нельзя не согласиться с Николаем Рыленковым, сказавшим, что "Письмо к
матери" и "Ответ" стоят в одном ряду с лучшими образцами гражданской лирики.
Как-то в один из его приездов в Москву мы заговорили о стихах Ярослава
Смелякова. Николай Иванович оживился:
– Помните, как он написал о матери:
Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.
Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках,
и солдаты в могилах своих. -
Хорошо ведь, верно? Чутье на слово-то какое: "милосердная", "протяжно и
кратко", "в некрепких кроватках"... Это – непридуманное...
– У вас тоже о матери – непридуманное: "Я рук не знал нежнее и добрей,
чем жесткие мозолистые руки".
– Ну, что у меня, – он махнул рукой и добавил, улыбаясь: – "И погромче
нас были витии..." – Помолчав, продолжал: –Некрасов да Есенин – вот великие
певцы Матери. Бывало, дойду в "Рыцаре на час" до строчек: "Я кручину мою
многолетнюю на родимую грудь изолью...", подкатит к горлу комок – не
продохнуть... А Есенин! Он ведь перед матерью, как перед родиной, на колени
вставал: "Ты одна мне помощь и отрада..." Она для него – воплощение совести, чистоты душевной. Говорим о гуманизме Есенина... В стихах о матери – вот он
где сильнее всего проявился...
Потом, в разговоре, снова вернулся к Есенину и, прочитав строфу из
"Письма от матери", сказал:
– Ведь изнутри все высвечивает, изнутри... Надо ж так в материнскую
душу влезть...
И долго протирал стекла очков большим цветастым платком, лежавшим до
того на столе, рядом с книгой и распечатанной пачкой "Беломора"...
3
Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Это – из "Сорокоуста", написанного в 1920 году, в один из самых
драматических периодов в жизни Есенина. Железная, бездушная сила и живое,
родное, милое, что, как тогда поэту казалось, обречено на неминуемую гибель.
Образы незабываемые. Откуда они пришли в стихотворение?
В письме Есенина, помеченном тем же годом, можно прочитать: "Ехали мы
от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что
же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так
скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его.
Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его
поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень
много. Конь стальной победил коня живого".
В той поездке с Есениным был Анатолий Мариенгоф.
При встрече в 1957 году я спросил его:
– А цвета гривы у жеребенка не помните?
– Как не помню: красный, – не задумываясь, ответил Мариенгоф. – Сергей
и здесь остался верен своему правилу, как он однажды сказал: "Растить образ
из быта", то есть из жизни. Он и о кошках не придумал, знаете?
О кошках я знал.
Еще мальчишкой, случайно заполучив на ночь растрепанный томик Есенина,
я впервые прочитал одно из стихотворений с посвящением: "Сестре Шуре". Оно
сразу легло на сердце, но начальные строки показались странными.
"Ну, хорошо, – рассуждал я, – кошек на свете в самом деле много. Но
неужели поэт и его сестра однажды пытались их считать?"
Оказывается, пытались.
Александра Александровна позже рассказывала:
– Ехали мы на извозчике, и нам то и дело попадались кошки. Я сказала
Сергею, что столько их никогда не видела. Он рассмеялся и говорит: "Давай
считать..." Как заметит – вскакивает с сиденья: "Вон, вон, еще одна!" А на
следующий день прочитал стихи "Ах, как много на свете кошек...".
"...Его жизнь была его поэзией, его поэзия была его жизнь" – эти слова
Тургенева о Гёте можно без натяжки соотнести с Есениным.
Все рождалось из увиденного, пережитого... И потому ему были не по душе
подражатели и верхогляды. "Ни одного собственного образа! – отозвался поэт о
стихах кого-то из них. – Он сам еще не пережил того, о чем с чужих слов
говорит".
Прочитав есенинскую строку: "...рыжая кобыла выдергивала плугом
корнеплод", можно не сомневаться, что и в действительности кобыла была
рыжей, а не дымчатой или, скажем, серой в яблоках. "Вынул я кольцо у
попугая..." – значит, был с ним такой случай, был попугай и кольцо было.
Если, обращаясь к собаке знаменитого артиста, поэт называет ее Джимом,
наверняка она носила такую кличку.
"Каждая строчка его говорит о чем-то конкретном, имевшем место в его
жизни. Все – вплоть до имен, которые он называет, вплоть до предметов" – это
свидетельствует Софья Виноградская, писательница, которая была знакома с
Есениным и хорошо знала его быт, взаимоотношения с различными людьми.
Источник поэзии – жизнь.
"Все мои стихотворения... вызваны действительностью и глубоко в ней
коренятся" – это высказывание Гёте Есенин мог бы повторить, не изменив в нем
ни слова.
Из произведений Есенина нам известно, как в разные годы он выглядел
("желтоволосый, с голубыми глазами" или "худощавый и низкорослый"), как
одевался ("шапку из кошки на лоб нахлобучив" или "в цилиндре и лакированных
башмаках"), как ходил ("легкая походка" или "иду, головою свесясь"), где
бывал ("нынче вот в Баку" или "стою я на Тверском бульваре"), с кем дружил
("Поэты Грузии! Я ныне вспомнил вас" или "в стихию промыслов нас посвящает
Чагин"), как звали его отца ("Какой счастливый Александр Есенин!..").
Так – деталь за деталью, штрих за штрихом – и возникает образ поэта во
всей жизненной реальности. Не абстрактный "лирический герой", а конкретный
живой человек. Его видишь: вот он идет, кому-то приветливо машет рукой; вон
он беседует с другом, гладит собаку; приехав в родительский дом, сбрасывает
ботинки, греется у лежанки.
– ...Все они думают так: вот – рифма, вот – образ, и дело в шляпе:
мастер, – говорил Есенин о стихотворцах-ремесленниках. – Черта лысого -
мастер... А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть; вот тогда ты -
мастер!
Сам он умел не только "улыбнуться в стихе...".
В лирике Есенина запечатлены "диалектика души" поэта, его художническое
восприятие многообразия изменяющегося мира. "...Нет ни одного мотива его
стихов, который не был бы мотивом его жизни, – утверждает мемуарист, – и
наоборот, в жизни его не было ничего, что не было бы так или иначе отражено
в его стихах".
Он не преувеличивал, считая свои стихи достовернейшей автобиографией.
Слова он черпал из своего сердца. А сердце его тысячами незримых нитей было
связано со многим из того, что вобрали в себя беспредельно огромные понятия
– жизнь, эпоха...
Он рассказал о времени через себя.
Он рассказал о себе через время.
4
В один из дней 1925 года с Есениным встретился Качалов. "Меня поразила
его молодость, – рассказывал друг поэта. – Когда он молча и, мне показалось,
застенчиво подал мне руку, он выглядел почти мальчиком, ну, юношей лет
двадцати". Есенин начал читать стихи. Качалов видел "прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации, без мертвой
монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все
чувства, которые льются из стихов...".
О том же годе вспоминает писатель Никитин: "Встреча, как всегда,
началась стихами. Я не узнавал темного, мутного лица Сережи, разрывались
слова, падала и уносилась в сторону мысль, и по темному лицу бродила не
белокурая, а подбитая улыбка".
Так пей же, грудь моя,
Весну!
Волнуйся новыми
Стихами! -
вырывается у поэта, когда он чувствует прилив новых сил, когда он – "товарищ
бодрым и веселым".
И безысходная тоска сжимает его сердце в минуты душевного упадка,
подавленного настроения:
В ушах могильный
Стук лопат
С рыданьем дальних
Колоколен.
Но и в такие моменты ему чужда и надрывная слезливость, и мировая
скорбь. "Что случилось? Что со мною сталось?" – спрашивает себя поэт
бесхитростно и откровенно.
И с той же обезоруживающей прямотой, лишенной митинговой крикливости и
наигранного пафоса, он восклицает: "...Так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом".
Новое властно влекло к себе, звало "постигнуть в каждом миге Коммуной
вздыбленную Русь". И поэт откликался на этот зов стихами о Ленине, "Песней о
великом походе", "Анной Снегиной", "Балладой о двадцати шести",
"Стансами"...
От чистого сердца он говорил:
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.
Можно было думать, что жизненные позиции поэта определились. Желание
"быть певцом и гражданином... в великих штатах СССР" становилось
реальностью.
Но в действительности все обстояло сложнее. Старые привязанности
оказались более сильными, чем представлялось. От сегодняшнего и завтрашнего
взор поэта обращался ко вчерашнему:
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
И снова, как бывало прежде, в его душе борются разноречивые
переживания. Искреннее стремление вчувствоваться в новое не в состоянии
одолеть давнишних пристрастий. Рождаются сомнения, неуверенность в своих
силах, подчас приводящие к горькому итогу:
Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.
Все неотступнее ощущение одиночества.
В родном краю поэт, как ему кажется, никому не знаком, а "те, что
помнили, давно забыли". А жизнь идет своим чередом: сельчане "обсуживают
жись", хромой красноармеец "рассказывает важно о Буденном", комсомольцы
"поют агитки Бедного Демьяна"...
Болью и обидой наполняется сердце поэта:
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Но обижаться не на кого: пришло новое поколение и зазвучали новые
песни. Один из персонажей "Пугачева" – Бурков – восклицал:
...плевать мне на всю вселенную,
Если завтра здесь не будет меня!
Поэт сознает: неизбежен путь в "страну, где тишь и благодать". Круг
драматических переживаний как будто замыкается: впереди – смерть, тление,
небытие. Так что же – "плевать... на всю вселенную"? Нет, перед лицом
неотвратимого чувство и мысль поэта идут по иному руслу:
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.
Пусть ему выпала трудная доля, он желает живущим добра и радости:
"Каждый труд благослови, удача!.."
Оставшись наедине с самим собой, он видит, как
...луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова "милый".
"Чтобы каждый..."!
"Тянусь к людям", "люблю людей" – слова, которые могут служить
эпиграфом к лирике Есенина. В них заключено, быть может, то главное, что
делает его поэзию близкой и дорогой народу.
"Сутемень колдовная счастье мне пророчит" – это было сказано совсем еще
юным поэтом.
"Где мое счастье? Где моя радость?" – в тоске спрашивал он, прошедший
по дорогам жизни и сделавший "много ошибок".
Но как бы ни был трагичен его путь, счастье и радость не обошли поэта.
Он, чью судьбу "вихрь нарядил... в золототканое цветенье", познал счастье
дышать и жить на родной земле, счастье любви ко "всему живому".
И когда, устав от борьбы с самим собой, не сумев разорвать круг
разноречивых чувств, он прощался с близким другом, его слова не были
брюзжанием разочаровавшегося в жизни человека:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Не вообще жить не новей, а не новей жить так, как жил он, страдая от
бессилия сбросить груз прошлого и твердо стать на новый путь. Но для тех,
чья душа не испытала мучительного разлада, жизнь нова и прекрасна. И он
напутствует строителей "стальной" России:
Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
Поэт благословляет новую жизнь, новую юность, судьбу тех, кому
принадлежит будущее. И в этом – исторический оптимизм есенинской поэзии.
Общий тон его стихов нельзя назвать радостным.
– А вы думаете, что единственное жизнеутверждающее чувство есть
радость? – говорил Максим Горький Владимиру Луговскому. – Жизнеутверждающих
чувств много: горе и преодоление горя, страдание и преодоление страдания,
преодоление трагедии, преодоление смерти.
"Страдание и преодоление страдания" – движение не этого ли чувства
воплощено в стихах Есенина?
5
Давно замечено, что каждый художник должен быть ищущим: если он все
нашел и все знает, он на других не действует.
В лирике Есенина мы видим поиск своего места в жизни душой нежной и
чистой, но обремененной грузом прошлого. Художник сам пытается решать
сложные жизненные вопросы, к истине он идет своей дорогой.
Поиск этот велся "в сплошном дыму, в развороченном бурей быте", на
земле, "объятой вьюгой и пожаром".
То суровое время теперь стало историей, миновало многое из того, что
мучило поэта.
Но человечность и трагизм его переживаний, выраженные в проникновенных,
берущих за душу стихах, не потеряли и никогда не потеряют своей
притягательной силы.
Людям всегда близка правда человеческого сердца.
Доброе и правдивое сердце бьется в лирике Есенина. Ему чужды равнодушие
и черствость – оно отзывчиво и щедро на ласку, оно согрето любовью к родной
земле, к людям.
А ведь только такими сердцами и жива поэзия.
"ЭТА ПЕСНЯ В СЕРДЦЕ ОТЗОВЕТСЯ"
1
Два листка из томика Есенина, изданного в 1940 году в малой серии
"Библиотеки поэта". Два листка – четыре страницы: 295, 296, 297 и 298. На
них – три известных есенинских стихотворения; полностью – "Может, поздно, может, слишком рано..." и "Сочинитель бедный, это ты ли...", третье – "Я иду
долиной. На затылке кепи..." – обрывается на строке: "Их читают люди всякие
года". От времени бумага пожелтела, по краям – следы просохшей влаги, буквы
кое-где стерлись...
Чего, казалось бы, хранить старые листки. Тем более стихи, на них
отпечатанные, можно найти почти в каждом новом издании поэта вплоть до
есенинского тома в "Библиотеке всемирной литературы". Да и на памяти они: столько раз читаны и перечитаны, что запомнились сами собой – навсегда.
И все-таки эти два пожелтевших листка дороги мне бесконечно. Причину
объяснят строки из письма участника Великой Отечественной войны Рубцова
Александра Николаевича. Вот они:
"В июне 1941 г., уходя на фронт, я положил в карман томик С. Есенина,
почитаю, мол, на досуге. Так оно и было. Я читал стихи своим друзьям везде,
где нас заставало затишье и свободные минуты... Многие у меня переписывали,
а потом некоторые настойчиво стали просить: оторви хоть листок на память.
Так мне и пришлось расшить томик и по листочку дарить друзьям-однополчанам.
И так вот этот томик прошел вместе со мной по фронтовым дорогам до Восточной
Пруссии. Все тяжести и беды он вместе со мной испытал, и в огне и в воде
побыл. К концу войны у меня осталось только несколько листков..."
Письмо адресовано писателю Виктору Васильевичу Полторацкому, которому и
были присланы два листка – последние... Позже они пополнили хранящуюся у
меня папку, где собраны некоторые материалы о жизни поэзии Есенина в военные
годы. Надо ль подчеркивать, как много говорят эти человеческие документы,
какой "несказанный свет" падает от них на имя певца России.
Мы знаем: в годы великих испытаний художественное слово было боевым
оружием. Голоса многих поэтов – опытных и молодых, начинающих – звучали со
страниц фронтовых газет и наскоро отпечатанных брошюрок, по радио и с
партизанских листовок. "Жди меня", "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..."
Константина Симонова, "Огонек", "В прифронтовом лесу" Михайла Исаковского,
"Песня смелых", "Бьется в тесной печурке огонь..." Алексея Суркова – их








