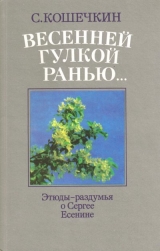
Текст книги "Весенней гулкой ранью..."
Автор книги: С. Кошечкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
свободной Ладоги просверлит бытие человек!"
И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной. -
Вот что обещает Америке новоявленный пророк. Речь идет о той же стране
Инонии, "где живет божество живых", но не божество стали и железа.
Потому что идеальный мир, по Есенину, – это мир свободной крестьянской
жизни, и его утверждает революция – сначала в России, потом – во всем мире,
во всей Вселенной.
Он был искренен, Есенин, в своих наивных откровениях, в своем
"крестьянском уклоне".
Небо – как колокол,
Месяц – язык,
Мать моя – родина,
Я – большевик, -
это выливалось из души, окрыленной одной думой – видеть родину в счастье и
славе. Той самой думой, что вела революционный народ, большевиков
"разметать все тучи" над просторами отчизны.
2
С Инонией он связывал не только воплощение крестьянской мечты о
безбедной жизни. В сказочной стране должно произойти и чудесное возрождение
народного творчества. Старый мир, "мир эксплуатации массовых сил", довел это
творчество до одра смерти. Теперь же "звездная книга для творческих записей"
открыта снова. "Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений
как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно
отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому
социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где
нет податей за пашни, где "избы новые, кипарисовым тесом крытые", где
дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы
и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченою брагой", – писал Есенин
в статье "Ключи Марии".
Слово "Мария", как пояснял сам автор, на языке сектантов-хлыстов
означает "душу". Отсюда "Ключи Марии" надо понимать, вероятно, как ключи
души, ключи художественного творчества, поэзии. Статья написана в 1918 году.
Одним из первых с ней ознакомился Г. Устинов. "...Когда он (Есенин. – С. К.) прочитал мне рукопись, – вспоминал литератор, – я начал уговаривать его,
чтобы он не печатал ее.
– Почему?
– Как почему? Да ты тут выдаешь все свои тайны.
– Ну, так что же. Пусть. Я ничего не скрываю и никого не боюсь".
В статье действительно раскрыты некоторые "секреты творческой
лаборатории поэта". В этом смысле ее можно назвать своеобразным ключом к
постижению характера "лирического чувствования" Есенина и той образности, которую, говоря его словами, он "положил основным камнем в своих стихах".
Определяя истоки народного творчества, Есенин внимательно вглядывается
в издавна сложившийся крестьянский быт, отношения человека к природе. Здесь
находит он благодатную почву, питавшую фантазию художников из народа,
создателей национального орнамента. Коньки на крышах, петухи на ставнях,
голуби на князьке крыльца – во всех этих образах скрыт глубокий смысл. Так
цветы на белье означают "царство сада или отдых отдавшего день труду на
плодах своих". Они – как бы апофеоз трудового дня.
Так же, как и орнамент, словесное народное искусство берет свое
образное начало в "узловой завязи" человека с природой. Стремление
крестьянина проникнуть в тайны мироздания породило множество мифов. Их
основа – "заставление воздушного мира земною предметностью" или "крещение
воздуха именами близких нам предметов".
Есенин разделяет художественные образы на три вида: заставочный,
корабельный и ангелический.
Заставочный образ, как расшифровывает сам автор, – это метафора: солнце
– колесо, телец, заяц, белка; звезды – гвозди, зерна, караси, ласточки и т.
д.
Развернутое сравнение ("уловление в каком-либо предмете, явлении или
существе струения") – образ корабельный: зубы Суламифи, "как стадо
остриженных коз, бегущих с гор Галаада".
Ангелический образ представляет собой развернутую метафору: "зубы
Суламифи без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся
настоящими, живыми, сбежавшими с гор Галаада козами".
Все эти образы поэт находит в загадках и мифах, в крупнейших
произведениях народного творчества: "Калевала", "Эдда", "Слово о полку
Игореве"...
В 1924 году Есенин убежденно скажет, "что в той стране, где власть
Советов, не пишут старым языком".
Поиски нового поэтического языка, новых художественных средств
запечатлены и в статье "Ключи Марии".
Вчитываясь в народную поэзию и в произведения классиков, Есенин
приходит к выводу: истинный поэтический образ определен бытом, жизнью. Если
это так, то революционная новь может быть выражена только через новые, ею
рожденные "заставки". Вот почему, рассуждает поэт, "уходя из мышления
старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие
образы... на заставках стертого революцией быта...".
Вместе с плодотворными мыслями статья "Ключи Марии" содержит положения
туманные, неубедительные, а подчас вообще неверные. Но основное ее зерно
неотделимо от осознания богатств народной души, "которая смела монархизм...
рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма".
Неотделимо от веры в поэзию, корнями своими уходящую в глубины народной
жизни.
3
В начале нынешнего века в Лондоне существовал "Клуб поэтов". Во главе
его стоял критик Т. Э. Хьюм. В 1908 или 1909 году он выдвинул "теорию
образа" и назвал ее словом "имажизм" (от франц. image – образ). Суть этой
теории заключалась в том, что поэт должен создавать "чистые", "изолированные
образы, в которых запечатлевались бы его субъективные мимолетные
впечатления. Практика показала несостоятельность имажизма, и группа поэтов,
его исповедовавших, распалась. (Кстати сказать, одно время к имажистам
примыкал Ричард Олдингтон, ставший впоследствии известным романистом.)
Первым русским критиком, писавшим об имажизме, была Зинаида Венгерова.
Ее статья "Английские футуристы", опубликованная в сборнике "Стрелец"
(1915), и открыла для читателей России заморскую новинку – "теорию образа".
Тремя годами позже за имажизм ухватился Вадим Шершеневич и, переиначив
его на "имажионизм", окрестил этим словом новое, якобы уже заявившее о себе
литературное течение, "врага" футуризма. Вскоре на литературных подмостках
Москвы появляется "передовая линия имажинистов", и среди них – Есенин.
Вместе с В. Шершеневичем, А. Мариенгофом, А. Кусиковым он подписывает
декларации, печатается в имажинистских сборниках, журнале "Гостиница для
путешествующих в прекрасном", участвует в литературных дискуссиях, выступает
с чтением стихов в кафе "Стойло Пегаса"...
О той поре мне довелось беседовать с А. Мариенгофом (в 1957 году). Он
говорил:
– Сразу после революции литгруппы возникали как грибы. Вчера не было,
сегодня – просим любить и жаловать: "ничевоки" или там "эвфуисты". Или еще
какие-нибудь "исты". И у каждой такой группы – своя декларация или манифест.
Друг друга старались перекричать... Чего только не декларировали! Вот и мы
тоже...
– А ваши-то имажинистские декларации вы что же, сообща писали?
– Шершеневич их составлял, а уже потом мы их читали, обсуждали...
Речь зашла о первой декларации имажинистов, опубликованной в 1919 году.
– Есенин хотя и подписал наш "манифест", – рассказывал Мариенгоф, – но
суть поэтического образа и его роль в стихотворении понимал по-своему, не
как мы, Шершеневич и я. Помнится, об этом Шершеневич писал в книжке "2X2=5".
Мы говорили: образ – самоцель, стихотворение – толпа образов. "Работа"
образа в стихотворении – механическая... Есенин же танцевал от другой печки.
Он толковал о содержательности, выразительности образа, об органической
"работе" его в стихах. Расхождения, конечно, существенные, но мы как-то не
очень в это вникали... "...Молодость, буйная молодость..."
Молодость, конечно, молодостью... Возможно, она и вела компанию поэтов
к стене Страстного монастыря, на которой появлялись озорные строки...
Возможно, от юного задора шли и шумные выступления в "Стойле Пегаса"...
Но только ли молодостью можно объяснить появление таких, например,
заявлений: "Искусство не может развиваться в рамках государства", "Да
здравствует отделение государства от искусства..." (Шершеневич), "Любовь -
это тоже искусство. От нее так же смердит мертвечиной..." (Мариенгоф).
Когда я заговорил об этом, мне показалось, что особой охоты углубляться
в "имажинистику" у моего собеседника нет, и мы перешли на другие темы.
Почти год спустя А. Мариенгоф прислал мне открытку. Он сообщал
некоторые детали своей встречи с Есениным после возвращения поэта из-за
границы. Тогда Мариенгоф впервые услышал "Черного человека". Есенин, писал
он в открытке, "разумеется, не пришел в восторг от моих слов: "Поэма
декадентская"..." и т. д.
Прочитав открытку, я пожалел, что во время нашей встречи не показал
бывшему имажинисту одну выписку. Это – цитата из сборника
литературно-критических очерков Федора Иванова "Красный Парнас", изданного в
1922 году в Берлине. Она гласит: "Имажинизм – яркий цветок умирающего
декаданса, поэзия разрушения и неверия, его языком заговорила культура,
дошедшая до предела, до самоуничтожения".
Вот тут декаданс на месте, "умирающий декаданс", к чему Есенин по
существу не имел никакого отношения.
Прав был Юрий Тынянов, отметив "самое неубедительное родство" у Есенина
с имажинистами, которые "не были ни новы, ни самостоятельны, да и
существовали ли – неизвестно".
Весьма характерна одна есенинская надпись на книге, относящаяся ко
времени его работы над "Пугачевым": "Не было бы Есенина, не было бы и
имажинизма. Гонители хотят съесть имажинизм, но разве можно вобрать меня в
рот?"
Действительно, если бы не Есенин, о группе имажинистов вряд ли бы
сейчас и вспоминали.
И, оставляя в стороне имажинизм Шершеневича и Мариенгофа, этот
неоригинальный "цветок умирающего декаданса", вероятно, следует говорить об
имажинизме Есенина. Ведь именно на эту мысль наводит только что приведенная
надпись на книге, как, впрочем, и известное высказывание поэта в связи со
"Словом о полку Игореве": "Какая образность! Вот откуда, может быть, начало
моего имажинизма!"
"М_о_е_г_о имажинизма!"...
4
...Беседуем с Городецким об имажинизме, о статьях Есенина "Ключи
Марии", "Быт и искусство". Сергей Митрофанович, как и прежде, весьма
критически отзывается о "теоретических построениях", содержащихся в этих
работах, в том числе и о есенинской "классификации образов". Я пытаюсь
защитить статьи, привожу цитаты из них.
– Разве не точно пишет Есенин о мифическом образе? – раскрываю том с
"Бытом и искусством", читаю: – "Образ заставочный, или мифический, есть
уподобление одного предмета или явления другому:
Ветви – руки,
сердце – мышь,
солнце – лужа.
Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений
человеческим бликам.
Отсюда Даждь – бог, дающий дождь, и ветреная Геба, что
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила".
– Кстати, – прерывает меня Городецкий, – над этой строфой тютчевской
"Весенней грозы" Есенин и подтрунивал: дескать, хорошо, только почему на
русских небесах – греческая богиня Геба? Говорил, а сам улыбался...
Прошу Сергея Митрофановича рассказать об отношении Есенина к поэзии
Тютчева подробнее. Помнит он, к сожалению, немногое.
В 1915 году по приезде в Петроград Есенин несколько месяцев жил у
Городецкого. Известный писатель имел неплохую библиотеку, и молодой рязанец
ею пользовался. Державин, Пушкин, Лермонтов, Никитин – любого поэта он мог
читать в лучших изданиях. Не раз побывало в руках Есенина Полное собрание
сочинений Тютчева, выпущенное издателем Марксом как приложение к журналу
"Нива" за 1913 год. Однажды Городецкий и Есенин беседовали о поэтах прошлого
века – знатоках древней мифологии, вспоминали Тютчева, его "Весеннюю грозу".
Больше о Тютчеве не говорили...
Осмеливаюсь высказать Сергею Митрофановичу предположение, что Есенин
своеобразно откликнулся на последнюю строфу "Весенней грозы" в одном из
стихотворений 1917 года.
– В каком же? – интересуется Городецкий.
У меня под рукой нужного тома не оказывается, и продолжение разговора
переносим на следующую встречу.
Надо полагать, с наиболее известными стихами Федора Ивановича Тютчева
Есенин познакомился в школьные годы: "Весенняя гроза", "Весенние воды",
"Зима недаром злится...", "Чародейкою Зимою..." печатались в хрестоматиях
тех лет. О том, что Тютчев, как, впрочем, и Фет, и Кольцов, и Некрасов, не
прошел мимо внимания юного поэта, говорят и ранние есенинские стихи.
Многим поколениям читателей запомнился тютчевский образ русского
зимнего леса, очарованного волшебным сном:
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...
Как бы с тютчевского голоса подхватывает эту тему Есенин и по-своему
ведет ее, опираясь на детали хорошо знакомого ему деревенского быта:
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна...
Тютчевский лес окутан волшебной дымкой не случайно: ведь он околдован
"чародейкою Зимою". У него – жизнь "неподвижная, немая, чудная", и весь он
под солнцем блещет "ослепительной красой"...
Есенинский зимний лес без таинственной дымки: заколдованный невидимкой,
он всего лишь "дремлет... под сказку сна" (у Тютчева: "Сном волшебным
очарован"). Сосна, что подвязалась "словно белою косынкой", уподобилась
согбенной старушке с клюкой. "А над самою макушкой долбит дятел на суку".
Стихотворение "Пороша" (1914), о котором только что говорилось, – во
всем корпусе есенинских произведений, пожалуй, единственное, где более или
менее ощутимо прямое влияние Тютчева. Однако дело не в количестве подобных
примеров. Суть в близости живого и непосредственного чувства природы у
Тютчева и Есенина.
Страстное утверждение старого поэта:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык... -
молодой лирик не мог не разделить всем сердцем: он и сам воспринимал каждую
травинку, каждое дерево как нечто одушевленное, неотделимое от человека. В
то же время характер образов одушевленной природы у того и у другого поэта
различен. "Вечер пасмурно-багровый светит радужным лучом" и "Теплый вечер
грызет воровато луговые поемы и пни" – принадлежность этих строк угадывается
сразу.
Образы природы из некоторых поздних стихотворений Тютчева вообще чужды
Есенину (например, "природа-сфинкс"), как чужды ему тютчевская космогония, мысль о "древнем хаосе" – основе мироздания...
В 1855 году под впечатлением поездки в родное село Овстуг (Орловская
губерния, ныне Брянская область) Тютчев написал стихотворение, начинающееся
строфой:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Есенину были хорошо знакомы подобные горестные картины. В "ветхой
избенке" слышал он "жалобы на бедность, песни звук глухой" (цикл "Больные
думы", 1912 год). "Потонула деревня в ухабинах. Заслонили избенки леса..." -
начал он свою "маленькую" поэму "Русь" (1914). Они навещали поэта – думы о
заброшенности отчей земли, о сиротливости крестьянских изб, о пустынности
поля – "горевой полосы"... "Край ты мой забытый, край ты мой родной!" – не
раз вырывались из его груди безрадостные вздохи...
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной, -
писал Тютчев, вглядываясь в лик "края... русского народа". Сам поэт видел за
этой "смиренной наготой" душевную красоту, непочатую силу. .
И тут снова вспоминается есенинская "Русь": сыновье признание в любви
"родине кроткой" с ее седыми матерями и печальными невестами, с ее добрыми
молодцами – "всей опорой в годину невзгод"...
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить;
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
Нет ли отзвука этого знаменитого четверостишия Тютчева в есенинском
стихотворении "Запели тесаные дроги..." (1916), обращенном к родине: Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить -
Я научиться не могу.
Вера в Россию, ее народ, ее ясную судьбу не угасала в сердцах обоих
поэтов. Они жили в разное время, различно было их социальное положение,
воспитание, но в пути каждому из них светило непостижимо емкое слово
"Родина".
Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой? -
писал Тютчев в 1857 году. Он был уверен, что этот луч "блеснет... и оживит, и сон разгонит и туманы...".
Минуло шестьдесят лет. Час свободы пробил. И когда потрясенный
октябрьской бурей мир двинулся к новому берегу, крестьянский сын, поэт
другой судьбы сказал: "Верьте, победа за нами!"
"За нами" – за "отчалившей Русью", за той самой "темною толпой" народа, за теми самыми "мирными пахарями", "добрыми молодцами", что обрели
неизбывную веру в свои силы и встали вместе с рабочим людом за землю, за
волю...
В один из осенних дней Городецкий, как он сказал, заглянул ко мне на
минутку – оставить новые стихи и распрощаться: надо было успеть на собрание
поэтической секции в Доме литераторов.
– А я побывал в Рязани, – сообщил я ему. – На юбилейном есенинском
вечере!
– Как он прошел? – спросил Сергей Митрофанович, садясь на стул. – Это
интересно...
Я рассказал о новом концертном зале, которому присвоено имя Сергея
Есенина, о выступлениях рязанцев и москвичей, об открытии бюста поэта в фойе
театра, о скромном букете фиалок, который положила на мрамор неизвестная
старушка...
– Был там Петр Иванович Чагин, – добавил я. – Мы с ним в гостинице
проговорили почти до утра. Чудесный человек!
– Замечательный! – оживился Городецкий. – Я с ним давно дружу.
– И между прочим, знаете, что Чагин рассказал? – продолжал я. – Что он
очень любит стихи Тютчева и в Баку когда-то читал их Есенину. А тот слушал и
восхищался...
– Ну, вот видите...
– Да иначе, наверно, и быть не могло... Ведь многие стихи Есенина
последних лет, рассуждали мы с Чагиным, полны драматической напряженности,
горьких раздумий, скорби утраченных надежд. А это все свойственно лирической
исповеди позднего Тютчева. Вспомнили мы с Чагиным и мудрый тютчевский взгляд
на приход нового поколения:
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир...
Мы сошлись с Чагиным на том, что добрый гений, к которому в этих стихах
обращался Тютчев, не оставил и Есенина. Автор "Руси советской" с открытой
душой слушает, как "другие юноши поют другие песни". Он знает, что "они, пожалуй, будут интересней – уж не село, а вся земля им мать". И душевно его
напутствие новому поколению, чей свет уже разгорается над родными
просторами...
Сергей Митрофанович понимающе кивнул и, хитровато улыбнувшись, спросил:
– А все-таки как же Есенин откликнулся на строки Тютчева о ветреной
Гебе, что "громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила"?
– А вот как – в стихотворении "Гляну в поле, гляну в небо...":
Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.
О, я верю – знать, за муки
Над пропащим мужиком -
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.
Что-то есть похожее, не правда ли?
– Кажется, есть. И все-таки повторю банальную фразу, Тютчев остается
Тютчевым, Есенин – Есениным...
– А Городецкий – Городецким, – вставил я.
– Совершенно верно, – засмеялся Сергей Митрофанович...
5
Первые послеоктябрьские годы были исключительно тяжелыми для молодой
Советской республики. Иностранная интервенция. Белогвардейщина.
Контрреволюционные мятежи, диверсии, заговоры. Останавливались заводы: не
хватало топлива. Разруха в хозяйстве, на транспорте. Эпидемии. Голод.
Вынужденное введение продразверстки вызвало ропот деревни.
"...Крестьянство формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольно, – говорил В. И. Ленин в 1921 году, – ...оно этой формы отношений
не хочет и дальше так существовать не будет. Это бесспорно. Эта воля его
выразилась определенно. Это – воля громадных масс трудящегося населения. Мы
с этим должны считаться, и мы достаточно трезвые политики, чтобы говорить
прямо: давайте нашу политику по отношению к крестьянству пересматривать" (В.
И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 59).
Коммунистическая партия принимала целый ряд переходных мер, отвечающих
интересам Советского государства, рабочего класса и широких масс
крестьянства.
В этой сложнейшей обстановке, "в развороченном бурей быте" Есенин
растерялся. Вместо ожидаемого "мужицкого рая", сказочного края Инонии перед
ним возник лик родной страны, обезображенной войной и разрухой. Казалось:
будут "злаченые нивы с стадом буланых коней", "золотые шапки гор", "светил
тонкоклювых свист"...
Мечталось:
И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор...
Что же увидел он в действительности?
Тучами изглодано небо, сквозь ржанье бурь пробивается пурговый
кашель-смрад, по полю скачет стужа, в избах выбиты окна, настежь распахнуты
двери. Поэт в отчаянии:
О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
"Завязь человека с природой" разорвана: "сестры-суки и братья-кобели"
людьми отторгнуты, "человек съел дитя волчицы". И над всем этим страшным
видением, изображенным в "Кобыльих кораблях", как в годину бед, "трубит, трубит погибельный рог" из "Сорокоуста".
В своей "Встрече" (1920), посвященной Есенину, Мариенгоф откровенничал: По черным ступеням дней,
По черным ступеням толп
(Поэт или клоун?) иду на руках.
У меня тоски нет.
Только звенеть, только хлопать
Тарелками лун: дзинь-бах!
Сборник, в котором напечатана "Встреча", назывался: "Стихами
чванствую".
Что может быть общего между этой клоунадой и глубинными переживаниями
Есенина? Между "стихами чванствую" и, как мог бы сказать Есенин, "стихами
отчаиваюсь"?
Исток есенинской драмы – в крушении его иллюзий о "чаемом граде":
"...Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал..." Не надо
обвинять поэта – заблуждение было не виной, а бедой Есенина, как, впрочем, и
многих других восторженных мечтателен о мгновенном преображении старого мира
в земной рай.
"Только в союзе с рабочими спасение крестьянства", – устами Ленина
говорила партия большевиков.
В представлении Есенина "смычка" города и деревни должна была привести
"полевую Русь" не к спасению, а к гибели.
Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню,
Водит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх...
Когда-то, в начальном периоде промышленного развития России, Глеб
Успенский так описывал появление в сельской местности парового котла:
"Тысячепудовое чудовище наконец приехало из Москвы на станцию железной
дороги и, окруженное массою распоясовского народа, тронулось оживлять
мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелепую железную пасть, как бы
грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась перед ним, всю эту
рвань, которая копошилась вокруг него. Медленно и грозно двигается оно
вперед. То затрещит и рухнет под ним гнилой мост... То вдруг, на крутом
повороте... оно вдруг свернется набок и растянется на пашне, раздавив под
собою и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андрюшку. .
Душегубец-чудовище..." ("Книжка чеков", 1876 год.)
Вспоминается и рассказ Ивана Бунина "Новая дорога", опубликованный в
1901 году. Символична завершающая его картина: "Стиснутая черными чащами и
освещенная впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный туннель.
Столетние сосны замыкают ее и, кажется, не хотят пускать вперед поезд. Но
поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым, отрывистым дыханием, он, как
гигантский дракон, вползает по уклону, и голова его изрыгает вдали красное
пламя, которое ярко дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, злобно
озаряет угрюмую аллею неподвижных и безмолвных сосен. Аллея замыкается
мраком, но поезд упорно подвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет
над ним длинною белесою грядою, полной огненных искр и окрашенной из-под
низу кровавым отражением пламени".
Нечто похожее, враждебное деревне, всему живому, видится и Есенину:
Идет, идет он, страшный вестник,
Пятой громоздкой чащи ломит.
И все сильней тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
И стихотворение озаглавлено: "Сорокоуст" – молитва по усопшему, совершаемая в течение сорока дней после его смерти.
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Нет, не угнаться красногривому жеребенку за поездом, храпящим железной
ноздрей.
Трубит, трубит погибельный рог...
Душевная сумятица поэта, растерянность перед "страшным вестником", боль
за живое, подминаемое железным, бездушным, – все это вылилось в стихи
искренние и трагические.
Не без основания Валерий Брюсов считал, что есенинский "Сорокоуст" (
1920) – "самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние
два или три года". Сказано, может быть, слишком категорично, но Брюсов не
мог не восхититься высокой изобразительностью, подлинным лиризмом
есенинского произведения.
В строках из стихотворения "Мир таинственный, мир мой древний...":
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь, -
кажется, сама м_у_ка поэта обрела плоть и кровь, стала зримой и потому
особенно впечатляющей.
Неотвратимая беда, нависшая над "деревянною Русью", несет с собой
гибель и певцу деревни: "Не живые, чужие ладони, этим песням при вас не
жить!"
Однажды "нежная душа" ожесточилась. Уже прозвучало как решенное -
"смертельный прыжок". Но что он может изменить? Ведь то, что "живых коней
победила стальная конница", предрешено историей. Остается одно, как не раз
бывало на Руси: "заглушить удалью" тоску и боль, забыться в озорстве и
чудачествах.
Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев -
Я такой же, как ты, хулиган.
"Последний поэт деревни", вчера еще певший "над родимой страной
аллилуйя" и ожидавший свой "двенадцатый час", начинает представлять себя
забубённой головушкой, забулдыгой. Ему как будто доставляет удовольствие
кричать о том, что он "разбойник и хам и по крови степной конокрад".
Но за внешней бравадой, показным ухарством и цинизмом не может укрыться
добрая, отзывчивая душа. Ее дыхание живо и неподдельно. Это всегда понимали
вдумчивые и доброжелательные читатели поэта.
"В общем он очень милый малый с очень нежной душой. Хулиганство у него
напускное – от молодости, от талантливости, от всякой "игры", – писал В. И.
Качалов.
"Милый, талантливый Есенин, – обращался к автору стихов "Хулиган",
"Исповедь хулигана" А. Н. Толстой, – никогда, сроду не были вы конокрадом и
не стаивали с кистенем в голубой степи... Кому нужно, чтобы вы изо всей мочи
притворялись хулиганом? Я верю вам и люблю вас, когда вы говорите:
Стеля стихов злаченые рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.
Но, когда вы через две строчки выражаете желание:
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну...
не верю, честное слово... Милый Есенин, не хвастайте..."
Сердцем он оставался таким же, каким был раньше. Декадентское зелье не
отравило крестьянского сына, не обмелел его поэтический родник. Не
нарушалось единство кровообращения с землей, со всем живым. И потому так
естествен и глубок вздох:
Я люблю родину.
Я очень люблю родину.
И тут же – мучительное, тревожное: "Куда несет нас рок событий..."
Чтобы уяснить будущее, поэт оглядывается назад. Ее всегда прибыльно
читать – "земли родной минувшую судьбу"...
"Я ХОЧУ ВИДЕТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА..."
1
"Бог с ними, этими питерскими литераторами... они все романцы, брат,
все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки
Разина". – Эти строки пишет Есенин поэту Александру Ширяевцу, уроженцу
Поволжья.
Есенин приехал на побывку в Константинове, Ширяевец – в Туркестане.
"Питерские литераторы" – в первую очередь Д. Мережковский, З.
Гиппиус...
"Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне
кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы".
Идет июнь 1917 года. "Крестьянская купница" волнуется...
Есенин чувствует: час "преображения" настает. И не красного словца ради
вспоминается ему "в Жигулях песня да костер Стеньки Разина" – то, что
исстари пьянило русское сердце, полоненное мечтой о воле, что безмерно
дорого обоим поэтам – и волгарю, и рязанцу. Да им ли только!
Не к тому ли времени, может быть, больше, чем к какому-либо иному,
приложимы строки Ярослава Смелякова:
Острее стало ощущенье
Шагов Истории самой.
И вот – Октябрь.
Его пламя как бы заново высветило во мгле минувшего образы Болотникова,
Разина, Пугачева, приблизило их к людям, вставшим во весь рост. Героический
дух народных заступников словно оживал в сердцах красных воинов. "Правда"
писала в 1922 году: "Многое могли бы поведать старые чапаевцы о легендарных
подвигах полков имени Стеньки Разина, Пугачева, воскресивших удалые подвиги
волжской вольницы".
В глуби времен видел революционный народ истоки своего свободолюбия и
храбрости. Вспоминал былинные распевы, предания, обычаи...
...У бедного мужика Ивана Чапаева родился первый сын. Иван зовет к себе
гостей "именитых" отпраздновать рождение первенца.
"Именитые" не идут к бедняку. Иван выходит в "поле чистое" "поискать
себе гостей для праздничка".
Три встречных странника (Пугачев, Разин, Ермак) согласились пойти к
нему.
Их подарки младенцу:
От первого – "любовь народная". Второй дарит "удаль молодецкую". Третий
– "смерть геройскую".
Так в "Правде" (30 сентября 1922 года) излагалась былина, сочиненная
красноармейцем Беспрозванным.
Вглядывались в минувшее и писатели.
В конце 1921 года Максим Горький, находясь в Берлине, пишет сценарий
"Степан Разин". (Работа предназначалась для французской кинофирмы, постановка фильма не состоялась.)
Место действия одной из сцен – почти как в письме Есенина: берег реки,
горят костры...
"Борис (поводырь слепцов-гусляров. – С. К.) задумчиво смотрит на
Разина, вздыхая, говорит:
– Людей ты, не жалея, бьешь... Разин нахмурился:
– Нет, людей я жалею. Я для людей, может, душу мою погублю... Ты не
понимаешь этого, птица. Уйди-ко..."
Запомним этот эпизод: к нему мы еще вернемся.
Сарынь на кичку.
Кистень за пояс.
В башке зудит
Разгул до дна.
Свисти-глуши,
Зевай-раздайся,
Слепая стерва – не попадайся,
Вввв-а, -
гремел на литературных вечерах голос Василия Каменского – поэт читал отрывки
из своей поэмы "Сердце народное – Стенька Разин". Слушателей захватывал
буйный протест против старого мира, боевой задор, ощущение силы, жажда








