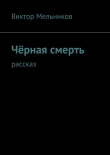Текст книги "Смерть считать недействительной
(Сборник)"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Ночь

Капитан Козаченко собирался выйти из части засветло, но не рассчитал, что ему еще придется оформлять выписку продуктов. А со всякими делами, касавшимися питания, у них на Ленинградском фронте что ни день становилось все строже.
Когда он наконец ушел от каптенармуса, холодное зимнее солнце уже соскользнуло за дальний лес на западе.
Конечно, можно было взять с собой вместо продуктов продовольственный аттестат. Но вдруг комендант определит на ночлег в одно место, а на довольствие зачислит в другое, за тридевять земель? Вот и тащись бог знает куда, к тому же – по незнакомому городу. Нет, паек с собой – это надежней!
Впрочем, одно название – паек! На двое суток – восемьсот граммов хлеба, шесть с половиной кусков сахару, и, как говорит каптер: «В расчете!» Причем это – фронтовая норма. А что остается гражданскому населению?..
Но об этом страшно было и думать, и Козаченко, пересекавший бескрайнее в сумерках кочковатое мерзлое поле, прибавил шагу. Хорошо, у его жены в Башкирии есть мать, а у той и огородишко и яблонь восемнадцать стволов – дочери его с голоду не умрут, да и фашист до их мест не дойдет. Но не одни ж его дети на свете живут. Ох, попался бы ему в руки Гитлер! Только бы попался!
Чтобы отвлечься от не дававших покоя мыслей, Козаченко велел себе считать, через сколько шагов встретит первую воронку от бомбы или снаряда, затем вторую, третью и т. д. Однако скоро поймал себя на том, что счет ведет механически, а думает по-прежнему об одном и том же. И понял: никуда ему от самого себя не деться…
«Вот дьявол! И что меня угораздило так задержаться! Разве сейчас, в потемках, „проголосуешь“!
И попутчика нет… Один выход: жать и жать… И километровых столбов не видно, – наверно, снарядами повыворотило. Но я думаю, – Козаченко начал говорить с собою вслух, так было легче шагать, – я думаю, километров не больше тридцати осталось. Три ведь я уже прошел. Добрых! Значит, если шевелить ногами как следует, то часов пять осталось топать. Зато потом… – Капитан Козаченко даже улыбнулся от мысли, что его ожидает потом. – Не может же быть, чтобы у коменданта в таком городе было просто общежитие, – конечно ж, гостиница! И не какая-нибудь, а по всем правилам: с кроватями, а на кроватях пружинные матрацы, а на матрацах простыни… Черт побери!»
Козаченко вспомнил, как по субботам после бани жена стелила свежее белье, вспомнил даже, какое испытывал ощущение от прикосновения к телу хрустящей, чуть подкрахмаленной льняной простыни. Он не был кадровым военным, который уютом дома пользуется редко и оттого не знает толком его вкуса. Козаченко был запасником, призванным в армию в тридцать девятом году, и хотя судьба сложилась так, что после финской войны он уже гимнастерки не снял, но мыслями все время оставался в родном доме, с женой, с детьми. Кстати, он только на войне понял, что был завзятым семьянином. Никогда даже не поверил бы этому раньше!
«А ноги – к печке. К кафельной. И чтобы она была только что истоплена…
Хорошо все-таки, что надумали послать на это совещание в Политуправление фронта меня, – могли бы и кого-нибудь другого. Теперь хоть одним глазом посмотрю, что это за город. Шутка сказать: Ленинград, четвертый месяц его обороняю, вторую войну на его защите стою, а до сих пор ни разу не видел!»
Поле кончилось, Козаченко вышел на шоссе, но не успел пройти и десятка метров, как поскользнулся и упал. На шоссе было очень скользко – ветер сдул весь снег.
Встал, перешел на тропку обочь дороги, подумал: «Интересно, а остался в Ленинграде хоть один дворник, который по-прежнему посыпает песком тротуар? Небось до войны перед всеми домами было посыпано…»
Резко себя оборвал:
«Нечего вспоминать о чем не следует! Надо шагать– ну и шагай без рассуждений!»
Но тут же не согласился с этим окриком: идти, споря с самим собой, было легче.
«А куда спешить? Совещание только утром начинается, нечего из себя жилы тянуть!»
Нарочно сбавил шаг. Однако моментально дал себя знать мороз.
Козаченко разозлился: «Кафельной печки захотел! Мимоза! Пока ты до той печки доберешься, в ней все угли остынут!»
И снова наддал ходу.
Временами ветер унимался, и тогда в поле воцарялась неправдоподобная тишина, если не считать скрипа снега под ногами. Козаченко начинал беспричинно нервничать. Он не понимал, что это на него так действует после трех с половиной месяцев переднего края тишина.
Его обогнала колонна машин, он «голосовал», но ни одна не остановилась. Затем промчалась легковая, – должно быть, с большим начальством. Эту он сам не посмел задержать. Потом, не обратив на него внимания, проскочили два грузовика. И только на следовавшую за ними полуторку ему наконец удалось взобраться – шофер притормозил.
В кузове машины, где он оказался единственным пассажиром, он обнаружил плащ-палатку водителя. Она, правда, изрядно промерзла, отчего гремела, как оторванный от крыши лист железа, но он как следует подмял ее под себя и, привалившись поудобнее к задней стенке кабинки и по-бабьи засунув руки в рукава, умиротворенно подумал: «Напрасно костят всех шоферов подряд: все-таки и среди них встречаются порядочные люди… Да, надо предупредить его, чтобы сказал мне в городе, где ближе к коменданту сойти, а то еще в сторону завезет».
Но едва собрался подняться с места, на котором так славно пригрелся, как машина неожиданно остановилась. Он увидел: водитель заметил на дороге женщину с мешком за плечами, которая нерешительно и без надежды подняла руку.
Она так торопилась забраться в кузов, что никак не могла сообразить, как же это сделать ловчее.
– Ставьте ногу вот сюда, – помог ей Козаченко, – на колесо. – Поехали, водитель! Села!
Теперь ему грех было на что-нибудь жаловаться: даже попутчица попалась!
Разговор, который он немедленно затеял, хотя почти не различал ее в темноте, начался с обычных путевых расспросов.
– Откуда это вы так поздно? И одна… Стреляют же!
Женщина дула на иззябшие пальцы в бумажных перчатках и не ответила. Но Козаченко это не остановило.
– Молчите? А вот убило бы вас тут на шоссе, что бы вы тогда сказали? А? И даже никто бы не знал: кто такая? Зачем? Ну чего ради вы по фронтовым дорогам раскатываете? Да еще к ночи! В гости, что ли, к кому ездили?
Она усмехнулась:
– Хороши гости…
– А к кому ж тогда?
– По деревням ходила, думала вещи на продукты выменять. Свекровь говорила: в гражданскую все так делали. Ну, вот и я отправилась – попробовать. У меня выходной сегодня.
Козаченко стало почему-то неловко, он не нашелся, что ответить.
Заворочался на плащ-палатке, сказал:
– Вам, наверно, неудобно. Нате плащ-палатку. Будет поменьше трясти.
Замолчал. Следующий вопрос задал много времени спустя:
– Семья большая?
– Сын у меня.
– Ну и как, достали что-нибудь?
– Как же! – сыронизировала она. – Половину еще гам оставила! – и тряхнула мешком.
Мешок был пуст.
В кармане у Козаченко лежал сверток с сухим пайком. Он вынул его и хотел развернуть, чтобы отломить женщине кусок хлеба, но, почувствовав, как немного весит сверток, неожиданно для самого себя протянул ей весь.
– Нате. Представляю, как у вас живот подводит.
Вы ж, наверно, и утром дома не ели, надеялись в деревне разжиться. Берите, не стесняйтесь.
В ее голосе зазвучали наконец теплые нотки.
– Зачем это? – сказала она с удивлением. И тут же добавила: – Все мне? Ни за что. У вас же ничего больше нет!
Но ее сопротивление только сделало его настойчивей. И хотя он уже пожалел, что не оставил себе ни ломтика, ответил даже сердито:
– Нашли о ком беспокоиться! Меня комендант накормит!
Она не поверила.
– Да говорю вам: накормит! Неужели я врать себе позволю? Не мальчишка! Вот он, аттестат, в кармане! – Он сделал вид, что лезет за ним в полевую сумку, хотя все равно их окружала темнота. – И сахару возьмите, его сосать хорошо: рот полный, и сытнее сразу.
Они въехали в Ленинград. Впрочем, Козаченко не мог разобрать, что это за город, велик ли он, похож ли на какие-нибудь другие. Только красные огоньки фонариков под козырьками (должно быть, милиционеры на перекрестках) обозначали улицы, которых не было видно.
Взвыла сирена. Ей ответила другая, третья. Казалось, весь невидимый город взвыл, и тут стало слышно, как он громаден. Торопливо, перебивая одна другую, захлопали зенитки. Где-то глухо стукнула бомба. Зарницы выстрелов бросали неверные отблески на темные шеренги домов, которые стояли, как в засаде, притаившиеся и безмолвные.
Водитель резко затормозил. Женщина даже повалилась на Козаченко. Она нечаянно обняла его, и он ощутил, как она худа.
– Простите, пожалуйста, – сказала она подымаясь.
Водитель выглянул из кабины:
– Всё, друзья! Дальше не поеду.
Козаченко помог женщине сойти. Под ногами звенело битое стекло. Откуда-то сверху свешивались до земли закрутившиеся на концах в кольца трамвайные провода.
Козаченко подумал: так вот он какой, Ленинград…
Женщина спросила:
– Вы куда сейчас? Нам, случайно, не по дороге?
– Не знаю, я здесь впервые. Мне – к коменданту, чтобы устроил ночевать. Где у вас комендант?
– Комендант? Это через весь город. Вы в потемках, пожалуй, всю ночь проблуждаете.
Козаченко вспомнил кафельную печь, о которой мечтал, и даже выругался с досады:
– Так далеко? Черт возьми!
Женщина дотронулась до его руки:
– А вам ничего не будет, если вы явитесь к нему утром? Тогда пойдемте, я вас устрою у себя. У меня отдельная комната.
– А вы что же, совсем не боитесь меня? Вы же видите меня впервые в жизни!
Небо озарилось вспышкой от недалекого выстрела. Женщина вздрогнула. Но ответила горячо, не обращая внимания на выстрел:
– Ну зачем вы пустое на себя наговариваете? Кого это бояться? Вас?! Человека, который отдает чужому ребенку свой последний кусок хлеба?!
Как его обрадовала ее горячность! Но он не хотел показать этого и заворчал:
– Заладили: «Последний хлеб, последний хлеб!» Никакой он не последний! Я вам объяснил уже, что меня и комендант будет кормить!
– И все неправда, – улыбнулась она и положила свою руку без перчатки на его здоровенную овчинную варежку, – нехорошо говорить неправду. Слышите?
Он больше не выпустил ее руку из своей. Они шли по каким-то улицам, неожиданно перегороженным посреди тротуара заборами.
– Осторожно! – говорила она. – Тут вчера разбило дом. Полмостовой завалило…
Когда близко били наши, вспышка выстрела на мгновение выхватывала улицу из тьмы, и Козаченко видел пустое каменное ущелье, будто гранитное русло пересохшей реки, и на самом дне его – две одинокие фигуры, пробирающиеся неизвестно куда.
В безлюдном городе шаги отдавались особенно гулко. Кроме того, сапоги у Козаченко были с подковками, и от неуверенности, не зная, куда ступает, он ставил ногу не легко, а грузно.
– Вот мы и дома, – сказала женщина и ввела Козаченко под какую-то арку.
Она жила на четвертом этаже.
Войдя в пустую комнату, он огляделся:
– А где же сын?
Неужели она обманула его?!
Но женщина даже не заметила, как взволновался Козаченко.
– Сын у бабушки, – ответила она сквозь зубы: и зубами и залубеневшими пальцами она развязывала платок. – Там теплее, меньше комната, легче протопить. – Она наконец справилась с платком, нетерпеливо тряхнув головой, чтобы он скорее упал на плечи. – Впрочем, я вас привела сюда еще потому, что решила: тут вы будете чувствовать себя свободней. Свекрови ведь не объяснишь, что человеку некуда деться.
– Спасибо.
Он снял шинель.
А она сбегала куда-то к соседям, принесла теплой воды, поставила перед ним таз на полу.
– Разуйтесь, вымойте ноги, будет теплее спать.
Спать они легли на единственную в комнате кровать и укрылись всем теплым, что нашлось в хозяйстве у женщины. Они почти не разделись: кроме сапог он снял только гимнастерку, она же легла в двух халатах, один поверх другого. Но и под ворохом одеял и пальто им не сразу удалось согреться: чересчур уж холодно было в комнате. И тогда Козаченко спокойно прижал к себе женщину и обнял ее, она тоже не отодвинулась от него, только взяла обе его руки в свои и крепко их сжала.
Они пролежали так немалое время, боясь спугнуть, сменить любой переменой позы настороженное и тем не менее доверчивое молчание, возникшее между ними. Может, полчаса они так провели, может, час, – кто знает… В комнате было темно, часов не видно. Они вслушивались в дыхание друг друга, тихое, но неспокойное. Наконец женщина тихо-тихо, как можно тише, повернулась к Козаченко лицом (до сих пор она лежала к нему спиной) и оперлась локтем о подушку. Его щекотнули ее волосы, он вздрогнул, но она по-прежнему молчала.
Козаченко не выдержал и спросил:
– Вы что?
– А? – Она как будто очнулась. – Нет, ничего…
– Что ничего?
– Да вот, думаю: странно… Вы, наверно, вспоминаете жену… Я – мужа… А лежим – лежим как будто самые близкие. И молчим… Странно!
– «Молчим»… – передразнил он ее. Ему стало невероятно грустно. Зачем она снова напомнила ему сейчас о жене, о дочерях? – Девочка вы еще, вот кто! Сказали бы лучше спасибо, что я молчу. Где муж-то? На фронте?
Она неожиданно всхлипнула:
– Ага. Пятый месяц…
– Ну вот – замужняя, а еще грудная. – Он нарочно старался говорить грубее. – Сколько вам лет? Девятнадцать? Двадцать?
– Двадцать один скоро. – Голос ее звучал виновато.
– Ишь ты! Так много? Тогда тем более спите!
Он решительно снял руку с ее плеча, но тут она сама взяла его руку и прижалась к ней щекой. Так она вскоре и уснула, и Козаченко долго боялся пошевелиться, пока и сам не провалился в сон…
Очнулся он оттого, что кто-то прикоснулся губами к его закрытым глазам – сперва к левому, потом к правому. Женщина стояла над ним, уже совершенно одетая.
– Нет-нет, спите, спите! – прошептала она. – Я только хочу узнать: заводить будильник на какой-нибудь час или не надо?
– Обождите. А почему вы уходите? И еще: зачем вы меня поцеловали сейчас?
Она покраснела.
– Ну?
– За то, что вы хороший. Я это еще вчера в машине увидела, только говорить вам не хотела…
Козаченко сел на постели.
– Так куда же вы уходите сейчас?
– На работу, уже шесть часов. Но вы спите, сколько хотите. Просто, когда будете уходить, хлопните дверью – у меня английский замок. Ну, говорите: на который час поставить вам будильник?
* * *
Козаченко долго ворочался, после того как за хозяйкой закрылась дверь, но в конце концов все же уснул. Проснулся опять уже от звона будильника. Стрелки показывали десять. В комнате было светло, и он увидел на ночном столике у кровати почти нетронутым весь свой хлеб и сахар, а около них – записку. Она была без обращения: «Простите, что лишила вас пайка, наверно, на целый день, но не было сил удержаться, чтобы не взять совсем ничего: как снова являться к сыну с пустыми руками? Он ведь такой крошка – ничего еще не понимает…»
Козаченко бережно отщипнул маленький кусок от хлеба, так же бережно подобрал крошки и методично прожевал все это, а потом тихо ушел из чужой квартиры.
И, лишь подходя к комендатуре, вспомнил, что не знает ни имени женщины, ни фамилии ее и никогда, конечно, не сумеет отыскать ее дом и улицу в городе, который стал так близок ему, близок на всю жизнь, и вместе с тем совершенно не знаком…
1941
Редактор

С Евгением Петровым меня свел рассказ «Ночь», написанный мною в Ленинграде во время блокады в ноябре 1941 года. Опубликовать этот рассказ в Ленинграде в ту пору было негде. Ток в типографии отпускали только для печатания газет, последний номер журнала «Звезда», вышедший в октябре 1941 года, был напечатан уже так: немногие оставшиеся в Ленинграде сотрудники редакции – те, которые не ушли на фронт и не отправились в эвакуацию, – вместе с типографскими рабочими вручную вращали валы печатных машин.
В январе 1942 года я по вызову Главного политуправления Армии прилетел из Ленинграда в Москву за новым назначением. Москва была непривычно пуста. Мне случалось наблюдать, как из поезда метро на станции «Дворец Советов» выходило пять-десять человек и столько же садилось. И это в такое время дня, которое прежде именовалось часами пик!
С вещевым мешком за плечами я отправился к себе на квартиру, но еще с улицы увидел, что стекла во всех моих окнах высажены взрывной волной и крупный снег, чуть покружившись в проемах, плавно влетает в комнаты. Только в одной форточке уцелело стекло.
Я поднялся на второй этаж, позвонил. Никто не ответил.
Нажал кнопку еще раз и долго-долго не отпускал.
Ключа у меня не было. Мои, конечно, увезли его с собой в эвакуацию. Я рассчитывал, что дверь откроет сосед.
Но он не откликнулся. Зато из смежной квартиры выглянула на площадку старушка. Я слабо помнил ее, она же узнала меня сразу и сказала, что сосед переведен на казарменное положение и наведывается в квартиру редко. Пригласила зайти к ней.
Я предпочел уйти. Что мне было здесь теперь делать?
И я отправился в гостиницу «Москва».
Странный быт царил тогда в этой гостинице. Большинство ее постояльцев были москвичи – такие же, как я, командированные. По временам они набирали номера своих домашних телефонов, и в трубке долго и безнадежно слышались протяжные тоскливые гудки… Несколько раз проделал это и я, но и со мной не случилось чуда.
И еще: для постояльцев «Москвы» не существовало различия между днем и ночью. И ночью и днем к подъезду гостиницы подкатывали «виллисы», «эмки», полуторки, иной раз даже танки, спешно высаживали пассажира с таким же вещевым мешком, как мой, или, наоборот, забирали уже поджидавшего их человека с собой: на Центральный фронт (штаб его все еще размещался в зоне подмосковных дач), на Калининский, на Юго-Западный…
Ни днем ни ночью с окон вестибюля и холлов гостиницы не снимали черных штор из плотной ломкой бумаги: дни стояли короткие, и не стоило каждое утро расшторивать окна. Днем и ночью встречались нежданно друзья в коридорах, и далеко разносились их голоса:
– Георгий, ты?! Живой?! А у нас прошел слух…
– Как видишь, сведения преувеличены. Это Гайдар у нас на фронте погиб. Должно быть, с ним спутали…
– А ты не знаешь подробностей гибели Аркадия? Ведь нам тут ничего не известно…
– Нам тоже. Мы больше в тех местах не бывали… Но погиб он геройски – это сведения, полученные уже через разведчиков, точные, а разведчикам рассказывали местные жители. Колхозники похоронили его отдельно. И могилу обозначили…
Кинооператор Борис Шер упросил пилота взять его в боевой вылет вместо стрелка-радиста. Шеру наспех объяснили, как обращаться со спаренными пулеметами, он дал слово, что усвоил все.
В воздухе на самолет напал вражеский истребитель. Шер прекратил съемку, с ученическим старанием взял фашиста на прицел… И первой же очередью сбил его! А затем успел еще заснять, как гитлеровец врезался в землю.
Шера наградили орденом Боевого Красного Знамени, а студия премировала его за первоклассные кадры.
Жил Шер тоже в «Москве» и ходил гордый, с новеньким орденом.
Вообще, в этих коридорах в те месяцы можно было встретить очень много писателей, корреспондентов, кинооператоров – людей, подвижных по самой профессии своей, связанных со столицей.
Не знаю, какие тогда выходили литературно-художественные журналы в Москве, на фронт, во всяком случае, не попадал ни один. А из тонких изредка доходил лишь «Огонек». Подписывал его в качестве редактора Евгений Петров, но я видел по «Правде», что он активно работает фронтовым корреспондентом, и предполагал, что в «Огоньке» он только числится по старой памяти.
Впрочем, какое это имело для меня значение? Я отнес «Ночь» в «Огонек». Адрес для ответа указал – «Гостиница „Москва“» и предупредил секретаршу, что я приехал в Москву за назначением и сколько здесь пробуду – не знаю; поэтому, если возможно, пусть рассказ прочтут скорее.
В ту же ночь, часа в два (я уже лег спать), в дверь моего номера раздался громкий стук.
Я натянул штаны, намотал портянки и вбил ноги в сапоги – это было делом секундным, этому мы на фронте научились быстро – и крикнул: «Входите!»
Но никто не откликнулся.
Я разозлился. Что за манера будить человека среди ночи, а потом играть с ним в молчанку!
Подскочил к двери и с силой распахнул ее.
Коридор освещался сорокаваттной синей лампочкой, она светила как бы шепотом, и я не узнал в ее рассеянном и чуть таинственном свете стоявшего за дверью высокого человека в военной форме, который наклонил к двери голову, словно прислушивался: отвечают ему или нет? Бросилось в глаза, что человек был очень аккуратно, по-воински подпоясан – ни складочки спереди на гимнастерке.
Заметив не успевшие исчезнуть с моего лица следы раздражения, он несколько смутился.
– Извините, вы, наверно, кричали мне: можно? Я недавно контужен… Впрочем, что ж я не представляюсь? Давайте знакомиться. Вы – Бершадский? А я – Петров.
Действительно, передо мной стоял Петров. Как я сразу не узнал его? Тон его был настолько обескураживающе прост и любезен, что пришла моя пора смутиться.
Должно быть, он понял мое состояние.
– Ну, раз я все равно к вам ворвался, извините еще и за то, что так поздно. Но понимаете, целый день пришлось пробыть на фронте, ваш рассказ попал ко мне только сейчас, а когда я дочитал его до адреса, то увидал, что мы – соседи. Зачем же откладывать разговор на завтра, если можно встретиться сегодня. Верно?
Я пригласил его войти. Он поблагодарил, по-прежнему откровенно рассматривая меня во все глаза. Вероятно, я был ему чертовски интересен чем-то в эту минуту. А может, он вообще каждого нового человека так рассматривал. Даже наверное.
– Слушайте, а я ведь не знал вас до сих пор, – заметил Петров. – Состояли в одной писательской организации, а ничего не читал из того, что вы писали, не знал, чем вы дышите. Глупо, скажете? Хуже, безобразие! Но зачем нам сидеть у вас? У вас, я вижу, ничего нет, а я живу по-хозяйски, как буржуа: у меня роскошный черный кофе, собственный кофейник. Вы любите кофе? Идемте!
Через пять минут я уже пил свежий кофе в номере Петрова и чувствовал себя так, будто был знаком с Евгением Петровичем всю жизнь.
А он донимал меня:
– Ну, что вы молчите? Рассказывайте, что в Ленинграде. Как там народ? Это же какие-то совершенно невообразимые люди! Как они выдерживают? Я бы не мог, честное слово!
Мне не хотелось рассказывать об ужасах блокады. Теперь я понимаю: это была защитная реакция. Я только-только уехал тогда из Ленинграда, все виденное и пережитое там не оставляло меня ни на минуту, я вскрикивал и метался во сне, вспоминая то старушку, которая была застигнута на Литейном проспекте фонтаном, неожиданно забившим из лопнувших труб водопровода, и так и замерзла с хозяйственной сумкой в руке, а вокруг нее немедленно образовалась глыба льда; то еще что-нибудь подобное…
Да и знал все это Петров. Из стихов Ольги Берггольц, из рассказов Николая Семеновича Тихонова, из выступлений по радио Всеволода Вишневского…
– А они там как? Всеволод, Николай Семенович, Ольга… не знаю ее отчества?
– Федоровна. Да как все. Живут на казарменном положении. Тихонов – в Смольном, Всеволод – при штабе флота, Ольга – в радиокомитете.
– Это рядом с «Гастрономом»?
– С бывшим «Гастрономом»! В его подъезде теперь книгами торгуют.
– Книгами?!
– Да. С лотка.
– И в Ленинграде покупают книги?!
– Еще бы!
– Нет, вы правду?..
– Конечно! Ведь блокада помешала вывезти из Ленинграда тиражи превосходных книг, предназначавшихся всему Союзу: лавреневское «Избранное», Тынянов, Федин, Кронин. Впервые их можно достать свободно. Ясно, что берут. Еще как!
– Нет, вы, должно быть, все-таки не понимаете, что это такое. Простите меня, но не понимаете. Это же… Это ж…
Он не мог найти слова. У меня было преимущество перед ним: он только представлял себе все это, я же видел воочию. И тогда я рассказал ему еще одну историю о книгах, долго потешавшую всех постояльцев ленинградской гостиницы «Астория».
«Астория» была подобием нашей «Москвы». Там тоже обитали по преимуществу ленинградцы – писатели, корреспонденты центральных газет и Московского радио, столовался почему-то дирижер Элиасберг, впоследствии прославившийся тем, что сумел, несмотря ни на что, собрать в осажденном городе симфонический оркестр Филармонии и впервые исполнил с ним знаменитую с тех пор Седьмую симфонию Шостаковича.
«Астория» обладала одним громадным преимуществом. Тому, кто сдавал свой паёк в ее ресторан, дополнительно выдавали сверх положенной порции супа и кашицы, сваренных на чистой воде, конфету – роскошную черносливину в настоящем шоколаде! Из-за этого устроиться на питание в «Асторию» было почти невозможно. Элиасберг уносил конфету жене: он в гостинице не жил. Он всякий раз подолгу рассматривал конфету своими близорукими глазами и нежно взвешивал ее на ладони, но я ни разу не видел, чтобы он даже развернул ее. Ни разу!
Я останавливался в «Астории», когда по делам приезжал с фронта в Ленинград. И однажды с грустью рассказал в присутствии Элиасберга и артиста Тенина, что зашел в букинистическую лавку на Литейном и увидел редкость, за которой охотился в Москве несколько лет: полного «Рокамболя» Понсон дю Террайля. В идеальном состоянии! И всего за восемьсот рублей!
Тенин, ярый книжник, живо заинтересовался:
– Ну? Купили, конечно?
Мне было очень грустно признаться, что нет. Куда мне с ним на фронт: все-таки десятки томов! Будь я ленинградцем, имей тут постоянное жилье – тогда другое дело…
Тенин вздохнул:
– Жаль… А я-то обрадовался… Это ведь мой «Рокамболь», это я его на комиссию сдал…
Анекдоты мне было рассказывать приятней. Петров понял меня и перестал настаивать, чтобы я ему говорил о чем-то более серьезном.
Правда, и анекдоты были не из веселых.
Я рассказал Петрову о забаве постояльцев «Астории».
– Иногда, когда чувство голода становилось совсем непереносимым…
Петров прервал меня:
– Слушайте, а, наверно, это очень постыдное чувство, когда забирает человека целиком и превращает его в животное, способное думать только о брюхе? Да?
Я согласился:
– К сожалению, бывает и так. Да.
– Но я вас прервал, – извинился Петров. – Так вы остановились на том, что когда чувство голода становилось совсем уж непереносимым…
– Да. Тогда мы начинали играть в страшную игру: придумывать, кто какой ужин заказал бы. И обед. И завтрак. Со всеми подробностями, каждую деталь – отдельно; на холодной или подогретой тарелке положено подавать выбранное блюдо; и какой к нему соус идет: белый сметанный, или томатный с перчиком, или гранатовый сок; и как должно быть изжарено мясо: до какого цвета и целым куском или ломтями; и баранина ли это будет, вымоченная в молоке; или говядина, филе, в вине; и в каком именно вине; или, может быть, дичь…
– Это же садизм – подвергать себя таким пыткам! – закричал Петров. – Преступление!
Он был, разумеется, прав. Но разве мы сами там, в Ленинграде, не знали этого? Не знали, что такая игра – малодушие? Знали. Однако Петров подумал, что она нас забирала целиком, а вот в этом он ошибся. Мы даже вовсе прекратили ее после одного эпизода – я, во всяком случае, что-то не помнил, чтобы мы после него затевали ее хоть раз. И я рассказал Петрову об этом. Вероятно, в оправдание.
Вернулась как-то с шедшего в воинском клубе выездного спектакля актриса Сухаревская и, попеременно останавливаясь своим удивленным взглядом на каждом из нас в отдельности, словно в нас ища объяснений, что же такое там произошло, рассказала следующую историю.
В этом спектакле ей приходилось играть в легком газовом платье. Температура в зрительном зале стояла минусовая, даже грим не способен был скрыть того, как белели нос, щеки, подбородок, уши. Когда по ходу действия ей следовало приникнуть лицом к плечу партнера, она никак не могла оторваться: все потихоньку терлась о его плечо носом и подбородком…
В антракте к ней в уборную постучался какой-то капитан и протянул ломоть хлеба и меховой офицерский жилет, видимо снятый с себя.
– Лидия Павловна, – сказал он, – вы извините меня, мы с вами не знакомы… Но я вас знаю по сцене уже много лет и очень люблю. Прошу вас, наденьте жилет… Если хотите, я сам выйду к публике и объясню, чтобы никто на него не обращал внимания – ведь все и так понимают, каково вам играть…
Сухаревская съела пол-ломтя у него на глаза – он категорически настаивал на этом, боясь, что она отдаст хлеб кому-нибудь из близких, но жилет все же не надела: разрушился бы образ героини…
После этого капитанского ломтя хлеба мы как-то незаметно для самих себя перестали придумывать, какой бы выбрали ужин или завтрак…
Петров неожиданно спросил меня:
– Скажите, а почему вы принесли в «Огонек» только один рассказ «Ночь»?
– То есть как почему? Я вас не понимаю.
– Что ж тут непонятного: вы просто не захотели дать нам какие-нибудь другие ленинградские рассказы, или он у вас – единственный?
– Нет, есть и другие. Но я решил, что наиболее подходящий для «Огонька» – этот.
– По-моему, вы ошиблись. Конечно, мне трудно настаивать на своем мнении: вы были в Ленинграде, а я– нет. Но я так думаю. И я убежден, что прав. Понимаете, вот я послушал вас, узнал о будничных делах – об этом нигде пока не прочтешь, но они рисуют мне Ленинград не менее величественным, чем подвиги, передаваемые Совинформбюро с Ленинградского фронта, и я могу вам после этого поверить, что вы не тронули девушку, с которой провели в постели ночь…
Я прервал его:
– Почему: «я провел», Евгений Петрович? С чего вы взяли, что я?
– Ну, хорошо, не вы – кто-то другой. Пускай! Вас это устраивает? Но люди, не слышавшие всего, что вы мне только что рассказали, и не пережившие Ленинграда сами, может быть, все-таки усомнятся в том, что все это было действительно так, как вы написали? Можете предположить это? И тогда они знаете что подумают – в окопе под Смоленском; сидя в готовности номер один на аэродроме под Харьковом; на подводной лодке в Черном море?.. Знаете, что подумают: «Ах, так, я здесь мучаюсь, а моя-то в эту самую минуту, может, какого-то замерзшего у себя в постели привечает?!» А зачем им такие мысли подбрасывать сейчас, как вы думаете, а? И как вы полагаете: помогут сегодня нашим людям эти мысли? Воевать – помогут?
Я промолчал. Я честно пробовал еще. раз представить себе, как все это было – то, что описано у меня в «Ночи», – и, несмотря на опасения Петрова, все-таки не смог представить себе, чтобы нарисованное мною способно было породить хоть одну грязную мысль. Но конечно, я представлял себе то, что видел непосредственно в жизни, а Петров вынужден был судить о том же лишь по моему описанию. Не хватило, значит, в моем рассказе убедительности…
Петров неожиданно положил большую свою ладонь на мое колено и легонько пожал его.
– Не знаю, найду ли я слова для моих доводов, чтобы вы согласились со мной, – оказал он, глядя на меня широко распахнутыми горячими глазами, – но лично мне представляется неоспоримым, что есть какие-то темы, которые сегодня вообще не надо трогать. Ни за что, будь ты хоть семи пядей во лбу! И дело тут не в таланте – в другом: литературе не может быть безразлична своевременность или несвоевременность выбора темы. Не может! Это ж как выбор направления главного удара! И никто не вправе абстрагироваться от этого!