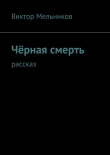Текст книги "Смерть считать недействительной
(Сборник)"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Рудольф Бершадский
СМЕРТЬ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Сборник


Рудольф Юльевич Бершадский родился в 1909 г. на Украине, в г. Елисаветграде (ныне Кировоград), в семье врача.
В годы гражданской войны, мальчишкой, уходит в Красную Армию. С 1925 г. начал писать корреспонденции и стихи, которые печатались в «Правде» и «Комсомольской правде». С тех пор занимается литературным трудом постоянно. Член Союза писателей с 1934 г.
По окончании срочной службы в армии поступает в 1932 г. на философский факультет МИФЛИ, который кончает в 1937 г. С 1938 г. – член КПСС.
Участник войны с белофиннами, был награжден медалью «За боевые заслуги». Написал о финской войне книжку очерков «Фронтовой блокнот» и сценарий кинофильма «В тылу врага».
С первых дней Отечественной войны Руд. Бершадский на фронте, сначала на Ленинградском, затем на Калининском, на 3-м Прибалтийском. Вначале – писатель армейской и фронтовой газет, а с 1943 г. – на командной работе. Был ранен, контужен. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени и четырьмя медалями.
После войны выпускает книги «Путь к подвигу», «Две повести о тайнах истории» и «Впереди – Атлантида», посвященные археологии; детскую книжку «О чем рассказывают марки»; путевые очерки о Вьетнаме «В двух шагах от экватора»; очерк о проблемах научной и технической информации «Ученый, который знает всё». Несмотря на такой широкий диапазон тем, волнующих писателя, Руд. Бершадский особенно верен одной теме – военной. Сборник «Смерть считать недействительной» объединяет лучшие его военные рассказы и очерки, включая и самые свежие – написанные в последние месяцы. Заглавие книге дал рассказ, посвященный удивительной военной судьбе Иллариона Васильева, Героя Советского Союза, который был посмертно награжден в числе 28 легендарных панфиловцев, погибших в 1941 г., обороняя подступы к Москве, но оказался живым и здравствующим поныне.
Вместо предисловия

На фронте есть закон: вне всякой очереди доставлять на передовые газету – так же, как боеприпасы. Это правильно. Без патронов нельзя воевать. Без газеты нельзя жить. Если ты знаешь, что рядом сражается твой сосед, если тебе известно, что на бой с врагом поднялась вся Родина, – легче драться, легче в окопе в стужу, легче дышать.
Люди, создающие фронтовые газеты, – люди славного труда. Никогда не будет позабыт писатель, в первый же день войны ставший корреспондентом фронтовой газеты, Аркадий Гайдар, который погиб за пулеметом, отбивая атаку фашистов.
Дело ли это писателя, дело ли это газетчика?
Да! Нельзя писать о бое с чужих слов. А уж если ты в бою, то не из автоматической же ручки стрелять по врагу!
Строки записей военных корреспондентов рождались там, где боец добывал победу, – в бою. И как часто, вернувшись с передовых к себе в редакцию, военный газетчик (все равно: знаменитый ли писатель или рядовой фоторепортер), прежде чем приняться за сдачу очередного материала в номер, первым долгом брался за еще более неотложное дело: за то, чтобы очистить от порохового нагара канал ствола своей винтовки или пистолета.
Фашисты казнили не только тех наших людей, у которых обнаруживали оружие, но и каждого, у кого находили номер советской газеты. Они знали: человек, который бережет нашу газету, – их непримиримый враг.
Я горжусь тем, что в годы войны носил высокое звание военного корреспондента, я горжусь тем, что делал эти газеты!
* * *
То, что собрано здесь, – странички фронтовых блокнотов, частично обработанные впоследствии, частично оставленные без изменений, или же рассказы, тесно примыкающие к этим записям. Как мечтает каждый газетчик, чтобы его записи не умерли вместе с датой, стоящей под ними! Мечтаю об этом и я…
Рассказ с продолжениями

Что такое рассказ с продолжениями? – может быть, спросите вы. А это, когда пишешь не о вымышленном персонаже, а о живом человеке. Никак тогда не удается поставить точку. Давно уже кончен рассказ, но все равно тянет узнать: а что сталось с моим героем дальше? И чаще всего то, что происходит с ним потом, начинает казаться еще более значительным, нежели описанное тобой, и так и подмывает продолжить повествование… Вообще, испытываешь очень сложное чувство к герою. С одной стороны, прекрасно понимаешь, что он – не обычный литературный персонаж, созданный только тобою, а с другой стороны, ты относишься к нему так, словно он одному тебе обязан своим существованием! Сколько раз я давал себе зарок: не буду больше писать о реально существующих людях! Ведь о каждом, о ком когда-нибудь написал, всю жизнь продолжаешь волноваться, как о собственном ребенке: а что с ним? а как он? И в отличие от вымышленного героя, который если и гибнет, то лишь от твоей собственной руки, и если тебе его жалко, то ты можешь спасти его, уберечь от ран, от любых горестей и потерь, – живого-то не убережешь!.. Вот и мучайся с ним!
И все-таки я, наверно, никогда не перестану писать о живых людях…
С Анатолием Романовичем Бучиловым я познакомился давно, еще на финской войне, в 1939 году. Началась она, как помнят все, кто был тогда на Карельском перешейке, с мин. Казалось, они подстерегали нас на каждом шагу – тщательно засыпанные снегом, скользкие и зеленые, как жабы, коробки, начиненные смертью. Мин было очень много, а солдат противника – ни одного. Видимо, цель врага заключалась в том, чтобы не только задержать нас, но и подействовать таинственностью на нашу психику.
С минами боролись все – каждый как мог. Не представлял себе, как это он останется в стороне от общего дела, и старший военфельдшер Бучилов. Тем более что он был комсоргом. Но что мог сделать с минами медик? Он же не сапер…
Оставалось вроде бы одно: дожидаться, пока к нему доставят подорвавшихся на минах, если только они к тому времени еще будут нуждаться в медицинской помощи…
Когда Бучилов в своих рассуждениях дошел до этого пункта, он жестоко обругал себя, причем не постеснялся сделать это вслух (правда, кругом никого не было):
– Отвратительно рассуждаете, товарищ старший военфельдшер! Что, по-вашему, является основой советской медицины, ну-ка? Чему вас учили? Основой советской медицины является профилактика, дорогой товарищ, про-фи-лак-ти-ка! Значит, и предупреждайте заболевания, а не сидите сложа ручки!
И Бучилов принялся предупреждать «заболевания». Делал он это так. Его подразделение двигалось во втором эшелоне, в соприкосновение с неприятелем еще не вступило и потому спокойно могло обойтись некоторое время без фельдшера. Вот он и покинул его и направился вперед, к саперам: они шли головными, расчищая путь.
К концу первого дня военфельдшер уже научился распознавать, какими преимущественно отметками пользуется противник, маскируя мины снегом и ветвями, и где следует ждать особенно большого скопления этих «сюрпризов», – в общем, «освоил», как говорится, этот вид оружия.
В свое подразделение он вернулся только вечером. В качестве учебного пособия притащил собственноручно обезвреженную противотанковую мину и прочел популярную лекцию на тему, как бороться с минами.
Его слушали с захватывающим интересом: «учебное пособие» свидетельствовало о достаточной подкованности лектора, поскольку было известно, что и извлек его и разрядил он сам. А Бучилов развивал свое любимое положение:
– Великое дело, товарищи красноармейцы, профилактика! Так учат во всех советских медицинских вузах, и я считаю, что пройти хотя бы краткий курс этой пауки полезно и вам. То, что вы не студенты, – неважно. Проще, чтобы я вам сейчас объяснил, как обращаться с минами, чем объяснять вам потом, как пользоваться протезами. Согласны? Да и мне будет поменьше работы!
По рядам прошел веселый смешок:
– Лекарь-то у нас силен! Убедительный агитатор!
А фельдшер изо дня в день продолжал двигаться впереди роты – в разведке. И когда его спрашивали, зачем он так рискует собой, неизменно отвечал:
– А кто на войне не рискует? Она потому и война. Но, продвигаясь сейчас впереди даже не со своим подразделением, я, видите ли, принесу больше пользы: могу вовремя помочь раненому, а если противник отравил продукты, могу распознать их. Ну, заодно, если понадобится, насчет мин похлопочу. – Как все молодые специалисты, он любил выражаться обстоятельно. Степенность речи казалась ему важнейшим признаком солидности.
В одном местечке ему удалось задержать шпиона. Шпион прикинулся миролюбивым стариком, который ничего не знает и не понимает. Бучилов, поймав его на нескольких путаных ответах, решил, что оставлять старика на насиженном месте небезопасно. Но так как сам он был занят перевязками, то поручил конвоирование старика легкораненым, которые и доставили задержанного куда следует. Так сказать, по пути. Допрос подтвердил, что старик много раз помогал своему сыну переходить советскую границу (еще со времен гражданской войны), снабжал его одеждой, пищей, принимал от него донесения.
– Всё профилактикой занимаетесь, товарищ старший военфельдшер? – шутили в роте.
– А как же? Знаете, сколько такой микроб способен вреда натворить? Ого-го!
Когда я познакомился с Бучиловым, мне бросилась в глаза его каска. Она была нещадно помята.
– Да, – согласился Бучилов, – вы правы, вид у нее не с иголочки. А если бы вы знали еще, как у меня разболелась голова после того, как по этому чепчику садануло в последний раз…
Бучилов не расставался с каской, как с боевым трофеем. Она вся была во вмятинах. Хотя подразделение Бучилова не участвовало в последних боях, но фельдшер все равно рыскал по полю боя и здесь же, на месте, оказывал людям первую помощь. А кроме того, многих перевязанных самолично вынес из-под обстрела и сдал в надежные руки санитаров с носилками.
В конце концов его контузило самого.
– Ну, – рассказал он мне, – тут я подумал: всё, отвоевался ты, фельдшер!.. Однако услыхал в нескольких метрах от себя разрыв снаряда, а затем – стон. Собрал силы, сколько их осталось, напрягся, пополз… Что поделаешь, если выбрал профессию медика!
Мы беседовали с ним близ передовых. Как раз в этот момент мимо нас пронесли тяжело раненного танкиста. Бучилов сорвался с места, на бегу расстегивая свою санитарную сумку.
– Куда вы его дальше?! – накинулся он на санитаров. – Разве не видите, что фельдшер здесь?
Так и не удалось мне тогда закончить беседу с ним. За одним раненым последовал второй, третий, и, наконец, убедившись, что мне не дождаться перерыва в сегодняшнем рабочем дне фронтового медика, я ушел в поисках другого материала на передний край. Что поделаешь, – корреспонденту трудно на передовых позициях предугадать, когда и чем закончится его беседа с кем-нибудь. Тоже ведь профессия такая…
18/XII 1941 г. Ленинград.
…Пересматривая сейчас свой финский фронтовой блокнот, я перечитал в нем запись, озаглавленную «Военфельдшер Бучилов», и так живо встали передо мной и он сам, и обстановка, в которой я производил эту запись… Как будто это было вчера! А между тем прошло уже два года. И каких! Да, день в день два года: восемнадцатого декабря 1939 года, на Карельском перешейке, северо-западнее деревни Бобошино. Вот и отметка на старой карте у меня проставлена и написано: «Бучилов». А карта, к сожалению, не устарела. Опять приходится нам воевать, в том числе и на Карельском перешейке. Когда нас избавят от войн?! Мы же ничего не хотим так, как жить со всеми в мире! Впрочем, на войне об этом, пожалуй, не стоит думать… Хорошо, вернусь к Бучилову.
Итак, когда меня с ним познакомили, мы пристроились, помню, на пнях в лесу близ шоссе. Метрах в четырехстах впереди находился передний край обороны противника, и мины, летевшие через наши головы, часто заставляли нас отрываться от беседы и валиться в снег. Словно это от чего-нибудь спасло бы, если бы мина опустилась на нас!
С первого же момента знакомства мое любопытство возбудила бородка Бучилова – настолько она казалась ненатуральной и как бы пририсованной к его молодому молочно-розовому лицу. Так озорники-школяры награждают девушек на картинках в книжках усами, а бабушек со спицами в руках – трубками в зубах, с клубами дыма. Но было невежливо ни с того ни с сего вдруг спросить военфельдшера:
– Слушайте, а почему у вас борода?
И тем не менее я не удержался от этого вопроса. Правда, я задал его так, чтобы к слову пришлось, вроде бы невзначай:
– Наверно, трудно, товарищ старший военфельдшер, с бритьем в полевых условиях? Вы только тут бородку отпустили или постоянно ее носите?
Бучилов несколько замялся:
– Да, тут отпустил. Но не из-за того, что трудно бриться, как вы подумали, а по более значительным соображениям. Понимаете ли, когда над раненым склоняется врач с бородой, раненому становится легче – он верит, что обязательно все будет в порядке…
Он с живым интересом ждал, согласен ли я с ним. Но я рассмеялся. Кругленький, румяный, совсем молоденький студентик, отращивающий бородку явно ради солидности, – кого она обманет!
Конечно, меня следует выругать, что я рассмеялся ему в лицо. Но ведь корреспондент тоже живой человек: легко ли ему скрывать свои эмоции непременно до тех пор, пока он не сядет наконец писать статью?
Бучилов обиделся:
– Если вас не устраивают мои объяснения, то – вот: ношу ее просто потому, что хочу! Надеюсь, это никому не мешает с точки зрения военной прессы?
Но мы не рассорились. Мы по-хорошему пожали друг другу руки на прощание, и Бучилов даже попросил меня – если не трудно, – когда я вернусь в Ленинград, позвонить его жене и передать привет (он тут же набросал ей несколько строк на листке из моего блокнота).
– Но вы не рассказывайте ей, что я большей частью на передовых. Она ведь думает – медик далеко от фронта. Ну так вы и скажите ей, что я где-нибудь в тылу – в дивизионном госпитале, что ли.
Я обещал выполнить все в точности и немедленно по приезде в Ленинград позвонил по указанному телефону. Буквально минут через двадцать за письмом и приветом от Бучилова явилась целая делегация: жена Бучи-лова, его сестра, еще кто-то. Бучилова, видно, в семье крепко любили.
Они жадно прочли его письмецо, а потом засыпали меня вопросами: где он и не холодно ли ему? («Вы не заметили случайно: Толя носит варежки – такие серые, с красной вышивкой крестиком?» – это жена.) И не опасно ли там, где он?
Хотя это было всего два года назад, но реального представления о войне у мирных ленинградских женщин не было никакого. Даже трудно вообразить себе сегодня, как мы были психологически не подготовлены к войне, как народ в массе совершенно не представлял себе, какой она выглядит в действительности. Пели: «Любимый город может спать спокойно…» – и верили этому!
Родные Бучилова непременно хотели выспросить у меня то, о чем сам он не желал им писать.
Но я поспешил их уверить, что ему совсем не холодно, что варежки он, конечно, носит, и именно эти самые: «Как же, как же, – врал я, – помню: красная вышивка крестиком. Точно!» Убеждал их, что он почти не выходит из барской усадьбы, где расположен их госпиталь: «Знаете, только погулять в парке или размяться на лыжах. Это очень приятно в солнечный денек… А парк там замечательный – с беседками, с аллейками, – ну прямо дом отдыха!..»
А перед глазами стоял искореженный взрывами лес, в котором мы с Бучиловым беседовали, и его красные негнущиеся пальцы.
Ему было трудно вывести на морозе даже те коротенькие десять строк привета, что я привез, а как он делал перевязки, это и вовсе оставалось для меня загадочным.
Но родные Бучилова поверили мне! Им так хотелось, чтобы на войне все было мирно и спокойно!
– А как он выглядит? Все же похудел немного?
Они позабыли, что я его раньше не знал.
– Как вам сказать… Выглядит неплохо… Бородку отрастил.
Жена счастливо и неловко засмеялась от неожиданности, на глазах ее блеснула слезинка.
– Узнаю Тольку! Вот сумасброд! Вечно что-нибудь придумает!
И так же счастливо, как она, заулыбались и сестра фельдшера, и та родственница, с которой они пришли.
Когда мы расставались, я по секрету сообщил им, что Бучилов представлен командованием к ордену Красного Знамени. (Мне об этом сказали еще до того, как направили к нему из политотдела армии.)
Но вместо того чтобы обрадоваться, они испугались:
– Значит, он все-таки на самых передовых?
Я поспешил разубедить их.
– Что вы! Просто на фронте не принято представлять к ордену Трудового Красного Знамени, поэтому его представили к Боевому.
И даже в это они поверили!
…Вскоре меня перебросили с Карельского перешейка на другой участок фронта, и снова в Ленинграде я очутился лишь после окончания финской войны. Как раз попался на глаза номер газеты с Указом Президиума Верховного Совета СССР: «Старшего военфельдшера Бучилова Анатолия Романовича наградить орденом Красного Знамени…»
Захотелось от души поздравить его, узнать, что он делает.
И я уже набрал на телефонном диске нужный номер, как вдруг мелькнула мысль: а что, если его наградили посмертно? И подойдет жена и голосом, перехваченным спазмой, переспросит меня: «Кого вы просите? Толю?..»
Я немедленно положил трубку.
Но уже потом, в Москве, случайно просматривая газетную– хронику, сообщавшую, кому вручали в Кремле ордена, я нашел фамилию Бучилова. Значит, жив! И в киножурнале увидел группу награжденных, снятых с Михаилом Ивановичем Калининым. Рядом с Михаилом Ивановичем стоял Бучилов. Правда, я не сразу догадался, что это он: без бороды. Должно быть, жене не понравился его фронтовой вид.
Мне стало чертовски досадно, что я так и не позвонил ему, когда через Ленинград возвращался с финской войны домой!..
Июль 1958 г. Москва.
А Бучилов-то мой – жив! Жив!!
Провожал я сегодня дочку на целину – вуз она окончила.
Уже попрощался с нею, расцеловался, стал в сторонку. Есть один молодой человек (помоложе меня лет на двадцать), с которым ее тянет расцеловаться на прощание позже, чем с отцом… Пришлось напустить на себя равнодушный вид, отвернуться.
И вот, смотрю я бесцельно на окна других вагонов. А уж главный дает свисток.
И вдруг в одном из открытых окон замечаю… Кого бы вы думали? Бучилова! Та же бородка, тот же взгляд…
Я даже про дочь забыл. Кинулся к его окну, кричу:
– Бучилов?!
А поезд уже тронулся. Но Бучилов – это был он – расслышал оклик, обернулся: кто, мол, зовет его? Увидел меня. Вероятно, не смог узнать, хотя и принялся всматриваться.
А я только и успел крикнуть вдогонку:
– Анатолий Романович, где вы сейчас?
– На целине, – ответил он, так и не зная, кому отвечает, – в совхозе… – и даже назвал в каком. Но я не расслышал – поезд загрохотал вовсю.
Вот и пиши о живых героях! Где его искать теперь? Да и найдешь ли?
Нет, все-таки что ни говори, а проще придумывать героев, чем писать о невыдуманных! Вечно они отколют что-нибудь непредвиденное!
Прелюдия

Как неожиданна тишина на передовых позициях! А тут вдруг возникла тишина такая густая, что от нее заболели уши. И только слышно было, как трещал на морозе снег. Солнце над головой стояло холодное и яркое. Можно было выпрямиться во весь рост, даже подняться на бруствер окопа, сбросить с головы белый капюшон маскировочного халата. И никто не стреляет, ни одного выстрела, ни одного разрыва!
Невозможно было привыкнуть к этому сразу!
13 марта 1940 года. Мы запомнили этот день навсегда – последний день финской войны.
На высоте было укреплено Красное знамя, и к нему сносили трофеи. Мы захватили высоту 13 марта в 10.30, хотя уже знали в это время, что в 12.00 боевые действия должны быть прекращены.
Мы не повели бы эту атаку, если бы вражеское командование не решило расстрелять по нас за оставшиеся часы все свои боезапасы. За всю войну они не вели такого ураганного обстрела!
Бойцы тащили к знамени ящики с патронами, новенькие противогазы выпуска этого года, снаряды, мясные консервы. На снарядах, на противогазах, на консервах – откровенные клейма фирмы с названиями государств, где было изготовлено все это для войны с нами. Что ж, запомним названия!..
И все-таки война окончена.
Медленно спускается вражеская «колбаса» – их привязной корректировочный аэростат – невдалеке от высоты. Мы ходим по высоте во весь рост, и наши бывалые шинели выделяются на снегу отчетливыми темными пятнами. Но уже нет нужды прикрывать их белыми маскировочными халатами.
На шоссе выкатывает кухня. От котла идет далеко видный пар, пахнет наваристыми щами. Сюда же, на дорогу, сносят трупы из кустов.
Около кухни образуется шумливая, неторопящаяся очередь. Люди кричат, радуясь тому, как громки голоса, когда нет канонады:
– Повар, а бифштекс тоже будет?
Очередь смеется. Мы сейчас рады посмеяться даже самой непритязательной шутке. Кто-то рядом пляшет гопака, другой, озорничая, примеряет новенькие офицерские финские сапоги, найденные поблизости в штабном блиндаже. И тут же стаскивает их с ноги и забрасывает по одному далеко в кусты.
– Что это ты с ними так? Не понравились?
– А что в них хорошего – и желтые, и голенища короткие! Наши лучше!
Между все растущей грудой трупов и очередью к котлу стоит молодой, заросший густой черной бородой красноармеец. Я не понял сначала: то ли он в очереди, то ли остановился передохнуть, устав от перетаскивания скорбной ноши. Он искоса поглядывал на трупы, и губы его непроизвольно кривились.
– Товарища нашел? – спросил я его, кивая в ту сторону.
– Нет, брата… Без четверти двенадцать его…
Я растерялся. Мне нечего было ему сказать. А он ждал моего слова, хотя и не смотрел на меня и, конечно, знал, что никакое слово не принесет ему облегчения.
Как кончить паузу?
Я вытащил из кармана потрепанный кожаный портсигар, свернул цигарку – фронтовая вежливость не требует угощать первым другого – и протянул ему табак и бумагу. Свернул и он.
Я зажег спичку, дал прикурить. Затем спеша, давясь дымом, который почему-то ни за что не выходил из глотки, безмолвно протянул ему руку. Действительно, он как две капли был похож на своего брата – я увидел это, внимательно вглядевшись в труп.
Боец поднял на меня глаза и ответил крепким рукопожатием.
Я ушел от него. Но когда я был уже шагах в пятнадцати, он окликнул меня:
– Товарищ командир!
Он стоял, так и не поднимая плеч, все на том же месте – между веселой кухней и штабелями трупов. Цигарка его погасла.
– Спасибо, товарищ командир, – сказал он негромко.
И я понял, что благодарит он меня не за курево…
Через несколько минут я входил в блиндаж старшего лейтенанта Ефима Козаченко.
С вражеской стороны прозвучало несколько выстрелов из минометов. Вреда они, правда, не принесли, но что это значит? Зачем? Чья это бессмысленная злоба? Ведь война уже окончена!
Козаченко даже бриться перестал и так, с намыленными щеками, выскочил наружу. Он попался мне навстречу. Брови его сошлись в линию над переносьем.
– Чего они хотят, как ты думаешь, а? Чтоб мы им снова показали?
Он порывисто поднес к глазам бинокль, с которым никогда не расставался.
– Ах, сволочи, вот сволочи!..
Мыльная пена лопалась на его лице, но Козаченко только морщился, видимо не догадываясь, почему так щиплет кожу.
Одним прыжком он вскочил обратно в блиндаж, крикнул кому-то:
– Новиков!
Из тени вышел командир отделения. На его груди сверкали эмалью орден Красного Знамени и орден Красной Звезды.
– Бери четверых бойцов – и марш! Знаешь, что они надумали? В Фигурной роще их склад – так теперь их сани там появились! Понятно? Вывезти под шумок хотят!
– Как это – вывезти, товарищ старший лейтенант? Договор нарушить? Вы ж объяснили: где кого двенадцать ноль-ноль застанет – так на этом месте и оставаться!
Козаченко наконец догадался, почему щиплет лицо, и, стерев мыльную пену, облегченно улыбнулся:
– Так это ж я вам объяснил – они не слыхали. Им придется отдельно объяснить!
– A-а… Можно. С удовольствием!
– Но-но! Теперь, дорогой, надо вежливенько: война кончена! Бери четверых людей, забирайся в секрет. Ни патронов, ни гранат не брать – в нейтральную зону вооруженными ходить не годится. Но в случае чего… – Козаченко выразительно поднял оба кулака, каждый из которых был величиной с детскую голову, и легонько потряс ими.
В глазах Новикова сверкнули искорки.
– Есть, товарищ старший лейтенант! Патронов и гранат не брать, но в случае чего… – И он поднял свой кулак, оказавшийся не меньшим, чем у Козаченко. – Будет выполнено «в случае чего»!
Меньше чем через полчаса Новиков со своими бойцами пригнал сани с боеприпасами. Противник пытался угнать их с нейтральной территории, пользуясь тем, что по договору никто не имел права находиться на ней сегодня. Сани волокли двое финских солдат и мордастый унтер, под командованием которого они должны были произвести эту кражу. Теперь унтер все время с опаской поглядывал через плечо на Новикова. А тот улыбался. Он шел безоружный и только почесывал правый кулак.
Впрочем, когда унтера ввели в блиндаж к Козаченко и он избавился от присмотра Новикова, он мгновенно преобразился. Настойчиво тыча в циферблат своих ручных часов, он стал что-то раздраженно говорить Козаченко и чего-то нагло требовать.
Козаченко слушал его, слушал, а когда он наконец иссяк (по-фински мы не понимали), мягко сказал:
– Ну що ты, куме, гавкаешь, що ты мени свой цихверблат тычешь? Хиба в мене свого немае? – Насмехаться Козаченко любил по-украински. – Что ты мне показываешь, что на твоих нет двенадцати – значит, воруй боеприпасы из склада свободно, война не кончилась! Не кончилась война, по-твоему? Ну так и сиди в плену!
Унтер во все глаза смотрел на старшего лейтенанта, стараясь понять, что говорит Козаченко: он не понимал по-русски, так же как мы – по-фински.
В это время где-то еще раз взвизгнул вражеский миномет. Унтер вздрогнул и сжался. Козаченко жестко приказал:
– А и правда, видать, не кончилась! Ну-ка, уведите пленных!
Вскоре мы с ним снова вышли на бывший передний край и увидели, что к нам из лесу через поляну направляются три человека. Вот они подошли ближе, уже ясно видно на боку одного из них кобуру с пистолетом; при них нет обязательного для парламентеров белого флага, они лишь машут белыми носовыми платками. Но наверно, это все-таки парламентеры.
Никто из наших бойцов не задерживал финнов, и они подошли к нам вплотную.
– Мы – парламентеры, – заявил один из них на чистейшем русском языке.
– А почему с оружием? – спросил Козаченко.
Парламентер расстегнул кобуру, чтобы вынуть пистолет. Козаченко остановил его:
– Можете не стараться, теперь уже поздно… Ну-с, слушаю.
– Разрешите представиться. По поручению финского командования, – говоривший кивнул в сторону старшего по званию, – майор Таннергейм. – Затем чуть поклонился, называя себя: – Капитан Поляковски…
– Поляковский? – переспросил Козаченко.
– Если вам угодно! – горделиво подтвердил капитан.
Все сразу стало ясным: вымирающая порода – эмигрант-белогвардеец.
Козаченко равнодушно пожал плечами:
– А мне безразлично, я – только для точности…
Капитан проглотил пилюлю и небрежно представил третьего:
– Ну, а это – солдат. С нами.
– Хорошо. Проходите.
Козаченко пригласил парламентеров в блиндаж, но не в свой, а в один из тех, что мы заняли на высоте. Блиндаж еще носил свежие следы пребывания противника: валялись котелки, ранцы, шерстяные носки, почему-то разноцветные. На нарах и на полу – десятки писем. Все было брошено: оружие, надежды, письма.
Господин капитан Поляковский так внимательно всматривался в адреса на конвертах, что можно было подумать, будто он совершенно случайно оказался в собственном блиндаже, а корреспонденция принадлежит ему лично.
– О вашем прибытии, господа финны, – Козаченко обратился к Поляковскому, подчеркнув слово «финны», и Поляковского все-таки передернуло, – мною доложено вышестоящему командованию. Прошу подождать ответа.
Из блиндажа видны сосны, точно бритвой срезанные нашими снарядами. На черных с красным кантом петлицах Козаченко – скрещенные стволы пушек.
Майор Таннергейм что-то сказал по-немецки Поляковскому, и тот по-русски обратился к Козаченко:
– Разрешите поинтересоваться… Господин майор спрашивает: вы артиллерист?
– Да, артиллерист.
– У вас превосходная артиллерия. – Капитан Поляковский из кожи лез вон, стараясь быть как можно любезнее. – Очень точная.
Но Козаченко, старший лейтенант из запаса, не уступал ему в умении вести дипломатический разговор:
– Вы находите? Весьма рад, что она произвела на вас такое сильное впечатление. И сожалею, что у вас менее точная: била сегодня даже после двенадцати!
– Что вы говорите! – притворно удивился Поляковский и по-немецки перевел майору Таннергейму реплику Козаченко.
Тот тоже высоко поднял брови, и покачал головой. Затем с полупоклоном и улыбкой сказал что-то, глядя прямо на Козаченко. Поляковский перевел:
– Господин майор предполагает, что если такое и имело место, то это, вероятно, дальние батареи. Как раз сегодня ваши пушки оборвали провода связи к ним. Возможно, что именно поэтому их не удалось известить о конце войны своевременно.
Козаченко сокрушенно развел руками:
– Выходит, мы же и виноваты, что по нас бьют? – И неожиданно обратился к Таннергейму по-немецки: – Я вас правильно понял?
Таннергейм живо ответил по-русски:
– Не совсем… – Но тут же спохватился: ведь он выдал свое знание языка.
Однако было уже поздно. Козаченко усмехнулся.
В блиндаже установилось стойкое молчание. Лишь изредка доносились голоса проходящих мимо блиндажа красноармейцев. Бойцам хотелось увидеть живых финских офицеров. Они расспрашивали часового, стоявшего у блиндажа:
– Офицеры, что ли?
– Офицеры. Проходите.
– Пришли все-таки на поклон! – И последовало злое, с сердцем, ругательство.
Мне показалось, что я узнал голос бойца: я только что угощал его табаком.
Таннергейм и Поляковский сидели как на угольях. Высокомерно подняв голову, Таннергейм задал вопрос Козаченко по-немецки:
– На каком это языке изъясняются ваши солдаты, господин старший лейтенант?
Но Козаченко остался невозмутимым:
– А всякий на своем, господин майор. Так же, как вы, например.
После этого ответа парламентеры уже не пытались подпускать Козаченко шпильки.
Наконец в блиндаж вошел представитель нашего командования. Таннергейм, Поляковский и сопровождавший их солдат вскочили, как по сигналу, и церемония представления повторилась: снова Поляковский перевел Таннергейму русскую речь нашего представителя и отчеканил:
– Мы прибыли по поручению командования для выполнения условий протокола к мирному договору. Мы намерены отвести свои части немедленно на семь километров… во избежание осложнений.
Изрядно же командование Таннергейма и Поляковского боится встречи своих солдат с нашей армией!
– Вы правы, господа, – ответил наш представитель: лучше, чтобы провокации не повторялись. Думаю, что и вам лучше… – Наш представитель сделал многозначительную паузу. – А теперь относительно семи километров. На этот счет не имею указаний от своего командования, так что воля ваша. В договоре предусмотрен отвод ваших войск только на километр в первые сутки, и мы не нарушим договора ни в какую сторону. Вот все, что я имею вам сообщить.