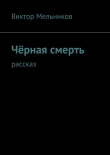Текст книги "Смерть считать недействительной
(Сборник)"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
На четырехугольной площади на углу Успенской улицы стоят три шестиствольных вражеских миномета – «скрипухи», и фашисты бьют по площади с особым ожесточением.
Минометы – на колесах. Хотя снег падает густо, он еще не успел занести следов от колес: гитлеровцев выбили отсюда только что, едва они успели стать на позицию.
Пробирается на ночлег фотограф политотдела дивизии. Он целый день снимал на передовых вступивших в партию – ведь без фотографии нельзя выдать партбилет, а теперь с завистью смотрит на «скрипухи».
– Пожалуй, не выйдет на моей пленке при таком свете, а?
Он спрашивает в общем сам себя. Ясно, что не выйдет. Но искушение еще больше: первые захваченные «скрипухи»!
Он расставляет треногу аппарата и щелкает затвором как раз в тот момент, когда поблизости разрывается снаряд. Его обдает колючей пылью штукатурки из треснувшего дома.
Ворча, устанавливает «лейку» второй раз.
– Вот работа, черт бы ее взял! Как ни наведешь, вечно шевеление! И с портретами так, и сейчас – снова!
Сводка Совинформбюро еще не сообщила, что наши части уже в Великих Луках. Это было бы громадной радостью для всей страны, но в конце концов это дело недолгого времени. Захватим полностью – тогда и сообщат.
Впрочем, чтобы прекратить напрасное кровопролитие, наше командование посылает к гитлеровскому командованию парламентеров. Они возвращаются ни с чем. Фашистские заправилы, видимо, рассчитывают, что в крайнем случае их выручат самолеты.
Что ж, значит, отныне мы будем действовать только на полное истребление. Самолетам с черными крестами больше не подниматься из Великих Лук!
В блиндаже, где разместился командный пункт батальона, вместо лучины жгут телефонный провод. Он нещадно чадит и еле освещает обессиленных, дремлющих людей. Третьи сутки без сна!
Но нет предела человеческой воле. Командир батальона принес банку снега и время от времени сует пригоршню снега за воротник. Спать нельзя.
В блиндаж протискивается какой-то боец и берет под козырек левой рукой. Или это уже чудится командиру?
И докладывает:
– Связной Филимонов. С донесением…
– Давайте.
Однако связной почему-то беззвучно, медленно оседает на пол. И тут командир батальона видит: правая рука связного Филимонова, жгутом перевязанная выше локтя, болтается на одних сухожилиях…
Но город уже наш. Старший сержант Винатовский первым поднял в нем красный флаг. Речи произносить было некогда, кругом шел бой. Самому Винатовскому понадобилось расправиться с несколькими гитлеровцами на чердаке, прежде чем удалось пробраться с флагом на крышу. Однако, когда он наконец выбрался туда, его увидели все.
Увидели красный флаг над городом и гитлеровцы. И поняли: это смерть! Они палили по алому полотнищу из минометов, из автоматов, потом начали садить из пушек. Но от него невозможно было избавиться, как от наваждения. Пылающий флаг трепетал и рвался на ветру и звал вперед, словно сам несся в бой – неудержимый, неугасимый.
То, что наше, – наше навеки. Места становятся обжитыми очень быстро. Капитан Кравцов объясняет связному:
– Пойдешь к Левину…
– Это куда?
– Ну, где наш старый КП был. Ну, где меня еще камнем придавило, – помнишь?
Каждый дом и каждый камень в доме здесь завоеван кровью. Пусть никогда этого не забудут те, кто будет жить здесь, в Великих Луках, после войны!
Только через несколько дней город был очищен полностью. В эти дни произошло много событий. Мы еще раз предложили командованию гитлеровского гарнизона капитулировать. Это было под новый, 1943 год. Предложение передали по радио, через громкоговорящую установку.
На размышление предоставили сорок минут. Указали также пункты, где капитулирующих будут ждать наши представители.
Тридцать девять минут, экономя боеприпасы и пользуясь предоставленной им передышкой, гитлеровцы молчали. А когда пошла сороковая, начали обстрел всех мест, где их ждали наши представители.
Это был их выбор. И это был их конец…
Через несколько дней, зайдя по своим делам в тихий госпиталь, разместившийся уже в самих Великих Луках, я неожиданно опять услышал мягкий голос Луневича. Он читал товарищам по палате сводку Совинформбюро:
– «Сводка Совинформбюро за первое января 1943 года. На Центральном фронте наши войска в результате решительного штурма овладели городом и железнодорожным узлом Великие Луки. Ввиду отказа сложить оружие, немецкий гарнизон города истреблен…»
В Великих Луках царила тишина. Добрая тишина, казавшаяся непривычно странной для наших ушей. А в сводке наконец стояло известное, знакомое название крупного города – не какая-то там безымянная высота, относительно которой надо было еще верить, что она имеет серьезное «тактическое значение».
Кончив читать сводку, Луневич бережно вынул из-под подушки свою заветную карту и снова принялся по ней измерять спичкой расстояние до родной Белоруссии. Но лежавший рядом эстонец, с трудом одолевая русскую речь, настойчиво убеждал его, что отсюда еще короче путь до Эстонии и что спичка – несовершенный мерительный инструмент.
Они бы, наверно, спорили долго, если бы их не примирил третий сосед по палате – старшина-москвич:
– Знаете что, друзья? Давайте-ка лучше мерить до Берлина. На этом все сойдемся! А?
…В Великих Луках стояла тишина. Но ею пользовались только раненые, чтобы набраться новых сил и поскорее догнать фронт, ушедший вперед, на запад, – к новым боям, к новым победам.
Луневич поинтересовался у меня:
– Ну как, товарищ писатель, описали тот день, что я вас просил?
– Да, – охотно ответил я. – И даже про вас упомянул. Жалко лишь, что во время штурма мало вас видел.
– А чего же жалко? – возразил Луневич. – Если напишете про народ, я и себя увижу.
Луневич говорил убежденно и просто – так, как, к сожалению, редко умеют разговаривать с писателями критики. И я понял, что, собственно, так и следует писать: про народ. Напишешь верно – и каждый узнает себя в твоем описании.
Но это, конечно, самое трудное.
1942–1943
Ничего существенного

Хорошо штабистам! Хотя, вообще говоря, я бы ни за что не променял нашу жизнь на их, канцелярскую. Только в одном отношении им лучше: они постоянно знают все заранее. Всегда у них такие есть указания от вышестоящих штабов и такие сведения о противнике, какие нам, на переднем крае, даже не снились. Их никогда поэтому не угнетало, например, затишье. Им заранее было известно, когда оно кончится. И они даже не понимали нас: почему мы нервничаем, если тихо. А попробуйте не нервничать! На всех других фронтах – наступление, десятки освобожденных городов, тысячи пленных. Москва салютует этим фронтам… Только мы тут… Да что говорить! Одно слово: «лесисто-болотистый участок»!..
Самым приметным ориентиром перед фронтом нашего полка был горелый немецкий танк. Его подбили давно – еще те, что стояли на этом участке до нас. А мы так и не смогли продвинуться ни на шаг. Представляете, как нам было «приятно» смотреть на него!
Но однажды и у нас произошло событие. Конечно, не такого масштаба, чтобы нам салютовала Москва, но все же…
Дело было так. Старший сержант Фирсов, вернувшись под утро с очередной разведки переднего края противника, доложил, что в пятнадцати метрах от горелого танка обнаружил хорошо замаскированный в траве телефонный провод.
Можно было ручаться, что проводом пользуются, так как он был туго натянут.
На вопрос: «Вы его перервали?» – Фирсов резонно возразил, что если бы он воевал где-нибудь на берлинском направлении, то, не задумываясь, поступил бы именно так, но на нашем участке подобная находка – дар божий, и грех не воспользоваться ею на все сто, как говорится. Лучше пусть ему разрешат следующей ночью отправиться к этому проводу еще с кем-нибудь. Он перережет провод, а когда немцы выйдут на линию искать порыв, сцапает «языка».
Командование одобрило план старшего сержанта, однако для начала решило провести менее сложную операцию: просто подключиться к обнаруженной сети.
С этим заданием немедленно отправили разведчиков-связистов. Через пятнадцать минут они нырнули в траву и исчезли.
Одновременно надел наушники и наш долговязый меланхоличный переводчик Коган. В обычное время, надо сказать, Коган не был меланхоликом. Он даже очень любил петь, и преимущественно веселые песни. Правда, ему медведь на ухо еще в детстве наступил, и нам всегда приходилось просить его: «Коган, хочешь, мы дадим тебе лишние сто граммов, только помолчи, будь другом!»
Коган не обижался, но и не умолкал: любовь к пению была сильнее его.
Он становился мрачен, лишь когда вспоминал о своей должности. Вот тут он начинал ругаться на всех языках, которые знал.
– Почему, – скулил он, – все люди как люди: ходят в разведку, подстреливают гитлеровских офицеров, накрывают фашистские окопы снарядами, а я один должен в это время рыться в их паскудных газетах и письмах? Почему, когда приводят еще не догадавшегося сдохнуть эсэсовца и никто из вас, конечно, не желает на него смотреть, я один обязан с ним разговаривать, и слушать его, и доказывать, что его не убьют и даже вылечат от ран?.. А если бы я не знал этого дойтче шпрахе, что, я безработным бы на войне остался? Мне бы другого дела не хватило? За что мне такая судьба, я вас спрашиваю? А?
Вот и сейчас, едва он надел наушники, на лице его появилось такое выражение, будто у него много дней ныли зубы. Впрочем, немецкой речи в наушниках пока не слышалось. Поэтому минут через двадцать меланхолия оставила Когана и он даже замурлыкал песню. Он безнаказанно пел, наверно, целый час. В такие моменты он отплачивал нам с лихвою!
Но вот он вдруг замолк, привстал и сделал строгий жест: молчите! (Хотя мы и так были немы как рыбы.) Мы поняли: разведчики-связисты включились в обнаруженную Фирсовым линию.
С короткими интервалами нам все время звонили из штаба полка: «Ну, что говорят немцы?» Нам и самим не терпелось получить на это ответ. Но, по словам Когана, который говорил теперь с нами, плотно прикрывая мембрану ладонью, ничего существенного не было. На проводе было двое немецких связистов: один молодой, другой постарше. Молодой, по фамилии Шмерке, часто трещал зуммером. На другом конце пожилой отзывался: «Алло!» Шмерке отвечал: «Проверка старых хрычей» – и гоготал, довольный своим остроумием. Иногда, постучав зуммером, он рявкал: «Хайль Гитлер!» И старик торопливо и старательно отзывался: «Хайль!» Видно, молодой был из молодых, да ранний.
С тех пор как Коган надел наушники, из его блиндажа не выходил командир приданного нам артдивизиона майор Ефим Козаченко. Майора Козаченко любили не только его артиллеристы, но также и мы, пехота. Он всегда поддерживал нас надежно, исправно и… весело. А это немало значит!
Достаточно было, чтобы он появился где-нибудь, как в ту же минуту заставлял людей улыбаться.
– И кто вас знает, чем вы берете? – не раз спрашивал его полковник Акимов, угрюмый командир его полка, страдавший болезнью печени и мучившийся приступами аппендицита.
Козаченко неизменно отвечал:
– Тем, что рыжий, товарищ полковник!
– Рыжий – это точно! Как апельсин!
– Апельсин – золотой, а я – как таз для варенья. Меня мать с собой в погреб вместо фонаря брала, честное пионерское!
Кроме того, он был нетерпелив, непоседлив и не знал ни секунды покоя. Даже во сне его насмешливые губы беспрерывно что-то шептали: не то он подсмеивался над кем-то, не то ругал. Вообще казалось, что он притворяется, будто спит. Вот и сейчас: едва услыхав последнюю фразу, переведенную Коганом, он моментально вскинулся с койки, словно и не засыпал:
– Что? Они спать желают? Скажите пожалуйста! Не выйдет! Слушайте, Коган, передайте этому Шмецке… как его фамилия, Шмецке?..
– Шмерке, – поправил Коган.
– Вот я и говорю: передайте этому Шмуцке, что спать он не будет. Это ему Ефим Козаченко говорит – не кто-нибудь. Какой нахальный фашист пошел, просто ужас: он спать желает, скажите пожалуйста!
Когда солнце поднялось над горизонтом, артиллерийский наблюдатель доложил Козаченко, что ясно видит весь передний край противника. Тогда Козаченко выпустил в месторасположение провода первые два снаряда. На одни из них Шмерке не реагировал, на разрыв же второго откликнулся быстро и взволнованно. Коган едва успевал переводить. В голосе Шмерке моментально исчезли наглые нотки. Он докладывал о результатах попадания своему начальнику, какому-то обер-лейтенанту. Кстати, выяснилось, что сам он сидит связистом на наблюдательном пункте.
«Русский снаряд угодил на пятьдесят метров левее третьей точки…»
Козаченко немедленно подскочил к аппарату, связывавшему его с батареей на прямую:
– На целых пятьдесят метров? Ай-яй-яй!.. Коган, передайте герру Шмерке, что я глубоко извиняюсь за такую ученическую стрельбу… Алло, «Верба»? «Вербочка», дайте доворот ноль-пять вправо. Только не сейчас, а выстрела через два-три: там у меня птичка одна сидит, я хочу, чтобы она почирикала еще. Ясно?
Ни две дочки-близняшки, которыми Козаченко чрезвычайно гордился (они уже переходили в пятый класс), ни слава одного из лучших артиллеристов армии, ни даже большие и жесткие, как щетка, усы, отпущенные Козаченко и неожиданно оказавшиеся почти черными, – ничто не могло придать майору внешнюю солидность, ничто не могло вытравить из него озорной дух неугомонного заводилы комсомольских вечеринок.
– Есть! – ответила «Вербочка». – Не спугнем!
Действительно, в цель положили только третий снаряд. По заказу.
Голос Шмерке звучал в трубке Когана уже беспрестанно:
– Третья точка разбита прямым попаданием начисто! Вышлите другую повозку.
Но прошло пять минут, десять, а повозка все не прибывала. Шмерке осмелился доложить об этом вторично.
Козаченко живо посочувствовал ему:
– Действительно, безобразие! А еще говорят: немецкий порядок, немецкая аккуратность! Все у них на нашем фронте из головы вылетает!
В конце концов повозка подошла. И тогда Козаченко скомандовал «Вербочке»…
Шмерке прерывающимся голосом доложил, что повозка взлетела в воздух. Впрочем, он начал с того, что передал сведения о себе:
«Один снаряд разорвался не дальше тридцати метров от моего блиндажа. Русские, кажется, нащупали меня и берут „в вилку“!»
Козаченко усмехнулся и нарочито сердитым тоном закричал в трубку:
– «Верба»! А ну, не озорничать! Вы мне Шмерке не волнуйте, это же солист в нашем концерте!
После этого «концерт» продолжался нормально – строго по плану. Вдруг наш меланхолик Коган прыснул со смеху.
– Что такое? – участливо наклонился к нему Козаченко.
– Можете представить себе? Шмерке заговорил по-русски – матерится! И докладывает: «Один блиндаж на всем участке остался целый: мой. Да и меня вот-вот накроют!»
Козаченко довольно расправил усы. Ему вообще доставляло удовольствие лишний раз прикоснуться к ним.
– Я вижу, Коган, ваш подопечный начинает рассуждать довольно здраво. Что ж, в таком случае не будем заставлять его томиться. Еще сбежит, пожалуй!
Козаченко вынул из планшета самодельную записную книжечку, на обложке которой было выведено «Мой список», и, найдя в ней графу «Уничтоженные за неделю фашисты», зачеркнул стоявшую последней цифру «51».
– Вызвать «Вербу», товарищ майор? – спросил связист, уже привыкший к манерам своего командира.
– Вызывай, дорогой!
Коган не снимал наушников до самого конца. Выстрел по блиндажу Шмерке отдался в них гулом такой силы, что даже окружающим было отчетливо слышно. Затем в мембранах установилась мертвая тишина.
Коган осторожно, как снимают с раны бинты, снял с головы наушники и потер уши. Уши были багровые и, казалось, даже опухли.
Козаченко неуверенно вывел на листке блокнота цифру «53» и спросил:
– Так вы думаете, Коган, это точно, что мы попали в Шмерке?
Коган посмотрел на него с возмущением:
– Вы что, смеетесь, товарищ майор? Я на этом конце провода чуть не оглох, а он, вы думаете, на том уцелел? Или вам бы хотелось, чтоб и я там сидел для проверки? Так, что ли?
Козаченко решительно обвел цифру «53».
– Не сердитесь, Коган. Честное пионерское, вы злитесь оттого, что я прервал вашу любимую переводческую работу. Но ведь я же берег Шмерке до его последнего вздоха! – Глаза Козаченко искрились всегдашними лукавыми огоньками. – Выйдемте лучше на воздух. Там весна, а в вашем кабинете накурено, как в пивнушке.
Они вышли из блиндажа и невольно зажмурились. Припекало солнце, чуть слышный ветерок ходил по траве. Она слепила глаза, блестя под солнцем, как лакированная. Ветерок подталкивал облачко к переднему краю немцев: оно двигалось едва заметно, округлое, плотное, неторопливое.
Подошел почтальон и вручил Козаченко свежую армейскую газету. Майор быстро пробежал ее глазами и протянул Когану. Но Коган устал, ему не хотелось читать. Он спросил:
– На нашем фронте есть что-нибудь новое?
– Нет, – ответил Козаченко, – ничего существенного.
Коган угрюмо перевел взгляд на горелый танк. Конечно, «ничего существенного»!
Козаченко разостлал шинель на сырой от росы траве, лег на нее, поудобнее положил руки под голову. То же сделал и Коган.
Не прошло и пяти минут, как они спали сном основательно и успешно потрудившихся людей. И кто их знает, что им снилось – и меланхолику Когану и весельчаку Козаченко? Наверно, одно и то же: наступление. Ибо что еще может сниться людям на лесисто-болотистых участках стабильного фронта, где порою даже штабистам завидуешь: только они, черти, знают, когда кончится затишье!
1942
Гренадер из «хозяйства» Петрова

Большую часть «жилплощади» в блиндаже нашей редакции занимали нары. И так как в редакции одного или нескольких из нас всегда ждали с передовых, то над самым лучшим местом нар было художественно написано: «Номера для приезжающих». В тот день, о котором я хочу рассказать вам, там лежал Сергей Чернин, и мы упрекали его в безделье.
Он смотрел на нас молча, задумчиво, а затем убежденно произнес:
– Циники! Что вам нужно от человека, несчастные соковыжималки? Каков предел вашей убогой фантазии? Двадцать строк на первую полосу, подвал на третью – больше вы от человека ничего не способны ожидать. А вы можете понять, что я… – и он демонстративно повернулся на другой бок, – …что я пе-ре-жи-ваю!.. Какая девушка! Какая девушка!
Кто-то немедленно спросил:
– Конфетка?
Но в этом вопросе не было ни на йоту пошлости. Просто на жаргоне редакции «конфеткой» называлась потрясающая новость, сенсация. Однако какой сенсацией можно было бы удивить нас? Сколько подвигов уже было описано каждым из нас!
Поэтому в ответ на отповедь Сергея мы решили наказать его нашим равнодушием. В самом деле «конфетка» или нет – еще неизвестно, а он уже, изволите видеть, переживает! Ну и пожалуйста, сколько угодно! Только без нас – нас это не интересует. Вот!
Мы рассчитали правильно: какой газетчик стерпит такое отношение к «своим» новостям!
Сергей немедленно вскочил с нар и бросил нам вызов: – Значит, вам безразлично, с чем я вернулся из частей? Безразлично? Ну и черт с вами! Только все равно вы врете!
Это тоже было правильно. И Сергей уверенно продолжал:
– Вы убеждены, что я – щенок, что я – новорожденный, что ждать от меня какого-нибудь путного материала – то же, что ждать от нашего редактора человеческого слова и литературного вкуса! Хорошо же! Мальчишки! Садитесь в кружок, как в пионерском отряде, рвите на себе коллективно волосы и слушайте! Вы, значит, ничего не прозевали в «хозяйстве» Петрова? Еще бы! Что вам какая-то Бабкина! Что вам, что она представлена к ордену Красного Знамени! Ну, застрелила двух трусов… Ну, вытащила на себе раненого летчика, который упал между нашими передовыми и немецкими…
– Гм… Гм… Мы, кажется, действительно, прозевали стоящий материал.
– А девушка-то какая!..
Кто-то тоном уже побежденного спросил Сергея:
– Ты долго с нею беседовал?
– Нет, я еще не видел ее, мне рассказал о ней комиссар дивизии. Кстати, забыл добавить: она, ко всему прочему, еще вывезла на себе с поля боя противотанковую пушку.
– Одна?
Но Сергей решил, что он уже разгромил нас и не счел нужным обращать внимание на подобные придирки.
– Нет, вместе с тобою!
Ох как мы ему отплатили за этот наглый ответ, вы бы только видели! Как мы все захохотали в лицо ему, все, как по команде! Мы начали раскачиваться из стороны в сторону, держаться за животики, хлопать друг друга по плечам, указывать на Сергея пальцами.
Он понял, что переборщил, и хотел что-то сказать… Куда там! Мы начали шпынять его репликами. Мы издевались над ним.
– Сергей, зачем ты начал одеваться? Ты спешишь к ней?
– Сергей, не влюбись! Если она станет твоей женой, она по утрам будет упражняться тобой вместо гири, она пушки одна вытаскивает!
Он все-таки сумел вставить:
– Тупицы! Першероны!
Но мы с ходу подхватили новое слово.
– Вот спасибо, – заорали мы ему, – подсказал! А то бы мы ни за что не вспомнили, как называют этих битюгов!..
Мы бы окончательно затюкали его – без злобы, без яда. Просто очень хочется смеяться на фронте. Так вот, мы бы окончательно затюкали его, но в эту минуту в блиндаж вошел редактор. Он был человек вечно занятый, и смех в его присутствии звучал просто-таки оскорблением. Он сурово посмотрел на всех, а затем принялся переводить свой тяжелый взгляд с одного на другого. Улыбки быстро улетучивались с наших лиц, но сразу исчезнуть они все же не могли.
– Я вижу, вам очень весело, – сказал редактор. – И никто не работает!
Мы с трудом взяли себя в руки.
– Да, товарищ старший батальонный комиссар, отвлеклись немного. Тут политрук Чернин рассказывает об одной замечательной сандружиннице. – Кто-то не выдержал и прыснул за спиной редактора. – Надо бы поехать к ней, мы думаем.
– Что ж, пускай и съездит. А чем она отличилась, товарищ Чернин?
Сергей вытянулся, как на смотру, и не ответил – отрапортовал:
– Одна вытащила на себе из боя подбитую пушку!
Редактор не понял, что тон Сергея – вызов, направленный не в его, а в нашу сторону, и счел нужным прекратить разговор, который велся не так, как, ему казалось, подобает вести разговор с начальством.
– Одна? На себе? Ну что же, геройский поступок. Над чем тут можно смеяться? Отдыхать, Чернин, не будете, поедете к ней сразу!
Повернулся на каблуках и вышел.
Отправлялся Сергей в дивизию, скажем прямо, без подъема. А вдруг, действительно, мы окажемся правыми и он столкнется с этаким восьмипудовым гренадером в юбке? Да и без передышки из одной командировки в другую… Впрочем, в этом мы сами чувствовали себя виноватыми: так уж сложилось… И оттого, что мы понимали это, ему было несколько легче.
Как ему хотелось, чтобы его Бабкина оказалась именно такой, какой он с самого начала вообразил себе ее! Хоть бы нам на зло такой оказалась!
Но вдруг все-таки правы мы?..
Наконец Сергей вернулся, и мы не пожалели, что совершенно несправедливо расписали ему ее как гренадера. Товарищ Бабкина Анна Никаноровна (простите, Асенька, что мы вас расписали Сергею бог знает как!) – эта силачка, громадина, Иван Поддубный (да, да, мы всё пустили в ход!) – оказалась худенькой ясноглазой девушкой и лишь одним отличалась от портрета, нарисованного нам Сергеем заранее: мягкие льняные волосы ее не были заплетены в косы, а коротко, по-мальчишески, острижены: Ася только что перенесла крупозное воспаление легких. Сергей был старше ее на четыре года и выше на две головы. Но несмотря на это, несмотря также и на то, что был он прирожденным газетчиком и взял на своем веку не один десяток интервью, он все-таки, когда остался с этой девушкой с глазу на глаз, впервые в жизни смутился. И чтобы скрыть это смущение, повел разговор с нею сначала в исключительно строгих тонах. Вынул блокнот, солидно откашлялся и спросил:
– Товарищ Бабкина, это правда, что вы вытащили на себе противотанковую пушку?
Ася покраснела:
– Ой, что вы! Кто вам сказал! Разве ж я могла с ней справиться! Я ее прицепила к нашей санитарной двуколке!
Сергей облегченно вздохнул, но не показал виду, как кровно интересовала его эта подробность.
– Значит, не сами… А как вы пристрелили двух трусов?
Ася удивленно посмотрела на своего неожиданного следователя и строго сказала:
– Я никого не расстреливала.
– То есть как – никого? Но вы заставляли кого-то идти в атаку?
– Не то чтобы заставляла… Я просто сказала одному, который лежал в окопе, чтобы он встал: пора уже. Но только я в него не стреляла…
– А что же?
– Ну, я сказала ему. Он встал. Встал и стоит. Я тогда, кажется, подтолкнула его. Знаете, я очень рассердилась.
Сергей с воодушевлением рассказывал нам обо всей этой беседе с Асей Бабкиной.
– Я ей задаю вопрос: «Ася, а как вы летчика вытаскивали?» А она отвечает: «Я сказала одному бойцу: „Пойдемте вместе, он, наверно, тяжелый“. Ну, пошли». – «Это что же, – спрашиваю, – ночью было? Немцы не видали вас, не обстреливали?» – «Нет, они стреляли. Но только я маленькая, в меня попасть трудно». – «И кто же тащил летчика – вы или боец?» – «Я. Потому что мне показалось, ему так больше нравится». – «А самолет подожгли? Или разоружили?» – «Разоружила, конечно». – «Однако! Как это у вас достало сил тащить на себе и летчика и спаренную установку?!» (Мне, ребята, и в голову не пришло, что она не знает про то, что пулеметы на самолетах спаривают!) А она говорит: «Так там же ничего тяжелого не было, только один пистолет летчика в кабине валялся. Какая спаренная установка?» Я рассмеялся, спрашиваю: «Асенька, сколько вам лет?» А она вдруг разобиделась: «Все, – говорит, – меня про это спрашивают. Не маленькая уже! Сколько есть, столько и есть!»
…А написал Сергей про Асин подвиг как раз весьма и весьма посредственно. Тем не менее мы хвалили его на редакционной летучке от всего сердца, и, честное слово, никому из нас не казалось, что мы кривим душой. Узнав, что Ася не сама вытащила из боя противотанковое орудие, редактор рассердился и отпустил Сергею на корреспонденцию о ней всего девяносто строк. Представляете, каково Сергею было уложить все свои чувства к будущей жене в жалкие полторы странички на машинке!
1941