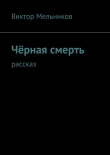Текст книги "Смерть считать недействительной
(Сборник)"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Самая дорогая марка

Еще с детства я увлекался марками. И с детства же мечтал залучить в свой альбом самую редкую, самую дорогую марку мира – одноцентовую «Британскую Гвиану», выпуска 1856 года, с изображением трехмачтовой шхуны и погашенную не обычным почтовым штемпелем, а просто перечеркнутую уже порыжевшими чернилами. Это – единственный экземпляр в мире.
Марка – четырехугольная, карминового цвета; кроме корабля на ней латинский девиз: «Damus petimis que vicissim» («Мы даем и требуем попеременно»). Впрочем, тому, кто ею обладает, она больше дает, чем требует. Ибо требует она только того, чтобы ее хорошенько хранили, стоит же – состояние: американский миллионер Хайнд уплатил за нее на аукционе триста пятьдесят две тысячи франков. Я где-то читал даже, что он отвел для ее хранения специальный несгораемый шкаф, который стоит в отдельной комнате с бронированными стенами. Возле шкафа постоянно дежурят два сыщика с автоматическими пистолетами. Пистолеты они носят на ремне под мышкой: чтобы по тревоге стрелять мгновенно.
Но несмотря на то что в моем альбоме никогда не бывало – и сейчас, конечно, нет – одноцентовой марки «Британская Гвиана», выпуска 1856 года, одну марку своей коллекции, которая мне стала самой дорогой, я не променяю теперь и на сто «Гвиан». И не только я один так высоко ценю ее. Шандор Сегеди, от которого она попала в мои руки, относился к ней так же.
Впрочем, вы еще не знаете, кто такой Шандор. Что ж, расскажу все по порядку.
В Будапеште стояла ранняя весна 1945 года. Над городом непрерывно плыл гул тяжелых бомбардировщиков, летевших на северо-запад, в Германию, бомбить остатки гитлеровских войск. Столица Венгрии была уже очищена от них. Но в запах молодой зелени все еще врезалась кислая вонь пороха из множества развалин, уродовавших город. Чтобы перейти улицу, приходилось шагать по тропочке, проложенной на уровне второго этажа на сплошном валу из кусков рухнувших стен, битого стекла, вырванных с мясом оконных рам, обгоревших танков и пушек.
Но я не мог шагнуть на эту тропочку. Я видел ее только из окна госпиталя, куда швырнула меня судьба в последний час боев за Будапешт. Одно утешение было у меня: каждый день приходил Шандор Сегеди. Он просиживал у моей койки часами. Ему не надоедало. Я редко встречал таких терпеливых мальчиков. Сестры, смеясь, рассказывали мне, что он говорил обо мне «мой». Кое-какие права на меня у него, действительно, были. Ведь когда меня ранило, он, первым выскочив откуда-то из подвала, перевязал меня своим носовым платком и еще какими-то тряпками, а потом оттащил в укрытие. Он не успокоился и когда привел ко мне наших санитаров: он сопровождал их до самого госпиталя, куда меня принесли.
На другое утро Шандор опять пришел к госпиталю справиться, жив ли «его» раненый. Понять паренька было трудно, он говорил только по-венгерски. Но все же догадались, о чем он спрашивает. После этого Шандора пропустили в палату. Я сразу узнал своего спасителя. А он еще больше обрадовался, увидев, что я в полном сознании и узнаю его.
Я крепко пожал ему руку и подарил красную звездочку со своей фуражки. Он ее тут же нацепил на рубашку – фуражки на нем не было, и он то и дело привычным движением головы откидывал назад блестящие черные волосы. Правда, рубашку пришлось прорвать, и, кроме того, острые края двух жестяных прищепок звездочки моментально исцарапали голую грудь… Но стоило ли обращать внимание на такие пустяки!
А на другой день он принес, чтобы развлечь меня, свою коллекцию марок.
Тут, естественно, наш разговор стал более содержательным. Показывает мне Шандор марку и смотрит на меня. Я определяю – старая знакомая! – «Уругвай» или «Тасмания»! Шандор довольно смеется: верно, «Уругвай» и «Тасмания»! Но многие страны по-венгерски называются не так, как по-русски, и в этих случаях я до тех пор твердил венгерское название, пока не произносил его совсем чисто, а Шандор учился называть эту страну по-русски.
Постепенно наши беседы начали захватывать все больший круг тем. Я, например, уже понял, что он сирота, что его приютила у себя одинокая тетя, что она работница и во время боев за Будапешт ее тоже ранило, – правда, легко; что он учился в пятом классе школы: «пять» он мне показал на пальцах. Кто знает, может быть, он даже совсем хорошо научился бы по-русски, но не прошло и недели, как меня предупредили, что завтра отправят в тыловой госпиталь, на Родину. Предстояло расстаться с Шандором… И тогда я решил подарить ему планшетку. Это была на редкость хорошая планшетка, мне самому всего одна такая попалась за всю войну. По правде сказать, сначала, когда я только подумал: а что, если подарить Шандору планшетку? – мне на минутку стало немножко жалко расставаться с нею. Но потом я рассердился. Сам на себя. Может, он мне жизнь спас, а я какого-то барахла жалею!
И когда он пришел, я подарил ему планшетку, объяснив, что уезжаю и она мне больше не нужна. Он сперва ни за что не хотел брать такого дорогого подарка. Но когда я все-таки убедил его, он раскрыл свой альбом, вырвал из него первый листок, на который была наклеена всего одна-единственная марка, и протянул его мне. Это была первая марка Венгерской Советской Республики, возникшей вскоре после нашей Октябрьской революции, но продержавшейся только четыре с половиной месяца. На штемпеле гашения стояла дата: «16.VII – 1919». Изображен на ней был Карл Маркс.
Я стал отказываться. Глаза Шандора наполнились слезами. Сбивчиво, горячо он принялся убеждать меня, что я обязательно должен принять от него эту марку: что у него нет ничего дороже ее. Он говорил много, но я понял лишь то, что эту марку подарил ему его отец, что отец его – коммунист и, наверно, погиб в концлагере, – гитлеровцы взяли его, когда еще была жива мать, а Шандор был совсем маленький – он показал ладонью, какой. И еще я понял из его слов, что это – самая дорогая ему марка, что у него ничего больше не осталось от отца, но он обязательно хочет, чтобы советский офицер взял эту марку на память о венгерском мальчике…
И я взял ее, и она теперь так же открывает мой альбом, как прежде открывала альбом Шандора Сегеди, – на отдельном листке, против всяких правил. Но ведь не всегда обязательно соблюдать правила.
А Шандора Сегеди я, к сожалению, до сих пор не смог найти снова, хотя он уже, конечно, стал взрослым и, наверно, даже кончил техникум или вуз. Сколько я ни просил разных знакомых, порой отправляющихся в Венгрию, чтобы они разузнали его адрес, никто его не отыскал. Потому что Шандор – это по-русски Александр, а Сегеди в Венгрии столько, сколько у нас Сергеевых или Смирновых. Вот и попробуй найти в столице Сашу Смирнова, если не знаешь о нем ничего больше, кроме того, что он спас тебе жизнь да когда-то жил с тетей…
И только в самые последние дни, уже после подавления контрреволюционного мятежа 1956 года, мне однажды в газете попалось на глаза его имя. Я прочел в заметке из Будапешта, что в Чепеле (это рабочий район Будапешта) стойко дрались с фашистами комсомольцы, – а дальше шли фамилии, и в их числе я увидел: «Сегеди Шандор». Однако мой ли это Шандор или нет, и остался ли он в живых, из заметки было не понять. Много ведь отважных венгерских комсомольцев, как когда-то их отцы в 1919 году, встали грудью против контрреволюции в трагические дни октября 1956 года, и немало их погибло в этих жестоких боях.
Но если случайно, дорогой Шандор, дойдет до тебя этот мой рассказ или ты хотя бы услышишь о нем, откликнись. Ты даже представить себе не можешь, как я буду рад!
1956
Командировка в Грюнштедтль

С тех пор как наши части взяли этот саксонский городок, мне как-то не пришлось больше бывать в нем. А ведь человека непременно тянет снова – хоть раз! – повидать те места, где он воевал. Вот почему, когда уже вскоре после окончания войны на мою долю выпала командировка в этот городок, я ее встретил с удовольствием.
Это был городок типично бюргерский, памятный еще по картинке в школьном учебнике, такой благополучный и довольный собой, так аккуратно разрисованный разными красками: ярко-красные черепичные крыши, ярко-зеленые деревья, ярко-желтый песок дорожек… Деревья стоят вдоль дорожек по струнке. По разузоренному плиточному тротуару торжественно шествует к кирхе гроссфатер, с молодцевато и воинственно закрученными кверху усами, об руку с осанистой гроссмуттер, а перед ними чинный внучонок, с пробором на голове и в шерстяных гольфах… Под всем этим, чтоб не ошибиться, в школьном учебнике стояла подпись: «Der Stadt» – «Город».
Но когда мы ворвались в этот городок на плечах отступавшего противника, застрявшая в памяти картинка учебника не сразу вновь возникла перед глазами. Приниженный, вобрав голову поглубже в плечи, укутавшись, точно в отрепье, в рваные клочья дыма, городок прикинулся жалким, нищим и несчастным. На улицах попадались одни старухи, одеты они были в черные, только черные и обязательно штопаные платья. Из каждого окна свисали огромные белые полотнища – простыни, скатерти, сшитые как флаги полотенца, – они задевали тебя за шлем, за штык винтовки, приставали: «Пощадите!»
Перед нами не следует унижаться – это вызывает в нас отвращение. Городок не понимал этого. Он умел если не кичиться, то только унижаться.
И над сборочными мастерскими Мессершмитта на окраине тоже плескалось белое полотнище. Правда, когда наши бойцы прорвались к мастерским вплотную, оттуда застрочил пулемет. Какой-то сержант и двое солдат вломились тогда в мастерскую с фланга, высадили дверь на чердак и выстрелам в спину прикончили эсэсовца, лежавшего за пулеметам. Эсэсовец был одет уже в штатское, а рукав его – предусмотрительно, заранее – перетянут белой повязкой. Педантичности он не изменил до самой смерти. Но и педантичность его не спасла.
Невдалеке от городка война и кончилась. Городишко несколько дней опасливо присматривался к нам, пока не убедился, что худо ли, хорошо, но можно существовать и при нас. Тогда начавшее уже желтеть под солнцем вывешенное из окон постельное и столовое белье было тотчас убрано обратно в гардеробы, а флаги из полотенец снова расшиты на полотенца.
Как ни чуждо нам все это было – и трусость, и подобострастие, а тем не менее внешне чистенький зеленый городок был приветлив: розы в окнах, фасады, увитые плющом, подстриженные газоны и аккуратный, словно тоже подстриженный, фонтанчик перед кирхой. Он так и назывался: Грюнштедтль – зеленый городок.
Мое знакомство с ним началось с окраин. И хотя перед зданиями здесь тоже были разбиты газоны с пионами и анютиными глазками, а фасады увиты диким виноградом, но чересчур уж по-солдатски походили здания одно на другое, чересчур тщательно были закамуфлированы их крыши – чувствовалось: не гражданская рука об этом заботилась.
Кварталы были сборочными мастерскими Мессершмитта. Все тут было не случайно. И то, что они разместились в городке, где от веку не было никакой промышленности, – когда союзники (а они это делали чаще нашего) бомбили мастерские с воздуха, можно было кричать во все радиорупоры, что советская авиация бомбит мирные поселки. И стандартно-казарменная архитектура бараков. И даже то, что их стены были увиты домашним плющом, – и это имело военный смысл: камуфляж.
Бараки тянулись друг за другом, нескончаемые и однообразные, будто их целиком, готовыми, вместе с клумбами перед входом, а заодно и вместе с фигурками человечков внутри отштамповала какая-то гигантская машина. Нет, не только убогой фантазией гитлеровских архитекторов объяснялось такое «зодчество». В лютом однообразии фашистской архитектуры был свой, совершенно определенный смысл, затаенный и злобный. Как и вся пропаганда фашистов, она стремилась вколотить в голову человека одно: забудь, что ты – человек и, следовательно, чем-то особым, неповторимым отличаешься от другого человека. Наоборот: ничего неповторимого, ничего своего! Ни под каким видом! Исступленная страсть к ранжиру, которую столетиями прививали немецкому народу его бесчисленные коронованные фельдфебели, была доведена здесь до своего логического завершения.
От барака до барака – сорок шагов. И до следующего – тоже сорок. И до еще следующего – столько же. И до завтрашнего, и до послезавтрашнего, и до последнего дня твоей жизни тоже заранее измеренное расстояние. Размышлять на эти темы не стоит: размышления сокращают срок жизни. Бери от жизни простейшее. Если ты мужчина – женщин. Какая тебе разница, что они, может быть, чужие жены, – все на свете повторимо. Если ты женщина – мужчин. То, что они чужие мужья, неважно: все на свете одинаково. Еще можешь грабить евреев. Благодари за это фюрера: только он сделал это доступным. Когда евреи в Германии кончатся, можешь грабить Россию и вообще не немцев – они для этого и существуют, ты ведь высшая раса! И воля тебе своя не нужна; тебе будет достаточно хорошо, если ты со старанием выполнишь приказы фюрера: он лучше тебя самого знает, что тебе нужно!
Все известно заранее. Вот тебе барак, где за стенами, обвитыми милым твоему сердцу домашним плющом, ты отстоишь у конвейера столько часов, чтобы оставшихся хватило на еду, сон и умывание утром; вот тебе фарфоровый рог для полотенца, где написано: «Для рук», не спутай, порядок в доме – залог преуспевания в жизни; вот тебе кино со счастливым концом: собственное авто, собственный домик и благословение фюрера. Что нужно тебе еще, немец?
Но если ты все-таки думаешь, что тебя немножко обманули (хотя в делах это, конечно, вполне допустимо – на то и дела!), если тебе все-таки кажется, что от тебя скрыли что-то еще лучшее, ну что же: выйди в обеденный перерыв за двери своего барака и посмотри на другие. Они такие же точно, как твой, и идут до самого горизонта. И до каждого из них столько же шагов, сколько до твоего. Нет, тебя ни в чем не обманули, фюрер не обманывает! Так будь же доволен и благодари бога, что тобой еще не заинтересовалось гестапо! Хайль Гитлер!
* * *
Я встретил замполита батальона связи капитана Зуева в бывших мастерских Мессершмитта. Связисты его батальона сортировали там тысячи брошенных гитлеровцами радиоприемников, доставшихся нам как трофеи.
Я собирался выяснить у капитана, ветерана батальона, некоторые подробности интересовавшего меня подвига рядового Терентьева. По заданию командования я принимал участие в составлении боевой истории военно-восстановительных частей связи, и подвиг Терентьева непременно должен был найти отражение на ее страницах.
Зуев – человек лет сорока, с не бросавшейся в глаза внешностью, если не считать лишь того, что он совершенно седой, среднего роста, несколько угрюмый на вид, с крепко сомкнутыми челюстями, вначале посмотрел на меня недоуменно.
– Вас интересует случай с минным полем? Так ведь это когда уж было!..
Мне показалось, что Зуев отвечает чрезвычайно равнодушно. Чувствовалось, что он очень далек уже от этого боевого эпизода, отделенного от сегодняшнего дня громадным по военному времени сроком: почти двумя годами. И мне стало неловко, что я отвлекаю его от чего-то значительно более неотложного. Впрочем, мне и вообще-то, по совести сказать, было нелегко поддерживать с ним непринужденный разговор. Дело в том, что я лишь на рассвете прилетел из Москвы, где обнял наконец впервые за всю войну жену с сыном и дочерью – всю войну они пробыли в эвакуации, а я – на фронте; я был полон этой встречей до краев и понимал, что так и свечусь радостью. А Зуеву было некого обнимать… Как раз на днях, уже после войны, в этом самом зелененьком Грюнштедтле, он – как мне рассказали в штабе батальона – случайно узнал, что сталось с его семьей, следы которой он разыскивал более четырех лет. Он тоже был москвичом. И семью имел такую же, точь-в-точь, как я: жена, дочь, сын. Но в июне сорок первого они гостили у тещи Зуева в Белоруссии, и, как теперь выяснилось, были угнаны оттуда в Германию и уничтожены…
Зуев спросил меня:
– Вы не спешите? Тогда я расскажу вам о Терентьеве позже, вечером, когда мы с вами уйдем отсюда. Не возражаете? А то у меня сейчас спешных дел много.
Я не возражал. Обождал, пока он освободится, и повел к себе домой – в гостиницу.
Путь был далек, но и за всю дорогу мне не удалось выжать из него ни слова. Даже когда я попросил у него спички – закурить, он протянул мне их без звука, а в ответ на мою благодарность лишь безмолвно кивнул головой.
И только в гостинице его почему-то прорвало. Видно, чересчур долго отмалчивался человек. А тут – пришел к нему совершенно посторонний. Перед посторонним, бывает, легче выговориться. Начал он, впрочем, с Терентьева.
– Значит, вам Терентьев нужен, товарищ писатель? Ясно… Ну, что я вам о нем скажу? Рядовой боец, и даже профессия не геройская: не разведчик, не танкист, не летчик-истребитель. Простой солдат из военно-восстановительных частей связи, которые ремонтируют постоянные линии в тылу фронта. Может быть, ему за всю войну даже гитлеровца живого ни разу видеть не довелось – разве что пленных. И не красавец. Впрочем, можете его изобразить, конечно, каким хотите: парень он ничего. И роста приятного, и обходительный, и глаза с искоркою. Знаете, со смешинкой такой. Цвета, правда, не помню, но глаза хорошие: смотрит, что надо сделать, и делает! А эпизод, который вас интересует, произошел под Самбеком. Забыли такой? Напомню. Миусфронт, сорок третий год. Гитлеровцы понастроили там такого, что нигде в другом месте, пожалуй, ничего похожего и увидеть было нельзя.
Простите, отвлекусь чуть-чуть. Пришлось мне недавно летать в командировку в Москву. И вот, впервые за всю войну увидал я нашу родную землю сверху, из-под облаков. Как это страшно – сверху на нее смотреть, никогда не думал! Сколько на ней ран: и колотых, и рубленых, и рваных! Идет, глядишь, трактор по полю, идет и идет, борозды прокладывает. Вдруг – стоп, нет дальше ходу: воронка от пятисоткилограммовой бомбы. А за ней вторая, третья… Сверху все это как на ладони видно. И виляет трактор раз, и второй, и третий – мука, а не пахота… А в иные траншеи вода натекла, поблескивает. До самого края натекла – черная, мертвая… Вот так… Впрочем, вы не помните, к чему я начал вам это рассказывать?
Зуев неожиданно потерял нить рассказа на полуслове и умоляюще, тревожным взглядом уставился на меня. Я сделал вид, что ничего не случилось.
– Вы рассказывали о Миусфронте.
– Да-да. Спасибо. Что-то после этой поездки в Москву у меня стала пошаливать память… Так вот, я думаю: если бы мне сейчас довелось пролететь над Миусфронтом, то даже сейчас, спустя два года, я увидел бы там одну мертвую землю. Ее, наверно, никогда больше пахать не придется, там минные поля – как плантации: на десятки километров подряд. Только урожай с этих плантаций другой… – Он помолчал.
– Но все же прорвали мы этот Миусфронт. А гитлеровское командование знало: одолеем его – и откатываться их частям тогда на сотни километров без остановки, задержаться нигде не смогут.
Может быть, вы скажете, что в преследовании жарче всего достается пехоте? Заблуждение распространенное. Но нет. Еще тяжелее ремонтникам-связистам. Они обязаны восстановить всю вывороченную связь знаете с какой скоростью? С той же, с какой противник драпать успевает! А связь – фундаментальная. Прикиньте-ка, что стоит одни столбы поставить. Это вам не времянка – пара ниток на шесте! На передовой люди порой огулом меряют: раз, мол, человек в тылу, значит, его и за человека считать нечего. Хотел бы я посадить такого героя на телеграфный столб – линию натягивать, и чтоб его сверху пулеметный дождик покропил… Узнал бы он, каково «тыловику» – связисту постоянных линий! Впрочем, вы не думайте, я не слепой патриот своих частей, я – по справедливости…
Ну так вот… Получил тогда взвод Терентьева задачу: восстановить под Самбеком участок постоянной связи. Объяснять вам, что такое задержка со связью, не стану, сами понимаете. Хотя фундаментальная связь тянется из тыла и тянут ее тыловики же, но проволочка с нею может стоить жизни тысячам фронтовиков… А в дополнение к создавшейся обстановке еще такой момент: что ни сотня метров отвоеванной территории, то километр обхода вокруг минного поля…
Досталось Терентьеву рыть очередную яму для столба на самой вершине кургана. Обзор с кургана – вся степь видна. И увидал он оттуда то самое, что я потом с самолета, – я с ним разговаривал после, он мне именно так и объяснил. И непереносимо тяжко ему стало. За все: и за муки родной земли, и за то, что он до сих пор ни одного фашиста сам не уничтожил – мы ж «тыловики»! А еще – это я вам не с его слов расскажу – сам испытал… там сквозь запах трупов и пороховой гари такой горький и свежий запах чебреца пробивался, что с ума сводил… И пришел Терентьев к командиру взвода и доложил: «Разрешите, товарищ техник-лейтенант, для сокращения времени минные поля не обходить. А так – прямиком провод тянуть!»
Посмотрел командир взвода Терентьеву в глаза: рехнулся, что ли, солдат? Но только увидел, что нет. Черными, как степь, – рассказывал мне потом, – глаза у Терентьева стали, а они ведь, казалось, никогда без смешинки не жили. И разрешил ему техник-лейтенант. Потому что был старым солдатом и понимал цену связи – знал, что еще неизвестно, что дороже на войне: артиллерию подтянуть поближе к врагу или же линию связи наступающему дать!
И пошел Терентьев через минное поле. Напрямик…
Ступает шаг – и осматривается: не задел ли где проводом за какой-нибудь бугорок; смерть ведь и сзади умеет нападать. Еще шаг ступает – еще раз осматривается. А сердце колотится так, что иной раз просто-таки не пускает следующий шаг сделать. Чтобы легче ступать было, он босиком шел, сапоги снял. Но все равно ноги как пудовые. И чем ближе к краю поля, тем еще тяжелее становятся, совсем не слушаются…
Я перебил Зуева:
– Но вы же сказали, что он по своей собственной инициативе предпринял этот рейс?
– Что ж из этого? – возразил Зуев. – Он и не раскаивался. Но сердцу не прикажешь не колотиться… Даже больше вам скажу. Когда он прошел уже почти все поле – оставалось метров семьдесят, – он вдруг заметил, что товарищи, которые ждут его, ничего как будто не делают: так за него боятся. И он как закричит на них: «Что вы на меня уставились? Цирк вам тут, что ли? Кто за вас будет столбы ставить?! Лодыри!»
Как барышня истеричная, разорался: нервы… Но, конечно, зря, потому что столбы они уже все поставили: ему из ложбинки просто не было видно. Разве ему одному не терпелось скорее дать фронту линию?..
Мне было чертовски обидно, что только с чужих слов я смог записать обстоятельства подвига Терентьева. Сам Терентьев, оказалось, был уже демобилизован из армии по ранению.
Зуев заметил мое огорчение.
– А почему вам обязательно нужен именно этот боевой эпизод? Ведь я мог бы рассказать десятки других, и не менее героичных, причем люди по-прежнему живы-здоровы и с ними можно познакомиться когда угодно.
Хотя относительная неудача с Терентьевым несколько опечалила меня, зато меня обрадовало, что изменилось наконец отношение Зуева к цели моего приезда. Если я не ошибался, конечно. Потому что вначале мне определенно показалось, что он ставит под сомнение целесообразность моей командировки в батальон.
Я не стал держать в тайне свое удовлетворение по этому поводу.
Зуев посмотрел на меня серьезно, чуть-чуть помедлил с ответом, а затем раздумчиво произнес:
– Что ж, вы, пожалуй, правы. Когда я узнал, что вы специально присланы самолетом из Москвы, чтобы только собрать живые подробности случая с Терентьевым, я подумал: а хватит ли нам самолетов, чтобы посылать ко всем Терентьевым? Впрочем, – и, может быть, я даже не сумею вам объяснить, в какой связи одно находится с другим, – но после того как я вспомнил один разговор со своей квартирной хозяйкой, – он тоже произошел на днях, – я понял: нет, командование право, не пожалев прислать самолета, чтобы разузнать о Терентьеве что только можно. Действительно, чересчур мы скромничаем! А надо неустанно рассказывать о таких людях, как Терентьев, всему миру. И думать о них надо почаще: чтобы, с одной стороны, не слишком зазнаваться, когда сотворишь всего-навсего какую-нибудь малость, а с другой – чтобы не стесняться знать себе правильную цену.
– А что это за разговор с квартирной хозяйкой у вас произошел?
– Вроде ни о чем определенном как будто. Но если вдуматься… А разговор был такой. Знаете, придешь в свои четыре стены, и коли спать сразу не ляжешь, то невольно иной раз тянет перемолвиться словом. Хоть с кем. Ну, пришел я, пью чай на кухне. Хозяйка стоит у буфета. Навытяжку. Как солдат. Я уж привык к этому. Видно, всей жизнью в нее эта стойка вколочена. Но вдруг она садится на край стула у стола возле меня и говорит: «Извините, герр капитан, но почему я вас понять не могу? И чем дольше наблюдаю, тем меньше понимаю!» – «Меня?» – спрашиваю. – «Да нет, всех вас. Русских». – «Ну и почему же, действительно?» – «Вот и я удивляюсь: почему? Нам же следует бояться вас как огня, вы же победители. А я почему-то почти уже не боюсь. Вы мне поверьте: когда хозяйка видит, каков мужчина дома, это все. Почему же я вас не понимаю? Почему вам ничего от нас не нужно? Ни чтобы мы вам угождали, ни чтобы мы перед вами тянулись, – ничего! Вы даже не требуете, чтобы мы перед вами шляпы снимали!»
Зуев угрюмо усмехнулся:
– Понимаете, это был вопль души, это был смертельный ужас: мир перевернулся для нее вниз головой. Она знала одно: что если есть потерпевшие поражение, то должны быть и победители. Причем, каким должен быть победитель, она знала точно – этому Гитлер учил ее соотечественников в первую очередь. И как же ей недостает теперь того, чтобы я вел себя, как скот! Лишь в этом случае ей было бы спокойно! Ее представление о том, как надлежит быть устроенным миру, осталось бы непоколебленным! А я лишил ее покоя, я заставил ее мучиться страшной мукой: думать! И она будет думать! Будет!
– Только не превратитесь в идеалиста, товарищ капитан, и не обольщайтесь тем, что она в конце концов надумает. А то, может быть, вы еще вообразите, что даже подвиг Терентьева, скажем, станет ей вскоре душевно близок!
– Не беспокойтесь, я не идеалист, я самый что ни есть реальный политик. Но как раз поэтому я нахожу, что и подвиг Терентьева должен стать ей близок и это и есть наша главная цель тут сейчас. Сумеем мы снова превратить ее в человека или нет! Сумеем, – значит, добьем Гитлера, который скрылся сейчас в самое последнее свое убежище – в закоулки души моей квартирной хозяйки. И это – самое опасное для нас убежище его! А если не сумеем выкурить его оттуда, значит, ждать нам новых вероломных нападений. Война ведь не кончена!
Зуев раскрывался передо мной по-новому. Его не пугали новые бои – мины, заложенные Гитлером в души немцев, мины ненависти к нам, презрения, коварства, жестокости, – страшное оружие, не теряющее способности срабатывать много позже того, как его заложили. Он знал их страшную убойную силу, но знал и то, что время не ждет. И, как Терентьев, шагал через минные поля напрямик.
Мне стало жаль, что уже завтра мне предстоит расстаться с ним.
Давно стемнело, но мы сидели, не зажигая света. Как всегда вечером, сильнее пахли цветы, с клумбы под окном тянуло их приторным, слащавым запахом. Воздух был неподвижный, жаркий, липкий.
Неожиданно где-то неподалеку вспыхнула чудесная родная песня. Начал ее один голос, и чувствовалось, что певец затянул ее для одного себя, не ожидая, чтоб ее подхватили. Однако сразу же понесло ее много голосов – мужских, только мужских, и оттого высокие ноты, пронзительные и страстные, мужским голосам присущие мало, еще острее входили в сердце, заставляя его сжиматься, как от невысказанной тоски.
Всю-то я вселенную проехал… —
только и успел спеть запевала. А дальше пошло, понеслось… Голоса слились, словно рекой подхватило:
Нигде я милой не нашел…
Зуев резко поднялся.
– Засиделся я у вас. Пора восвояси.
Мне не хотелось отпускать его.
– Да куда вам?
– Нет, пора.
Пришлось мне включить свет. Зуев увидел стоявшую у меня на письменном столе фотографию. Я снялся в Москве с семьей.
– Разрешите посмотреть поближе? – сказал он и взял снимок в руки.
Он рассматривал мой семейный портрет внимательно и грустно. Затем бережно поставил его на место. Спросил:
– А у вас сынок русый?
– Совсем русый! – обрадовался я, хотя и сам не знаю почему.
– Вот и мой был беленьким. Беленький-беленький… – Зуев по-прежнему не отводил взгляда от снимка. – Сколько вашему теперь?
– Пять уже!
Наконец-то он отвел глаза от фотографии.
– Извините меня, пожалуйста, товарищ писатель. Как говорится, не бойся гостя сидячего…
– Ну что вы, что вы! Кстати, уж раз мы прощаемся, может быть, вам что-нибудь нужно в Москве? Я с удовольствием…
Он качнул головой.
– Нет, спасибо. Я сам там недавно был. Правда, домой не заходил. – Он жалко улыбнулся. – Сперва решил: зайду. Но как свернул в свой переулок, как увидал окна квартиры…
Он решительно натянул фуражку и молча козырнул мне. Я проводил его до выходных дверей и увидел, как он сосредоточенно зашагал в темноту переулка. Шлифованные плиты тротуара послушно повторяли усталый, натруженный солдатский шаг. А где-то неподалеку по-прежнему разливалось рекой бескрайней ширины:
Я в Россию воротился…
1945