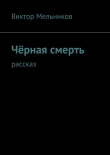Текст книги "Смерть считать недействительной
(Сборник)"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
На этом встреча закончилась, и Козаченко проводил парламентеров обратно.
Он выбрал поучительный маршрут: повел господ офицеров мимо убитого, обезображенного пытками нашего товарища. Руки его были сжаты в. кулаки, лицо разобрать невозможно. Проходя мимо, Козаченко взял под козырек. Парламентерам волей-неволей пришлось повторить этот жест. У солдата, сопровождавшего Таннергейма и Поляковского, побледнели губы, он что-то взволнованно прошептал. Но Таннергейм посмотрел на него ястребом…
Мне стало жаль этого солдата. Ведь когда он минует нейтральную зону, нас уже не будет рядом, а Таннергейм, видно, не из таких, кто воздерживается от зуботычин…
Нейтральная территория началась через несколько шагов. Мы все остановились, и Козаченко откланялся.
Парламентеры ушли гуськом. Таннергейм и Поляковский шагали на прусский манер – будто проглотив аршин, и только замыкавший шествие солдат, пройдя шагов тридцать, на миг обернулся и быстро поклонился нам…
Зря его взяли с собой господа офицеры. Не напрасно они так торопятся отвести свои войска на семь километров от нейтральной зоны: ведь солдату захочется рассказать правду о советских воинах… Что ж, он ее все-таки расскажет, наверно. Ничего, что сначала шепотом, – заговорит потом и громко!
…На другой день к вечеру, когда уже начало смеркаться, мы с Козаченко въезжали в городок Лоймолу. Ехали мы на нашем бесценном, надежном «газике». Как мы его только не называли: и «козликом», и «вездеходом», и еще сотней ласковых иронических прозвищ. Но это был верный боевой товарищ: в скольких кюветах он перебывал, сколько зон обстрела проскочил! Его ветровое стекло было все в лучистых отверстиях от пуль, борта помяты, одно из крыльев уже сменено и блестело невообразимым голубым цветом – другой краски в авторемонтной мастерской не нашлось. К заднему буферу было прикручено проволокой закопченное ведро, в котором растапливали снег для заливки радиатора на пятидесятиградусном морозе.
Сегодня я впервые услышал, как жалобно поскрипывает наш «газик». Вообще странно: не успела кончиться война, как, словно злые духи из бутылки сказочницы Шехеразады, у всех вылезли наружу болезни. У одного ни с того ни с сего подскочила температура, у другого ревматизм скрючил ноги и руки… Три с половиной месяца сражались – и никаких болезней не было, а тут сразу!
Водитель со встречной машины весело крикнул:
– Гаси фары! – Он вспоминал вчерашнее: вот так поехал бы с невыключенными – и в момент обстреляли бы. А сегодня водители включили фары еще засветло: гори, свет! Мир!
Навстречу двигались пушки. Они были разукрашены еловыми ветвями, как на праздник. Не спеша шли смешные, бородатые от инея лошади; в их гривах цвели разноцветные ленточки. Шагал какой-то батальон, первым снятый с передовых позиций. Весело, не в ногу. Кто нес винтовку на левом плече, кто на правом.
– Привал!
Но никто не лег прямо в снег, чтобы использовать десять коротких минут отдыха. Бойцы сбились в кучки, разговаривали, вспоминали все, что перенесли. Неужели правда, что кончилась война? Просто не верилось…
Вот и Лоймола.
В одном из домов уже разместился штаб какой-то части. Писаря поспешили содрать с окон полосы бумаги, наклеенные крест-накрест – от бомбежек. Но стекла еще не были промыты, и от полос оставался след.
С винтовками, зажатыми меж колен, грелись бойцы на площади у костра. Они сидели вокруг на мягких креслах, неизвестно для чего выволоченных отступавшими белофиннами на улицу. Рядом с креслами стоял также дивный рояль светлого, лимонно-желтого, цвета.
На полированную крышку падал неторопливый снег. Какой-то наш боец (судя по лире на петлице – из музыкантского взвода) смахнул его рукавом и прикрыл рояль валявшейся на мостовой бархатной скатертью. А чтобы скатерть не сдуло, он прижал ее массивным мельхиоровым блюдом, попавшим на баррикаду, должно быть, из того же дома, что скатерть и рояль, и корзинкой от авиабомбы – корзинка плетеная, ивовая, будто для редкого заморского плода.
Он поднял крышку над клавиатурой, уселся на ящик из-под патронов и мягко попробовал звук. Рояль звучал чудесно. Над городом полилось:
Легко на сердце стало,
Забот – как не бывало…
Мы с Козаченко давно уже оставили наш «газик» и бродили пешком. Козаченко подошел к роялю, заслушался. Потом спросил музыканта:
– Прелюдия?
Боец перестал играть, встал с ящика:
– Нет, товарищ старший лейтенант, «Шотландская застольная». Бетховен.
Козаченко поднял руку в поучающем жесте, – вероятно, он хотел помахать пальцем, но стаскивать варежку было холодно. По случаю мира он позволил себе выпить сто граммов сверх нормы и был чрезвычайно общителен и разговорчив. Впрочем, он и раньше не отличался нелюдимостью.
– Застольная? Нет!
На лице бойца мелькнуло удивление.
– Думаешь, я в музыке не понимаю? – продолжал Козаченко. – Пре-лю-дия! Прелюдия, говорю! Ягодки-то впереди? То-то! А ты уже «забот – как не бывало…»
Козаченко решительно снял с рояля корзинку от авиабомбы, перевернул ее и показал бойцу этикетку: «Made in England». Разобрать надпись было трудно, но это не остановило Козаченко:
– Умеешь читать? Читай! Видишь, где это сделано? То-то же! Для нас с тобой!
Наш водитель просигналил: пора ехать дальше. Козаченко водрузил корзинку на старое место и протянул музыканту руку:
– Однако, играй! Все-таки мир. Завоеванный! Играй, друг!
Лоймола
14 марта 1940 года
Ненаписанные корреспонденции

Работа корреспондента – писать корреспонденции: чего, кажется, яснее! Однако сколько на каждую написанную приходится ненаписанных! Я был на фронте с четвертого дня Великой Отечественной войны. Сразу же начал работать по специальности: журналистом, писателем. И с того же дня редакция начала требовать от меня корреспонденций, очерков, рассказов на одну-единственную тему: о наших успехах. Не просто о героизме наших людей, о величии их духа – нет, именно об успехах. А были они в самом деле или не были – все равно: требование предъявлялось одно: дай! Хоть из-под земли! Вынь и положь!
Не хочу быть задним числом умнее, чем был тогда. Нет, пожалуй, никто в нашей редакции, и я тоже не был исключением, не понимал еще в страшную годину сорок первого года, что это непрестанное требование изображения одних успехов, эта разъедающая душу и совесть показуха диктовались не только тем, что нам – армии, отступавшей в то время от самой границы, нам – бойцам, командирам и политработникам, – корреспонденции о победах были нужны как воздух, как кислород, – они ободряли, они показывали, как умело обороняются другие… Неужели и мы не сможем так же?!
И мы – те, кто делали газету, – потому и делали ее с такой неподдельной верой и страстью и так самозабвенно разыскивали повсюду хоть малейший успех, что искренне были убеждены: это народу сейчас нужнее всего. Да, порой мы раздували любой мало-мальский успешишко в выдающуюся победу, но делали это от чистого сердца, а не от желания выслужиться перед кем-то или, тем более, обмануть народ.
Я пересматриваю сейчас свои дневники сорок первого года. Нет, мы не лгали. И в этом – единственное наше оправдание, сверх того, что и гибли мы так же, как и те, о ком мы писали… Я листаю свои старые дневники.
В них не только те записи, которые впоследствии превратились в мои корреспонденции. Не реже попадаются и такие, из которых впоследствии никаких корреспонденций не родилось. Вот, например, что записано у меня в дневнике под датой 14 августа 1941 года.
14.8.41 г. Лес под Нарва-Иеыссу.
До Ленинграда отсюда – рукой подать. Когда Ленинград был еще Петербургом, царские чиновники ездили сюда на дачи…
8 августа наша редакция понесла трагическую потерю. Мы располагались в городском саду эстонского городка Тапа. Отличный, как всюду в Эстонии, сад – густой, тенистый, ухоженный. Три дня подряд прилетал к Тапа немецкий разведчик. Бить по нему из сада командование запретило, так как зенитного оружия у нас не имелось, а пулять из винтовок и пулеметов – означало только демаскировать себя: попробуй достань его из винтовки!
Когда он прилетел в четвертый раз, на него почти никто уже и внимания не обратил. Правда, команда «Воздух!» была подана, но ни один человек не спрыгнул в ровик. А он вдруг возьми да капни одну за другой четыре бомбочки…
Мы похоронили сразу трех человек из нашей редакции. Да еще двоих ранило…
Редактор в тот же день обратился в политотдел армии с ходатайством доукомплектовать редакцию, но нам прислали только одного человека: Жерихова. Он не газетчик, в армии не служил, но грамотный, как аттестовали его редактору: учитель средней школы. Он как раз только что прибыл в распоряжение политотдела из Ленинграда. Действительно, откуда политотдел достанет готовых газетчиков?
Редактор сказал: ну и ладно, вырастет на работе, тем более что не старый. И добавил, что ему первым делом надо «понюхать, что такое война». Для этой цели он и отправил Жерихова в командировку вместе со мной в нашу левофланговую дивизию. Она сейчас больше всех удалена от нас, и от нее меньше всего материалов в газете. Когда на фронте неважно, в газету всегда пишут мало…
Мне редактор дал задание – привезти «подъемный», как он выразился, очерк на тему, как стойко задерживают немцев на каком-нибудь рубеже, а Жерихов для начала должен был организовать несколько заметок бойцов, посвященных героизму и смекалке их товарищей по отделению и взводу.
Редактор дал нам задание и, кроме того, обрадовал: до штаба дивизии – он сговорился – можно будет доехать на легковой замначпоарма, который едет туда же по своим делам.
Отлично!
До штадива доехали вечером без всяких происшествий, если только не считать одного забавного эпизода. По дороге в пустом маленьком доме с выбитыми дверьми, когда мы поравнялись с ним, подозрительно залился звонок, как будто телефона. Мы моментально высыпали из машины, окружили домишко… А что, если тут обосновались шпионы?
Но когда по сигналу замначпоарма мы ворвались в единственную комнату домика, то услыхали дохрипывание будильника. Дом же оказался пуст. Его бросили поспешно, даже яичницу со сковороды не съели…
В штадиве приятно удивил полный комплект всякого полагающегося тут по штату начальства со множеством шпал в петлицах (значит, и в частях дивизии командиры не выбиты, если их еще в штабе полно!), спокойный тон всех разговоров, козыряние. Какая успокаивающая вещь – дисциплина!
Приехали мы голодные, но едва добились, чтобы нас накормили. Добивались мы, конечно, не грубо: неудобно напрашиваться! – но так как сами они не догадались, то пришлось намекнуть: дескать, так, мол, и так… Однако даже после этого нас накормили дрянно и совершенно несытно. Замначпоарма деликатно поинтересовался: что, у вас, кажется, с продуктами туговато? И вдруг мы услыхали от этих институток, что дивизия, изволите видеть, не считает позволительным реквизировать продукты (даже брошенные: чтобы потом не смели обвинять части Красной Армии в грабеже! – вот их объяснение!..). И ждут подвоза централизованных фондов…
Замначпоарма вправил им мозги: если хозяева бросили хутор – берите все, что нужно! Не раздумывая! Не оставляйте ни крошки фашистам!
Переночевав, утром мы с Жериховым отправились в полк. Замначпоарма оставался пока в подиве и потому разрешил своему водителю подбросить нас. Он очень дружелюбно – я его знаю еще по финской войне – относится к газетчикам. Как говорится: побольше бы такого чуткого начальства!..
Однако вскоре с машиной пришлось расстаться. Когда мы отъехали от штадива километра четыре, начались болота, болота, болота и редкий осинник, «эмка» не тянет ни в какую. Наконец водитель заявил (мы ж ему не начальство!):
– Всё, сгорели сцепления.
А может, он струхнул: чуть подальше впереди, как раз в том направлении, в котором мы ехали, был плотный артиллерийский огонь. Пришлось приказать ему отправляться обратно, что он выполнил лихо, несмотря на «сгоревшие» сцепления, а мы с Жериховым двинулись дальше уже пешком на КП первого полка дивизии.
Шли-шли, подходим к Айду-нымме. Это деревушка, все дома которой, выстроясь в один рядок, обращены в сторону противника – к гладкому-гладкому полю шириной километра в четыре. Поле перерезает река – ее название Пуртсе, на ней мы держим оборону. На другой же стороне этой речонки, то есть уже у немцев, возвышается огромная шлаковая гора сланцевого завода (в Донбассе сказали бы: терриконик). Это дивная наблюдательная вышка. Но, к сожалению, не наша…
Немцы крыли по Айду-нымме из минометов вовсю, мы у них были как на ладони. Метрах в шестидесяти от нас загорелся дом. Несмотря на ослепительность летнего дня, был отчетливо виден весь его каркас – так он пылал. Хотел я его сфотографировать, да обнаружил, что опять забыл фотоаппарат… Не везет мне. Никак не привыкну к фотоаппарату. Вот что значит не интересоваться этим с детства.
Ладно. Идем с Жериховым дальше. По нашему разумению (вернее, по моему – Жерихов смотрит во все глаза, но пока еще, я вижу, ничего не соображает. Ему хорошо – он уверен, что я все понимаю!..), – итак, по моему разумению, в маленьком лесочке у соседней деревушка – Айду-лыве – и находится нужный нам КП полка. Правда, Айду-лыве немец так интенсивно обстреливает, что я начинаю сомневаться: а что командному пункту делать под таким обстрелом? Чего ради он будет сидеть именно там? Местность совершенно голая…
Не спорю, – возможно, в моем сомнении какую-то роль играло и то, что неохота было соваться в самое пекло. Но и правду сказать: чего ради переть сдуру неизвестно куда? Кому нужна такая вздорная лихость?
Начинаю расспрашивать отступающих через Айду-нымме раненых: на старом ли месте КП полка? Они все движутся оттуда. Но, как всегда в таких случаях, одни говорят «да», другие – «нет».
Пока мы движемся по Айду-нымме (хотя деревня небольшая, но это долгая история: приходится хорониться от пулеметных очередей и минометных разрывов), идет и время.
Решаю: нет, дальше двигаться бесполезно, КП не мог не смениться!
Говорю Жерихову: «Нам надо возвращаться, узнать точно, где КП, – нам и в штадиве указали не точно: карта-то у меня мелкомасштабная, – и только тогда идти. Чтобы наверняка. А так – нет смысла».
Жерихов весьма обрадовался этому решению.
Мы вышли из деревни. У лесочка остановились, сели, закурили.
В это время из лесочка выезжают двое конных.
– Куда, товарищи? – спрашиваю я их.
– На КП полка.
– Первого?
– Первого.
– А кто вы такие?
– Командир взвода конной разведки полка и мой ординарец.
– Давно вы с КП?
– Ночью. На левый фланг ездили.
А время нашего разговора – 13.40.
– Поедете шагом, чтобы мы за вами поспели?
– Что ж, давайте.
Снова мы с Жериховым одолеваем Айду-нымме. Движемся быстро – кони горячатся да и всадники неспокойны: Айду-нымме просматривается немцами насквозь.
Когда наконец проскочили деревню и втянулись в маленький лесочек за нею, видим: связист артдивизиона сматывает в этом лесочке связь.
– Где КП первого полка? – спрашиваем его.
– Снялся.
– Это точно?
– Я слыхал, так. А точно, нет ли – не знаю, товарищ старший политрук, врать не хочу.
Командир взвода смотрит на нас с Жериховым с укоризною: задерживаем мы его.
Я говорю ему:
– Ладно, товарищ младший лейтенант, я вас отпускаю, действуйте самостоятельно. Пеший конному, и верно, не товарищ.
Он сразу же пустил коня карьером в глубину лесочка: мы разговаривали со связистом на опушке.
Та-а-ак… Что же нам делать?! Двигаться на поиски КП наугад? Нелепо! На старом месте его, безусловно, нет. Куда он перебрался, тоже неизвестно. Тем более что все время с тех пор, как мы с Жериховым шли, нам попадались отступающие: и целые артподразделения, и какие-то пехотные обозы, и пехота. Ответы же – обычные: «Один я, товарищ старший политрук, от взвода живой остался! Ищу вот часть свою!» Так ли, нет ли – как проверишь?.. Да и некогда нам проверять. А тут еще этот связист артдивизиона в лесочке: уж если артдивизион сматывает связь, то ясно, что КП стрелкового полка не остался без прикрытия, впереди.
Ну и положеньице… Как я объясню Жерихову, что ничего нужного газете ни он, ни я сейчас найти тут не сумеем. Все равно он подумает, что я праздную труса. А зачем мне, действительно, КП в такой сумятице? Если я и отыщу его – о какой «стойкой обороне» я сейчас там найду материал?!
Объявляю Жерихову командирским тоном, что мы возвращаемся назад.
Он, однако, полон нетерпения. Ну, что касается меня – он, должно быть, считает, что это – другое дело: мне нужно писать большую вещь – очерк, и материалы для этой цели нужны, понятно, обстоятельные. Но ему-то поручено организовать лишь несколько заметок, почему же не начать это делать сейчас? Зачем ему КП?
Приходится охладить его пыл простым контрвопросом:
– А вы знаете бойцов, со слов которых собираетесь писать сейчас? Вы уверены, что то, что он вам рассказал тут, соответствует действительности? А ведь вы это опубликуете на страницах газеты, и вам поверят! Но если вы, собрав материал вот таким легким способом, назовете какого-нибудь труса героем или наоборот, то, как вы думаете, вы этим принесете пользу или вред? А ведь сила нашей агитации – в правде. Помните, что говорил об этом Ленин?
– Но, товарищ старший политрук, – растерянно возражает Жерихов, – а как тогда вообще в боевой обстановке проверять материал?
– Просто. Если пишете с чужих слов, а не то, что сами видели, то беседуйте с человеком в присутствии его товарищей по отделению, взводу, роте. Они не дадут соврать. Или проверьте у командира, у политрука.
– Значит, никому нельзя верить на слово?
– Я вам не это говорю. Но запомните вот что: раненый всегда расскажет вам, что самое жаркое место в бою было то, где ранили именно его. Причем он и не собирался врать вам, нет, он совершенно искренне убежден в этом! А командир, возглавлявший атаку, минимум вдвое преувеличит число уничтоженных его подразделением фрицев. Вы еще привыкнете к этому.
Не знаю, убедил ли я Жерихова, но он умолкает.
А я выбираю минутку менее интенсивного обстрела Айду-нымме, зову за собой Жерихова, и мы бегом опять проскакиваем деревушку.
И снова мы в знакомом лесочке, снова курим, а я по-прежнему в раздумье: где же в конце концов добыть мне материал о стойкой обороне? Где?!
Мимо проходит пустой грузовик. Идет в тыл.
– Откуда, товарищи?
– С КП первого полка.
– КП на старом месте?
Водитель отмахивается:
– Лучше бы не задерживали нас, товарищ старший политрук. Я еду за подкреплениями.
– Но ответить-то можете?
– Дак ведь как вам ответить! Где его старое место, я не знаю, но вот пройдете в ту сторону, – он неопределенно тычет рукой, – ну и встретите его.
– А по карте показать можете?
– Нет, по карте не возьмусь.
– Хорошо, мы дождемся вас тут. На обратном пути поедем с вами. Вы здесь же будете проезжать?
– Здесь!
Он восклицает это радостно, но я чувствую: лишь для того, чтобы поскорее отделаться от нас. Он, наверно, и сам еще не знает, каким путем будет возвращаться.
Продолжаем курить. Десять минут. Пятнадцать. Двадцать.
Я в шинели да еще взял с собою полевую сумку, планшет. Земля в лесу нагрета, словно не так давно истопленная печка. Жарко, тяжко.
Полчаса.
Грузовика, которого мы ждем, нет и нет. Зато появляются сразу два других и движутся к фронту – в направлении Айду-нымме.
– Куда, орлы?
– На КП первого полка.
– А везете что?
– Тол.
Серьезный груз!
– Значит, где КП, знаете точно?
– Конечно! Не шутки везем – тол и колючку!
Действительно, второй грузовик нагружен только мотками колючей проволоки.
– Однако, говорят, КП сменился. Вы не слыхали?
– Как это могло быть! Нас бы предупредили!
Резонное соображение. Принимаю решение.
– Сели! – командую Жерихову и сам вскакиваю в кузов первого грузовика, плотно уставленный ящиками с толом.
Страшновато: случись что – мы не доедем ни до КП полка, ни даже вон до того пенечка!
Жерихов торопится за мной. Я полушутя полусерьезно предупреждаю его:
– С размаху на ящики не прыгайте, они этого не любят!
И мы движемся через Айду-нымме третий раз за день…
Минометы шпарят яростней: еще бы, две машины на улице, обращенной к чистому полю, цель неплохая. Но водитель ведет машину, не обращая на это как будто бы никакого внимания.
Мины ложатся то с перелетом, то с недолетом. Слабовата боевая выучка у фрицев!
Миновали Айду-нымме, поле за ним, еще несколько крутых поворотов, Айду-лыве… Наконец осталось только одно небольшое поле, за которым нужный нам лесок.
Но только мы въехали на это поле (шли мы на скорости километров 30–35, не больше) – из этого леска вдруг белая ракета в нашу сторону. И сразу же огонь по нашей машине из минометов, пулеметов, винтовок.
Что там, на КП, очумели, что ли?!
Я кричу в кабину, где сидит командир машины и, может быть, из-за шума мотора не слышит, что творится кругом. Кажется, я уже понимаю, в чем дело!
– Там нет никакого КП! Там немцы!
Водитель, услышав мой окрик, тормозит, все валятся на тол…
Разрыв мины метрах в двадцати пяти. Едва выпрямив спину, все бойцы, сопровождающие машину, Жерихов, я прыгаем с машины и начинаем бежать подальше. Куда угодно от нее! Тол же!
Между прочим, стадное чувство – все бегут кучей. И в рост.
Но, заметив мелькнувший впереди синий комбинезон обогнавшего меня водителя, прихожу в себя и, вытаскивая на ходу пистолет из кобуры, ору ему в спину:
– Заворачивай машину, так и так твою мать, гони назад!
Минометы бить перестали. В нас стреляют уже только одиночными.
Вспомнил я финскую кампанию, снайперов на елях и как они однажды продержали меня на снегу больше двух часов, – пришлось притвориться мертвяком, – и так мне стало тоскливо…
Не задержали мы, значит, немцев на реке Пуртсе. Так всегда: ничего не знаешь, пока носом не ткнешься!
Смотрю, где Жерихов. Нет, живой. Тоже лег после перебежки.
Из-за редких деревьев на опушке леска, к которому мы так стремились, вижу явственно силуэт танка и вспышку огня. Так вот чья пушка по нас пальнула! На танке – белый крест.
Но, слава богу, и танкист промазал!..
Водитель нашей машины – глаза у него безумные – ринулся назад к грузовику (видно, только теперь до него дошло, что я ему кричал), вскочил пулей в кабину, и машина, как цирковая лошадь, прокрутившись буквально на пятачке, скакнула назад. Да как!
Мы – за нею.
Куда там! (Водитель, видно, решил тянуть до ближайшего укрытия – рощицы.)
Бежим, пригибаясь, вслед. Пули свистят справа, слева, над тобой.
Впрочем, не очень, конечно, разбираешь, где точно они свистят, так лишь кажется.
Как всегда не вовремя, мелькнула ехидная мысль: «Интересно, где я сегодня отыщу стойкую оборону для своего очерка? Ох и мастер же наш редактор подбрасывать темочки!»
Но додумывать эту язвительную мысль было некогда – начал подстегивать быстрый сухой щелк пулеметных очередей. Я бегу, а сердце у меня, как всегда в таких случаях, отказывает. Все-таки не юноша…
Избрал ориентиром один бугорок: передохну за ним.
Кое-как сумел заставить себя взять его бегом. Когда же перевалил через него, увидел, что и другие еле дышат. Но отдыхать некогда, и я скомандовал бежать дальше, к машине.
Настигли ее метрах в двухстах.
Командир машины спрашивает меня:
– Товарищ старший политрук, что же мне делать? Как вы думаете, где теперь искать КП?
Командир машины – воентехник с одним кубарем в петлицах, щуплый, в очках, нерешительный, несмотря на свою огнедышащую фамилию, которую он счел нужным сообщить мне в этот момент, так же как и свою должность: «Пламенной, командир взвода саперного батальона дивизии».
Что ему сказать? Подумал я, подумал да и посоветовал:
– Прежде всего, я полагаю, надо вывести машину из-под огня. На ней тол, а мы шатаемся под огнем впустую. Ясно ведь, что КП сменился! Когда же вы узнаете точно, где КП, тогда и будете пробираться туда. Ни в Айду-лыве, ни в Айду-нымме узнать об этом не у кого. Значит, хочешь не хочешь, приходится возвращаться. И я бы на вашем месте поступил именно так, не боясь потом никаких обвинений!
Пламенной согласился с моими резонами. Но выяснилось, что и назад нет другой дороги, кроме открытой рокады, просматриваемой немцами насквозь.
Кто-то из бойцов предложил ломать изгороди по-за домами и проскочить затем под укрытием домишек.
Откуда только силы берутся?! – я выламывал балясины с такой мощью, какой никогда в себе не знал.
Тут к нам стали приставать раненые. Не с наших машин бойцы – у нас все оказались невредимыми, – а из других частей, шедшие своим ходом в тыл.
Кое-кто пытался говорить им, что машина и так тяжело нагружена, но я цыкнул – я все же был самый старший в звании, – и это прекратилось.
На второй машине тоже стали брать раненых: скинули с нее несколько мотков колючки.
…Вырывались мы обратно час.
По дороге, в месте более или менее спокойном (мины ложились уже метрах в ста от нас – немцы били не по нас, а просто по деревне: нас в этот момент им не было видно), орлы со второй машины увидели несколько здоровенных чушек.
– Возьмем их? – спрашивают.
– Берите, – разрешил я, – если только не задержитесь из-за этого. – Люди нашей машины ломали в это время изгородь.
– Нет, мы враз!
Вторая машина была от нас метрах в сорока. Вдруг – хлоп, хлоп! – одиночные выстрелы. Я – за пистолет, другие – за винтовки. Но видим: они свиней стреляют. Засмеялись.
Жерихов спрашивает меня:
– Зачем вы позволили стрелять свиней?
– Затем, чтобы Гитлеру не достались.
– Да нет, я не о том спрашиваю. Отстанут же люди!
– Не маленькие!
Красноармеец один – все ко мне он жался, молоденький, бледный, в руку раненный, в правую, – говорит:
– Ну и люди… Тут не знаешь, как самому выбраться, а они – о свиньях думают… Вот народ…
В глубине души я отчасти был согласен с ним. Хотя если бы сам питался так же нерегулярно, как в этой дивизии (а мы даже в штабе ее убедились, что с питанием у них дело налажено плохо), то, наверное, первый же пошел бить чушек.
Ну, ладно. Выбрались мы наконец из заварухи – уже стали попадаться стоящие на позициях легкие пушки, – вдруг Пламенной резко тормозит машину (он по-прежнему сидел рядом с водителем в кабине), выскакивает наружу. Физиономия смешная: испуганная-испуганная…
– Товарищ старший политрук, – обращается ко мне, – я забыл вас предупредить: не толкните там в кузове котелок один!
Вот чудак, нашел, о чем заботиться!
– А что в нем, – говорю ему с насмешкой, – фарфор из императорских коллекций?
Но до него не дошла моя насмешка, и он мне серьезно так:
– Нет, в нем взрыватели!
Фу, черт побери! Сколько раз мы прыгали на борт грузовика, причем прыгали и на ходу, сколько раз спрыгивали на землю, а котелок стоял у самой стенки борта! Ничего себе: «забыл предупредить…»!
А Пламенной вежливенько продолжает:
– Поставьте его, пожалуйста, поаккуратнее там.
– Нет уж, знаете ли! Держите-ка вы этот «фарфор» лучше у себя в кабине!
Тут и все вокруг рассмеялись.
Ну и шляпа!
…Только к вечеру мы получили подтверждение от других командиров, что КП первого полка, конечно, снялся со старого места (мы наскочили на отступавший артполк), но куда – артиллеристы не знали. Пламенной решил ехать обратно в саперный батальон: ведь тол и колючая проволока требовались первому полку, чтобы поставить препятствия против немецкой пехоты заблаговременно, а где уж тут было «заблаговременно»! И командование артполка, и мы нашли, что он решил правильно: не мотаться больше вдоль фронта, а вернуться сейчас за новыми приказаниями в свой саперный батальон, который, кстати, должен был находиться рядом со штабом дивизии. Мы же с Жериховым остались ночевать у артиллеристов – и у них можно было разжиться кое-каким материалом для газеты. А первый полк будем искать уж завтра.
Однако, когда мы ложились спать, Жерихов задал мне вопрос, не дававший ему, должно быть, покоя весь день:
– Товарищ старший политрук, все-таки скажите: как, по-вашему, можно считать, что я уже побывал сегодня в первом своем бою?
– Спи! – ответил я, впервые за весь день обратившись к нему на «ты». – Спи! И можешь считать, что ты сегодня впервые побывал на войне. Или с тебя этого мало?
…Таковы записи в моем дневнике за 14 августа 1941 года.
1941–1963