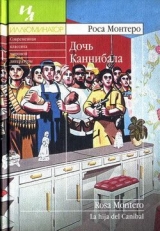
Текст книги "Дочь Каннибала"
Автор книги: Роса Монтеро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Я не видел будущего за такой жизнью. За столькими страданиями, за слепым самопожертвованием тысяч людей, нескольких поколений анархистов. Вторая война закончилась, Гитлер пал, но Франко остался; теперь анархисты совершали налеты уже на целиком французские объекты, и понемногу мы становились для наших соседей заурядными преступниками. Я это давно подозревал. Иногда я задавался вопросом: продолжаем ли мы войну по стратегическим соображениям, искренне веря в будущее, или же потому, что уже не умеем жить по-другому? Мой брат Виктор, анархист с пяти лет, боевик с восемнадцати – какую другую жизнь он мог построить в сорокалетнем возрасте? Как бы он вынес самого себя без разнузданного насилия, без порочной власти подпольного командира, без этого бальзама, оживляющего детские мечты? Но с каждым днем то, чем мы занимались, все больше теряло смысл. С каждым днем мы становились все более бесконтрольными. Все более разобщенными. Все более враждебными друг к другу. И с каждым днем нас становилось все меньше: слишком много у нас было убитых, слишком много брошенных в тюрьмы, слишком много предателей. Происходили темные истории. То с алмазами Ван Хога, которые так и не прибыли по назначению. То с боевиками, занявшимися личным обогащением и вышедшими из профсоюза. То с членами НКТ, которые приняли смерть, не пожелав принять наше поражение. Потому что на самом деле все обстояло именно так. Мы снова проигрывали войну. Только на этот раз наше поражение было окончательным.
* * *
Поскольку из-за болезни Адриана нам надо было провести в Амстердаме еще несколько дней, я спустилась вниз и спросила, нет ли в этой грязной гостинице комнат поприличнее. Есть, сказали мне, на последнем этаже имеются «апартаменты», но стоят они вдвое дороже. Я сразу же их сняла, потому что грязными деньгами надо оплачивать хорошие гостиничные номера, а не жалкие клетушки. Заставив Адриана завернуться в одеяло и преодолев яростное сопротивление Феликса, я вместе с ними переселилась наверх. Комнаты действительно были неплохие: просторные, с высокими потолками мансардного типа, с окнами на улицу. В одной из них был даже камин, рядом стояла корзинка со щепой и дровами. Туда мы поселили Адриана. Да и вообще весь переезд был затеян ради него. Мне жалко было смотреть, как он мечется в жару в той мрачной унылой комнате. Тут я призадумалась, и мне стало страшно от собственной заботливости. Это и другие мелочи, которые свидетельствовали о том, что он становится для меня навязчивой идеей, что я могу думать только о нем, едва сдерживая нежность, порождали во мне страх, что так или иначе Адриан все равно разобьет мне сердце. Ведь первая фаза любви состоит именно в этом – найти приличные комнаты в жалкой гостинице, повесить шторы (их ты сама и купила) на окна, которые много лет спокойно оставались голыми, разыскать редкие темно-красные чернила, которыми он любит писать, Короче говоря, доставать невозможное, выдумывать возможное и, главное, быть не собой. Потому что первую фазу любви проживаешь не ты, а твой двойник, другая женщина, в которую ты превращаешься.
В тот день, когда Адриан заболел, я как раз находилась в пограничной области этого безумия, почти сожранная собственным влюбленным «я», уже не похожая на себя. И хотя я застенчива, боюсь эмоций, испытываю парализующий ужас быть отвергнутой, убеждена в том, что двадцать лет разницы – непреодолимое препятствие, тем не менее я постепенно начинала проникаться тревожной уверенностью, что обязательно попаду к нему в постель или попытаюсь это сделать. Я была как пьяный, что идет по широкой, хорошо замощенной улице, посередине которой есть единственная рытвина, одна-единственная; пьяный видит ее издалека, он прекрасно понимает, что легко может обойти рытвину, но некая неустранимая сила направляет его прямо туда; подходя ближе, пьяный говорит себе: «Спокойно, я могу перепрыгнуть эту яму одним прыжком». Но что-то или кто-то внутри него повторяет: «Ты же упадешь, болван. Обязательно упадешь, оступившись на единственной рытвине». Он подходит к яме и, разумеется, падает. Вот в такой примерно ситуации оказалась я в Амстердаме. Полностью опьяненная и готовая к падению.
Я заботилась о нем, баловала, кутала, как то делала бы мать со своим сыном. Да я и могла бы быть его матерью. Но не была ею. Два дня Адриан метался в жару, а на третий проснулся свежим, поздоровевшим – антибиотики начали оказывать свое действие. Я зашла к нему, когда он завтракал, сидя в постели, на нем была белая майка с короткими рукавами, на коленях стоял поднос. Бледный, осунувшийся, он поедал пищу с жадностью тигра.
– Вижу, тебе лучше.
– Намного.
В это время пошел град; градинки стучали по стеклу, словно приветствуя выздоровление Адриана. Из окон сочился неуверенный, тусклый, какой-то липкий свет; этот холодный слабый свет разливался по полу, словно лимфа зимы. Пока Адриан заканчивал завтрак, я разожгла камин – идеальный день для настоящего огня, для того, чтобы спрятаться у очага, пока снаружи все погружается в отчаяние.
– А где Феликс?
– Он отправился в музей.
Два дня Феликс провел в приступе туристической лихорадки. Пока я возилась с больным Адрианом, он бегал по музеям, пересекал каналы, не выпуская из рук путеводитель «Мишлен». Может быть, и он заметил, что рытвина уже совсем близко. Может быть, понял, что он при нас лишний. Он бегал по улицам под беспощадным снегом и дождем так, словно под дикие завывания ветра за ним гнались волки. Я почувствовала укол совести. Но это сразу же прошло. Я забрала у Адриана поднос и села в ногах постели. Он смотрел на меня, улыбаясь припухшими губами. Улыбка была усталой, слабой, то была улыбка выздоровления, выступившей наконец испарины, телесной близости. Он улыбался так, словно мы были любовниками. Но мы не были любовниками.
Для того чтобы стали понятны мои страхи, связанные с Адрианом, и то, почему разница в двадцать лет казалась мне запредельной, стоит, пожалуй, рассказать кое о чем – просто в качестве примера, для большей наглядности.
Я принадлежу к поколению если не хиппи, то вроде того, и в свое время гордилась тем, что так легка на подъем и способна целый месяц путешествовать в одном и том же свитере, с единственной сменой белья в рюкзачке. Теперь же, когда я куда-нибудь отправляюсь, пусть всего-навсего на выходные за город, сумки у меня так набиты, что я с трудом могу застегнуть молнию. Причем речь уже идет не только об одежде и каких-то безделушках. Это бы еще куда ни шло. Нет, я стремлюсь захватить с собой все. Например, контейнер с контактными линзами, двумя разными типами физраствора и растворимыми таблетками для снятия белкового налета. Это не считая пары запасных очков для дали, еще одной пары с затемненными стеклами без диоптрий, потому что, когда я в линзах, у меня появляется светобоязнь, плюс очков с плюсовыми диоптриями, потому что теперь у меня ко всему прочему и дальнозоркость. Так, это что касается всего лишь одного из моих многочисленных органов – органа зрения.
Кроме того, я везу с собой ампулы с жидкостью, которую нужно втирать в голову, потому что у меня действительно начали выпадать волосы; и еще одну жидкость, чтобы волосы не росли там, где не надо: на ногах, переносице, над верхней губой, а то в последнее время от них просто спасу нет (однажды я перепутала и втерла первую жидкость в верхнюю губу, а вторую – в голову и после этого неделю не выходила из дому). Ну, кажется, с волосами покончили.
С кожей дело обстоит тоже не так просто. Начнем с лица: очищающее молочко, эмульсия для век, питательный крем на ночь, увлажняющий дневной крем, восстанавливающая маска раз в неделю. Теперь тело: пена для укрепления бюста, антицеллюлитный крем для ягодиц, специальный гель от старения кожи рук.
А рот? Это что-то ужасное. Теперь я ношу съемный протез, для которого имеется особая емкость. Шелковая нить для чистки нижних зубов, они у меня пока свои. Литровая бутыль антисептика для полости рта. Мазь на случай, если из-за протеза воспалятся десны. Бумажные платочки, чтобы утирать слезы (до сих пор каждый вечер, снимая протез, чтобы его промыть, я горько плачу).
И наконец, добавим сюда сугубо медицинские средства. Таблетки цистина для волос. Витамин С от всего на свете. Альмакс от гастрита. Алка-Зельцер от похмелья (нет у меня уже прежней стойкости). Аспирин на все случаи жизни. Нолотил и противовоспалительные полоскания: после той аварии верхняя челюсть у меня так и не пришла в норму. Пилюли, чтобы спать. Тонопан с кофеином, чтобы бодрствовать. Вот теперь, пожалуй, все.
А ведь могло бы быть и хуже. Если бы, допустим, пришлось захватывать еще крем для ног от грибка или мазь от геморроя. Но мне, к счастью, не нужно ни то, ни друтое. Пока.
Все эти пузырьки, склянки, бутылочки, тюбики, футляры, коробочки, флаконы, баночки, пакетики и ампулы бесстыже громоздились в ванной моего гостиничного номера в Амстердаме как напоминание о том, что живая природа во мне постепенно гибнет, превращаясь в природу неживую, эдакий натюрморт. Во всяком случае, такое было у меня тогда ощущение. Глиняная кружка на переднем плане и окоченевший труп кролика, подвешенного за уши к стене. Все эти пузырьки, склянки, бутылочки, тюбики, футляры, коробочки, флаконы, баночки, пакетики и ампулы представляли меня, мою жизнь. Старея, твой организм начинает разрушаться, и тогда предметы, вещи, эти дешевые заменители той личности, какой ты до сих пор была, мало-помалу заполняют все твое существование, все более убогое и неполноценное. Но самое ужасное, что это не только проблема плоти. Подобно тому как крем от морщин заменяет природную свежесть щек, затасканные цитаты могут заменить любопытство юности, эгоистические привычки – первое трепетное чувство, а новый автомобиль – жажду жизни. По мере того как мы стареем, мы обрастаем общими местами и вещами, чтобы заполнить образующиеся в нас пустоты. Я уныло созерцала весь этот хлам, едва умещавшийся в ванной, и думала о том, что в своем возрасте уже явно несовместима с Адрианом: в сияющей фарфоровой белизной ванной у него не было ничего, кроме электробритвы, дезодоранта, зубной щетки и пасты, напоминавших горстку отважных исследователей бескрайних полярных просторов.
Я хочу сказать, что боялась Адриана точно так же, как пьяный, направляющийся прямиком к глубокой яме, боится сломать себе шею. Но падение уже было неизбежным. Плясало пламя в камине, и мы были одни в целом мире, разделенные (или соединенные) кроватью. Я взглянула на него, он на меня. Сколько романтических сцен начинается именно так! В романах, фильмах, да и в обычной жизни тоже. Эти взгляды, полные ожидания, предвкушения, отчаянной решимости, которыми обмениваются почему-то чаще всего у дверей, будь то двери номера в отеле, твоей квартиры, дома или автомобиля. Расставание у открытых дверей, длящееся минуту, две, десять минут. И всегда эти взгляды: умоляющие, преданные, проникнутые сладостным сомнением, когда неизвестно, поцелуетесь вы в конце концов или нет. Жадные, ласкающие взгляды. Так, наверное, в мире пернатых самец смотрит на самку, когда исполняет перед ней брачный танец; так, должно быть, смотрят друг на друга бык и корова, жирафы и даже сколопендры. Это основной, изначальный взгляд, столь же древний, как знание о том, что ты смертен.
Итак, я взглянула на него, он на меня, но время шло, и ничего больше не происходило. Первая фаза любви напоминает игру в шахматы, когда ты ходишь пешкой, рискуя при этом потерять фигуру. Но какой ход будет самым верным? Я все думала, думала, пока мозги не начали плавиться. И вдруг вспомнила Лоренса Даррелла. [5]5
Лоренс Даррел – английский писатель (1912–1990), автор тетралогии «Александрийский квартет».
[Закрыть]В «Александрийском квартете» некая женщина соблазняет приятеля своего сына. Я почти не помнила сам роман, но онабыла точно мать, а он– друг ее сына. Так вот, эта женщина говорила ему: «У тебя что-то прилипло к губам. Дай-ка я сниму». И, наклонившись к нему, далеко не по-матерински проводила кончиком языка по губам юноши. И надо же случиться такому совпадению: на подбородке у Адриана я заметила хлебную крошку.
– Дай-ка сниму… – начала я, протягивая к Адриану руку, которую намеревалась использовать для начала атаки: я хотела взять его за щеку, чтобы было удобнее действовать.
– Подойди поближе! – перебил Адриан, резко приподнялся и тут же наткнулся правым глазом на мой указательный палец.
Хотя бы это нас на время соединило. Адриан взвыл от боли и схватился за глаз, я же испуганно приблизилась к нему и принялась что было сил барабанить по спине, участливо вопрошая при этом:
– Я тебе сделала больно? Очень больно? Очень-очень?
Адриан приоткрыл слезящийся глаз, который успел налиться кровью, хотя и не внушал опасений, что его обладатель останется кривым на всю жизнь.
– Пустяки. Надо его только промыть.
Он протянул руку к старой фланелевой рубашке, висевшей на стуле, но не надел ее. Я хочу сказать, не всунул руки в рукава. А сел на уголке кровати, обернул рубашку вокруг бедер и после этого выбрался из-под простыней. Я поняла, что, кроме майки с короткими рукавами, на нем ничего не было надето. Я застыла у кровати, ничего не соображая. Адриан прошествовал мимо меня в направлении ванной, завязав рубашку узлом на животе. То есть нет, не прошествовал. Дойдя до меня, он остановился. Потом повернулся и привлек меня к себе свободной рукой. И я рухнула ему на грудь, словно в копну сена. Утонула в его сухих горячих губах, в будоражащем запахе пота, страсти, желания. После первого поцелуя, первого влажного прикосновения, первых объятий мы на мгновение отпрянули друг от друга. Фланелевая рубашка валялась на полу, короткая белая майка едва прикрывала Адриану бедра. Доверчиво улыбаясь, он предстал передо мной во весь рост: руки свободно опущены, стройные сильные ноги обнажены. Юный, прекрасный, до боли мой.
Неправда, что женщины после сорока ни на что не годны. Неправда, что нас уже можно вычеркнуть из жизни. Напротив, зрелая, даже очень зрелая женщина обладает особой привлекательностью, и у нее тоже бывают свои звездные часы. Принято считать, что мужчины в годах привлекают совсем юных девушек, и действительно, в мире полным-полно счастливых пар такого рода. Но мы почему-то забываем, что точно так же зрелые женщины способны увлечь юношей. На самом деле это настолько распространенное явление, что, возможно, речь идет о естественном этапе процесса любовного взросления. В какой-то период своей жизни большинство юношей и девушек увлекаются женщинами и мужчинами гораздо более старшего возраста, чем они сами. Может, причина здесь в каком-то эдиповом импульсе, как сказали бы фрейдисты, или же в идущей из глубины веков предрасположенности к обучению: у некоторых народов из числа так называемых первобытных существует обычай, чтобы старейшины племени, мужчины и женщины, приобщали подростков к сексуальной жизни. Я не знаю, как летают самолеты, почему, когда я нажимаю на выключатель, загорается свет, для чего люди зевают и каким образом я могу запомнить свое имя, так что где уж мне понять такую безбрежную и смутную стихию, как любовь, или такую непостижимую, как желание. Я не знаю, почему все это происходит. Но оно происходит.
Несмотря на социальные запреты и предрассудки, на протяжении истории великое множество женщин вступали в отношения с мужчинами гораздо моложе себя: естественное пробивает себе дорогу сквозь условности и лицемерие, как вода сквозь мельчайшие трещины в плотине. Стоит только заглянуть в биографии знаменитых женщин, как тут же наткнешься на истории такого рода. В шестьдесят лет Жорж Санд влюблялась в тридцатилетних мужчин; Агата Кристи в сорок вышла замуж за двадцатипятилетнего; Симона де Бовуар увлекалась юными поклонниками; Элеонора Рузвельт, первая дама Америки, всю свою жизнь любила (и это было взаимное чувство) мужчину моложе ее на двенадцать лет. Этот список нескончаем: мадам Кюри, Джордж Элиот, Эдит Пиаф, Альма Малер… Поймите, их истории не исключение, не следствие известности этих женщин: наоборот, именно благодаря такой известности они стали достоянием общества, лишились покрова тайны. Да даже такой бесцветный, ограниченный и скучный человек, как британский премьер-министр Джон Мейджор, и тот, оказывается, пережил в юности страстный роман со зрелой женщиной! Достаточно взглянуть через увеличительное стекло на повседневную жизнь, чтобы понять, что мы живем тем, что запрещено. То, что официально понимается как норма, вовсе не является обычным, наиболее распространенным, – это всего лишь некий условно-обязательный стандарт. Однако если приоткрыть завесу над нашей интимной жизнью, окажется, что все мы живем не по правилам, что все мы в какой-то степени еретики.
Все это я поняла в объятиях Адриана; то было внезапное озарение. Я поняла, что он не замечает моего целлюлита и того, что у меня вставные зубы; что ему нравятся морщинки в уголках моих глаз и совершенно наплевать на то, что мои руки в предплечьях явно рыхловаты. Я поняла, что безжалостный взгляд, который буквально разделывает тебя на куски, четвертует, делает ничтожеством, – это всего лишь наш внутренний взгляд, порабощающий нас же самих своей безумной требовательностью; и что истинные желания и оценки мужчины подразумевают совсем другие вещи: жаркую плоть и холодную влагу слюны, струящийся пот, таинственный запах плоти, изнеможение покоренного тела.
Побывав в объятиях Адриана, я наконец-то начала оглядываться по сторонам и обнаружила, что на меня засматриваются многие молодые люди. Как известно, я низенького роста, да просто коротышка, хотя не могу пожаловаться на свою фигуру и лицо и считаю, что в целом выгляжу не так уж плохо. Однако я никогда не была, что называется, яркой женщиной и не пользовалась бешеным успехом у мужчин. Теперь же казалось, все они провожают меня взглядами. Юноши в автобусах, паренек в булочной, молодой водитель грузовичка, с улыбкой затормозивший перед «зеброй», чтобы меня пропустить, студенты в кафе на углу. Это открытие стало для меня праздником, неожиданным подарком судьбы; не потому, что отныне я собиралась посвятить себя совращению малолетних, а потому, что невинное кокетство и сознание того, что от твоего присутствия загораются чьи-то глаза, позволяли мне ощущать себя живой, красивой и привлекательной. Как неосмотрительны многие женщины моего возраста, готовые заживо похоронить себя среди горестей и неудач и не замечающие, что на них смотрят, не понимающие, насколько привлекательны они для молодых, не наслаждающиеся своими естественными достоинствами.
Наверное, небеса, если они существуют, – это вечно длящиеся мгновения секса. Я говорю о сексе, освященном любовью, о волнующем слиянии с другим. Если бы секс был сугубо физическим занятием, нам бы никто не был нужен: кто лучше понимает наши потребности, чем собственная рука, кто знает и любит нас больше, чем эти пять прилежных пальчиков? Онанизм не может заменить секса, потому что секс – это другое. Это значит выйти из самого себя. Остановить время. Секс – это сверхчеловеческий акт: единственная ситуация, когда мы побеждаем смерть. Слившись с другим и со Всем, мы в эти мгновенья обретаем вечность и бесконечность, становясь звездной пылью и клешней краба, раскаленной магмой и крупинкой сахара. Небеса, если они существуют, могут быть только такими.
И такие небеса были в Амстердаме в тот дождливый вечер. Гудело пламя в камине, куда менее жаркое, чем объятия Адриана. И снова его запах, его упругое и гибкое тело, гладкий живот, курчавые волосы на лобке, влажноватый пах.
– Помнишь загадку про башню? – спросил он. Я прижалась ухом к его груди, и голос Адриана звучал откуда-то изнутри, словно гулкое эхо в пещере на берегу моря.
– Вроде бы.
– Про человека, который бросается вниз с полуразрушенной башни и, пролетев половину пути, вдруг кричит: «Не-е-ет!»
– Да, помню.
– Я знаю разгадку: это конец света. Мир погиб от ядерной войны или чего-то еще, потому и башня в таком состоянии. А этот человек – последний житель Земли. Поэтому он кончает жизнь самоубийством. Но когда он летит вниз…
– … то слышит телефонный звонок.
– Точно. Значит, не один он уцелел. И не нужно было лишать себя жизни.
– Как знать. А что, если тот, кто звонил, страшный зануда?
– Ну ты и вреднюга!
Когда двое людей, только что ставших любовниками, лежат в постели и один говорит другому «ну ты и вреднюга», обычно слова сопровождаются разнообразными прикосновениями, объятиями, щипками, поглаживаниями тех или иных округлостей; все это возбуждает, и вот уже нет сил противостоять голодной боли желания, с каждым мигом все более острого, пока его не утолишь. В тот вечер в Амстердаме события развивались именно так, пока я размышляла о самоубийце с башни. Бедняга, он был так бесконечно одинок. Хотя я и посмеялась над ним, но понимала его состояние. Прекрасно понимала, потому что сейчас мы с Адрианом тоже были единственными живыми людьми на Земле. Пережившими апокалипсис. И когда наши руки и ноги сплелись и мы сами слились воедино, заложники плоти, дрейфующие в море времени, то вновь на какие-то мгновения нам в тот вечер в Амстердаме было даровано бессмертие.
* * *
Когда, вернувшись в Мадрид, я позвонила загадочному Мануэлю Бланко (на всякий случай – из автомата) и сказала, что действую по поручению Ван Хога, в трубке воцарилась непонятная тишина. Теперь-то, узнав этого типа, я очень хорошо представляю, как он подобострастно вытянулся по швам, услышав шаги старика, но в тот момент мне ничего о нем не было известно, и я даже решила, что он бросил трубку.
– Алло! Вы меня слышите?
– Да-да, слышу, – прохрипел Бланко. – Так вы говорите, что звоните по поручению… гм-м… сеньора Ван Хога?
– Да. У меня есть письмо от него.
– Письмо от Ван Хога? – чуть ли не взвизгнул Бланко. – Мне?
– Ну, не лично вам… Это, можно сказать, рекомендательное письмо…
Сказав это, я почувствовала себя полной идиоткой. Нетрудно было догадаться, что мой собеседник – один из членов мафии или что-то в этом роде, который должен связать нас с преступным миром, и вот я вдруг вылезаю с какими-то рекомендательными письмами, словно хочу получить работу на колбасной фабрике. Смех да и только, а впрочем, кто знает, какие правила приличия приняты среди этого отребья.
– То есть сеньор Ван Хог подтверждает, что мы его… его друзья.
Бланко вздохнул.
– Чем же я могу быть вам полезен?
– Мы хотели бы просто с вами поговорить. Что, если нам выпить кофе в «Параисо»? Сегодня во второй половине дня вас устроит?
Его это устраивало, и ровно в половине пятого мы встретились у массивной стойки кафе. Едва взглянув на него, я поняла, что если Мануэль Бланко и имеет отношение к мафии, то довольно отдаленное. Это был маленький плюгавый человечек, явно моложе тридцати, с напомаженными волосами и физиономией кролика. Солидный, хорошего качества костюм сидел на нем просто ужасно и, казалось, достался ему в наследство от куда более дородного родственника: рукава пиджака доходили до пальцев, а брюки нависали гармошкой над щегольскими мокасинами. Из-за этого он напоминал ряженого или бедняка, взявшего напрокат дорогой костюм, чтобы присутствовать на похоронах богатого дядюшки. Он одарил нас подобием светской улыбки и повел глазами так, словно хотел рассмотреть собственные щеки. По-видимому, он пытался придать себе значительности и смотреть на нас свысока, но, поскольку был коротышкой, ему для этого пришлось вытянуть шею и запрокинуть голову.
Мы уселись на продавленный бархатный диванчик в дальнем углу кафе, где нас не могли подслушать, и ввели Бланко в курс дела. Узнав, чего мы от него хотим, он как-то сразу перестал важничать и почувствовал себя в своей тарелке. Более того, он явно обрадовался, думаю, ему польстило, что к нему обратились за помощью как к эксперту. Или что к нему вообще обратились.
– Хорошо. Очень хорошо, – сказал он в конце, самодовольно потирая руки. – Думаю, что ты… Ты не против, если я буду обращаться к тебе на «ты»?… Ты нашла именно того человека, которые тебе нужен. Н-да… у меня большие связи. И на самом высоком уровне. Это из-за моей работы. Ведь я, знаете ли, киллер. Правда, в последнее время мне пришлось заниматься другими вещами, но настоящая моя профессия – киллер.
– То есть убийца? – недоверчиво уточнила я: да поклянись этот мозгляк собственной матерью, все равно не поверю, что он способен убить хотя бы муху.
– Ну, разумеется, не такой убийца, который орудует ножом или чем-то там еще и проливает чужую кровь. «Киллер» по-английски означает «убийца», но это не одно и то же. Я экономический киллер. Но я вижу, вам незнаком этот термин (самоуверенный смешок, горделиво вскинутый подбородок). В мире больших капиталов и крупных международных сделок, где я… гм-м… вращаюсь, киллер – это специалист по конверсии предприятий. Нужно модернизировать фирму, в кратчайшие сроки сделать ее рентабельной и уволить половину персонала? Тогда нанимают киллера. Взять хотя бы норвежскую транснациональную корпорацию «Нильсен – Ольсен». Помните программу конверсии этой компании, которая закрыла все свои очистные предприятия на территории Испании? Так вот, эту работу выполнил я.
– Разве это не дело рук некоего Сарда? – возразила я, вспомнив ужасный скандал в связи с закрытием этих предприятий и фотографии, на которых демонстранты вздергивали на виселицу куклу с надписью «Сарда» на груди.
– Да, конечно, Сарда… Но я был одним из его помощников. В общем… можно сказать, правой рукой. Работать с Сарда одно удовольствие. Это первокласснейший киллер. Я многому у него научился. Помню первое собрание работников головного предприятия в Кадисе. Оно проходило на корабле, и собралось там не меньше тысячи человек И вот выходит Сарда и начинает втолковывать им, что мир изменился и продолжает меняться с головокружительной быстротой. Что на исходе столетия и даже тысячелетия нечего рассчитывать, будто все останется по-старому. Нет, у этого Сарда язык подвешен будь здоров. Он объяснил им, что с прежними представлениями давно пора расстаться. Что нелепо гордиться возрастом предприятия, а болтать о верности традициям – тоже глупая, изжившая себя идея. Что единственно важное сейчас – коммерческие цели и потребности фирмы, это единственно реальные вещи, поскольку в сегодняшнем мире революционной конкуренции ты или достигаешь своих целей, или перестаешь существовать, это же яснее ясного. Что бы они предпочли: чтобы рентабельная и оздоровленная «Нильсен – Ольсен», способная дать работу тремстам сотрудникам, продолжала существовать или чтобы на ее месте вообще ничего не было? Таким образом, нужно было уволить множество народу. Стариков, не сумевших приспособиться к новым временам. Бездельников, которых везде хватает. А заодно тех, кто все равно оказывается лишним, не будучи ни стариком, ни бездельником. Таков уж наш мир. Он перестал быть ареной борьбы между богатыми и бедными. Вопрос заключался уже не в том, будешь ли ты зарабатывать больше или меньше денег и возрастет или уменьшится прибыль предприятия, а в том, отыщется ли свободное местечко, чтобы можно было выжить. Мир внезапно сделался для нас очень маленьким, и места для всех не хватало. Его не было для рабочих, но точно так же не было и для фирм. Важные решения уже не обсуждались на переговорах между предпринимателями и профсоюзами. Реальные технологии и беспощадный рынок – вот кто устанавливал теперь порядок в ночлежке. Все это выложил в тот день Сарда рабочим «Нильсен – Ольсен». А когда закончил, сказал: «А сейчас позвольте дать вам один совет: улыбнитесь. Улыбаться очень полезно для здоровья, тогда и работа спорится, и человек чувствует себя гораздо лучше. Прошу вас, прислушайтесь к моим словам и улыбнитесь». Я тогда был еще совсем зеленый и, признаться, подумал, что после этого нас просто-напросто разорвут на куски: мы были там всего втроем, а напротив нас – тысячная толпа. Но все обошлось. Они даже не пикнули. Стояли молча и с почтением взирали на нас. Это был кульминационный момент. Теперь, надеюсь, вы поняли, сколько пользы может принести хороший киллер. И какую силу приобретает правда, когда ее четко излагают.
– Какая же это правда? – не выдержала я, возмущенная вздорными выводами этого типчика, и тут же представила себе испуганное молчание рабочих, слушающих бредни Сарда. – Ведь в конце концов «Нильсен – Ольсен» закрыла все свои филиалы в Испании. Какие уж там триста мест на оздоровленном предприятии – они не получили ничего! Сарда просто запугал и обманул их, чтобы они не путались под ногами.
– Ну, в общем-то, киллер должен уметь в нужный момент… гм-м… несколько завуалировать правду. Это вопрос тактики и стратегии. Взять хотя бы работу, которую я выполнял уже после этого. Вот послушай: ты приходишь на дочернее предприятие какой-нибудь крупной фирмы, в данном случае все той же «Нильсен – Ольсен». Например, на фабрику, производящую клапаны для герметичных запоров; эти клапаны – ее единственная продукция, которую целиком закупает «Нильсен – Ольсен». И ты объясняешь им, что пришел по поручению норвежской компании, чтобы провести исследование уровня рентабельности фабрики, причем совершенно бесплатно, это своего рода подарок фирмы ее надежному поставщику. Все в восторге, перед тобой широко распахиваются двери, тебе предоставляют необходимую документацию и отвечают на твои вопросы. Через две-три недели ты уже знаешь эту фабричку как свои пять пальцев и можешь сказать, какие организационные просчеты были допущены, как это повлияло на себестоимость продукции и почему так высоки издержки. И тогда ты идешь к владельцу и говоришь: «Мы платили тебе три тысячи песет за каждый клапан. С сегодняшнего дня будем платить вдвое меньше – по полторы тысячи за штуку». Владелец бледнеет на глазах: «В чем дело? Почемy?» И тут для киллера наступает миг его славы, когда он может продемонстрировать свою силу – силу знания. «Потому что фабрика управляется из рук вон плохо. Вот тебе все бумаги, выкладки, расчеты рентабельности. Уволь половину рабочих и веди дело должным образом – тогда клапаны обойдутся тебе вдвое дешевле». После этих слов ты уходишь. Если владелец фабрики по натуре победитель, он перестраивает производство. Если у него психология неудачника, он ничего не делает или делает кое-как и разделяет незавидную участь некомпетентных предпринимателей. Такова жизнь, крошка.
Сказав это, он приподнял бровь, давая понять, что я имею дело с тертым калачом, и послал мне обольстительный взгляд, такой же испепеляющий, как дыхание москита.
– Как интересно. А теперь скажи: если ты столь блестяще справился с таким важным поручением, как разорение фабрики по производству клапанов, почему же ты сейчас не у дел?








