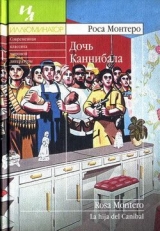
Текст книги "Дочь Каннибала"
Автор книги: Роса Монтеро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Кроме того, мы ничего толком не знали. Я имею в виду учеников тореро. Не было телевидения, по которому бы показывали корриды, и денег на билеты у нас тоже не было. Мы выходили на арену, ни разу не повидав реальной корриды, одурманенные смутными мечтами о славе, подгоняемые голодом и невежеством. Учили нас ремеслу по деревням, на базарных площадях, без пикадоров и врачей. У каждого новичка, у каждого матадора по уставу должна была быть куадрилья из трех тореро. По деревням, однако, больших сборов не сделаешь, и потому матадор-неудачник или новичок нанимал только одного настоящего тореро, одного профессионального помощника, которому платил, и парочку поросят,которыми обычно становились те, кто желал обучиться ремеслу, и на кого падали все расходы.
Вот и я в шестнадцать лет стал поросенком.Я прицепился к старому помощнику, Креспито, надежному и хорошему человеку и прекрасному тореро, и он брал меня на корриды, когда его приглашали. В сентябре первого моего года, тысяча девятьсот тридцатого, когда прошло месяца два, как я стал выходить на арену, мы с ним отправились на корриду в деревню Бустарвьехо. В нашей куадрилье был новильеро [3]3
Новильеро – тореро, принимающий участие в новильяде, корриде с молодыми бычками.
[Закрыть]Теофило Идальго, двадцати семи лет, и нам он казался глубоким стариком. Бык попался серьезный. Деревенские быки вообще были плохие, и опасность возрастала, потому что мы работали без пикадоров. Эти быки были беспородные, необученные, обычно шестилетние, весом в двадцать пять арроб, то есть в триста килограммов, ловкие и сильные, как дьяволы. Так вот, бык в Бустарвьехо попался нам серьезный. Помню, как Креспито кричал Теофило из прохода: «Аккуратней, аккуратней!» Но этот молодой человек двадцати семи лет, который казался мне стариком, не умел работать аккуратно. Бык подхватил его на рога, сбросил и нанес четыре удара. Он разорвал Теофило легкое, выдрал гениталии. Каждая из ран оказалась смертельной, а их было четыре. Он лежал на земле, как сломанная кукла. Помню слепящее солнце, солнце всегда слепит, когда кто-то ранен, даже если день пасмурный. Помню солнце, помню, что глаза у меня полузакрыты и из них струятся слезы, помню запах крови и рев публики. Корриду давали на приходские праздники, и все всегда были пьяны. Пьяны и возбуждены зрелищем смерти. Теофило отнесли в школу, которая служила импровизированным медпунктом. Его положили на шершавый учительский стол, словно кота, которого переехала повозка. Креспито на площади сказал: «Этого быка надо убить». Таков обычай, и это справедливо, зверь не смеет возобладать над человеком, он не может уйти живым с арены под подлый нож мясника. И Креспито вытащил шпагу. Женщины, сидевшие на повозках, держали меня за ворот, за плечи, за голову: «Не ходи, мальчик, не ходи!» Я ведь и правда был еще совсем мальчишка, они жалели меня, им не хотелось видеть, как бык растерзает меня так же, как Теофило. Но тут начал играть оркестр, и после того как Креспито убил быка, от нас стали требовать, чтобы мы провели следующий бой с другим быком, в случае отказа грозили посадить в тюрьму. В те времена жизнь не стоила ни гроша, даже такая страшная публичная смерть, как гибель Теофило, не изменила привычный ход деревенского праздника и не вызвала пусть на мгновение благородных чувств у пропахших пылью и потом, одурманенных дешевым алкоголем людей. Когда мы вернулись в Мадрид, Пакита сожгла в печи мой синий с серебром костюм, потом усадила меня на стул и одним взмахом ножниц отрезала мне косичку. Я не противился: сопротивляться могучей Самсонше было бы нелепо. Но уже через две недели я снова участвовал в бое быков вместе с Креспито, костюм я одолжил у знакомого, правда, мне приходилось подвязывать его веревкой.
Бык поддел Креспито на рога и сломал ему ногу в Торрелагуне в следующем году, то есть в тысяча девятьсот тридцать первом. Месяц спустя Креспито умер. Пронзив Креспито, рог быка воткнулся в деревянную повозку. Креспито было пятьдесят три года, он уже утратил былую ловкость, и потому ему приходилось участвовать в самых захудалых корридах. Некогда, в зените своей жизни, он был нарасхват, его приглашали лучшие мастера. В тот день в Торрелагуне против всех ожиданий собралось очень много народу, и потому Креспито просто не смог отступить, когда ему пришлось туго. Среди публики оказался врач, он перетянул Креспито артерии. Но я понимал – он умирает. Я отправился в Мадрид за «скорой помощью». Но в городе было всего три таких машины, и никто не согласился поехать со мной. Тогда я взял все деньги, которые у меня были, заложил костюм и плащ, Пакита добавила недостающее, и я нанял такси, большой «ситроен», положил в него матрас и поехал за Креспито. У него началась гангрена, и ему ампутировали ногу. «А бык этот остался жив», – все твердил он как заклинание. Бык действительно остался жив, его отвели обратно в загон. Креспито терпел изо всех сил, но через двадцать дней умер. «В таком возрасте…» – говорил врач, словно речь шла о глубоком старике. А ему было всего пятьдесят три! А мне уже восемьдесят, я гнию изнутри, как гнила нога Креспито.
Потом я стал настоящим новильеро, ездил по деревням, надеясь составить себе имя. Помощником у меня был опытный профессионал и прекрасный человек по имени Примитиво Руис; у него после удара рогом был свищ в прямой кишке, он подкладывал в штаны тряпки, но продолжал работать, потому что нуждался в деньгах. Однажды перед выездом в очередную деревню я зашел за ним и обнаружил, что он лежит с высокой температурой. Его страшно знобило. «Я не могу ехать, сам погляди, в каком я состоянии». Я пришел в ужас. «Ладно, я поеду один, возьму с собой двух поросят».А Примитиво, настоящий профессионал, не мог не понять, что может произойти, если на чертовой площади в чертовой деревне тореро окажется один с двумя поросятами.Он оделся, засунул в штаны свои тряпки и поехал. Тогда честь много значила.
Но не все, разумеется, обстояло так ужасно. Была не только нищета, страдание, искалеченные тела. Было и наслаждение искусством тореро, опьянение опасностью, вечно ускользающий блеск славы. Человек остается тореро все двадцать четыре часа в сутки, как уже тебе говорил. Быть тореро значило иметь талант, дерзость, наслаждаться жизнью, пока жив. А молодой тореро, да еще светловолосый, как я, привлекал внимание женщин. Помню, в тысяча девятьсот тридцать четвертом году я посвятил быка одному высокопоставленному типу, которого знал в лицо. С ним были очень представительные дамы. Когда я вернулся за беретом, та, что сидела справа, сказала мне: «Можешь выбрать, с кем хочешь переспать». Это была Адела Пуговка, знаменитая бандерша. Счастливые годы я прожил тогда. Я даже пользовался кое-каким успехом, выступал в Мадриде вместе с Паскуалем Монтеро, который тогда был в большой моде.
Для молодых людей жизнь тореро – лучше не придумаешь. Особенно между корридами, когда не надо подставляться под рога на деревенской площади. По утрам ты несколько часов тренируешься, как это делают спортсмены. В час аперитива отправляешься на Ромпеолас, в начало улицы Севильи. Там собирались и тореро, и комические актеры. Актеры с одной стороны, ближе к Английскому кафе, мы – с другой, на углу улицы Алькала. Мы изучали друг друга на расстоянии всего нескольких метров. Но мы никогда не смешивались. И они, и мы были двумя разными породами тщеславных зверей, которые соперничали во всем. Упрямые, без гроша в кармане, мы все безудержно хвастались. Помню анекдот тех дней. Сходятся двое тореро и двое актеров. Актеры спрашивают: «А вот те люди, кто они?» – «Тоже тореро». Актеры ехидничают: «Тореро! Кого ни спроси, здесь все тореро! А появись здесь бык, такое начнется!» «Ничего не начнется. Бык до нас не успеет добраться – голодные актеры его живьем съедят», – отвечают тореро. Там, на Ромпеолас, я познакомился с твоим отцом. Он был немного младше меня и вряд ли запомнил, а я хорошо помню его, потому что потом не раз видел на сцене.
Ближе к вечеру мы собирались своей компанией, и начинался праздник. Какие то были вечера! Танцоры фламенко, художники, тореро; воры и утонченные молодые аристократы; писатели и неграмотные пикадоры; проститутки, превратившиеся в прекрасных дам, и юные, неправдоподобно красивые девушки, которые вели себя как проститутки. Эти нескончаемые ночи молодости, которые с высоты моего нынешнего возраста кажутся слившимися в одну-единственную ночь.
Это была жизнь пограничная, во многих смыслах нищая и маргинальная, однако она давала возможность общаться с аристократией крови и денег. Это была жизнь почти противозаконная, без всяких условностей, но она очень подходила мне тогдашнему. Как ни странно, но почти все, связанные с корридой, в политике придерживались правых взглядов. Я притворялся республиканцем, спорил с ними, но истинные свои взгляды не выдавал, я скрывал свои анархистские убеждения. То была необходимая предосторожность: при Республике анархистов преследовали с тем же ожесточением, дело дошло до того, что в тридцать втором году Дуррути и Аскасо на несколько месяцев выслали в Восточную Африку. До высылки между отсидками в тюрьмах я тайно виделся с ними и братом, ставшим одним из руководителей профсоюза. Меня использовали только в случае острой необходимости: передать письменный приказ, который никто другой не пронес бы под носом у полиции, или вывезти товарища, находящегося на нелегальном положении, из Мадрида под видом поросенка.И как же боялись эти закаленные в борьбе активисты, когда им для вящей убедительности приходилось выходить на арену!
Помню, однажды брат посоветовал мне сходить на аукцион: «Будет весело. Сходи посмотри». Правительство Республики конфисковало печатные станки газеты анархистов «Солидаридад обрера» и в тот день выставило их на торги. Заинтригованный, я пошел на аукцион и в зале увидел человек двадцать товарищей из профсоюза. Начались торги, несколько вещей было продано, потом настала очередь печатного станка. Дуррути поднял руку и сказал: «Двадцать песет». Это все равно что ничего, чистое издевательство. Лысый торговец, который сидел на несколько рядов дальше, предложил тысячу, в следующую секунду в ухо ему было направлено дуло браунинга, торговец быстро все понял и взял свое предложение назад. Больше никто не промолвил ни слова. Тогда встал Аскасо и нагло заявил: «Четыре дуро!» Так делались тогда дела. Боевики, пистолеты… Все уже подспудно готовились к гражданской войне.
Но бывали и трогательные минуты. Я очень хорошо помню, как ездил к Буэнавентуре Дуррути перед самым концом мирной жизни весной тридцать шестого года. До этого я участвовал в корридах на юге Франции и по дороге в Мадрид заехал в Барселону, чтобы повидаться с героем моего детства. Тогда Дуррути приходилось тяжко, много лет он состоял в черном списке, работу найти не сумел, а профсоюз был так беден, что ничем не мог помочь своим лидерам. Он жил в жуткой лачуге со своей подругой Эмильеной и их дочкой Кодеттой, которой было тогда года четыре. Эмильена время от времени подрабатывала капельдинершей в кино, на эти жалкие гроши они и перебивались. Я пришел к ним со своим барселонским знакомым Жерминалем, который тоже был анархистом. Мы застали Дуррути в переднике, за мытьем посуды и приготовлением ужина для дочки и жены, которая еще не вернулась с работы. Жерминаль рассмеялся: «Что это ты по-бабьи вырядился?…» Действительно, Буэнавентура выглядел потешно в переднике с рюшками, казавшемся слишком маленьким на его бычьей груди, над которым красовалась его лохматая голова. Но Дуррути выпрямился, насупился, глаза его метали молнии. Теперь он уже был не смешным, а по-настоящему страшным и опасным. Жерминаль отступил на два шага, и даже я, который любил Дуррути как отца, заерзал на стуле. «Учись! – прогремел голос Буэнавентуры, уставившего угрожающий палец на перепуганного Жерминаля, – Когда моя жена работает, я убираю в доме, стелю постели и готовлю еду. А еще купаю девочку и одеваю ее. Если ты думаешь, что настоящий анархист должен торчать в таверне или кафе, пока его жена работает, то ты ничего не понимаешь».
Да, тогда мы ничего еще не понимали. Мы и представить не могли, какое будущее на нас надвигается, мы только беспокойно поводили носом, как собаки, возбужденные близостью дичи. Мы не знали, что скоро все кончится. Совсем скоро мы будем прощаться с анархистскими мечтами, друзьями, корридой, молодостью и веселой жизнью. Знакомый мир близился к концу.
Но тогда мы еще ничего не знали, мы были невинными, то есть полными невеждами. Голова наша была забита мелкими заботами, как то свойственно людям, всякими пустяками, так и оставшимися недоделанными из-за обрушившейся на нас катастрофы. Своей карьерой тореро я был вполне удовлетворен и уже подумывал о переходе в матадоры; к тому же тогда я впервые по-настоящему влюбился. И еще я был счастлив после долгого перерыва вновь увидеть Дуррути. Буэнавентура, казалось, тоже был рад моему приезду. После головомойки, которую он задал Жерминалю, лицо его прояснилось. Он вышел, чтобы купить вина, и, одолжив несколько яиц у соседки, приготовил великолепную тортилью с картошкой. Потом пришла Эмильена, и мы устроили настоящий пир, уплетая за обе щеки колбасу, сыр и каталонский хлеб. Дуррути слегка опьянел и был в очень хорошем настроении. «А куда же делся маленький Феликс? Ты совсем вырос! – говорил он. – Вот он, наш Феликс, настоящим тореро стал. Все это очень хорошо, но ты не забывай, что самое главное – это борьба. Борьба, солидарность и свобода. Это твой долг перед отцом и братом. И передо мной тоже, дурачок. Но в первую очередь это твой долг перед всеми бедными и обездоленными. Феликс Робле Талисман, модный тореро… Тебе всегда везло… За тебя, Талисман. Я рад, что ты приехал. Ты принесешь мне удачу, а я в ней очень нуждаюсь».
Тогда я последний раз виделся с Дуррути. Через месяц началась гражданская война.
* * *
На каждую болезнь – свое лекарство. Дни шли, от Рамона вестей не было, поэтому Феликс придумал чрезвычайный план.
– Нам надо как можно скорее ехать в Голландию.
Мы с Адрианом остолбенели от удивления. Заговаривается, подумала я.
– Я бы мог поехать один, но, думаю, тебе бы тоже следовало отправиться туда. Если хочешь, можем и Адриана взять с собой.
– Ну спасибо тебе большое, – съехидничал Адриан.
– Почему в Голландию? Зачем? – спросила я.
– Потому что это мировой центр незаконной торговли бриллиантами. По крайней мере был им в те времена, когда я занимался политикой. Я уверен, что Голландия и сейчас занимает одно из первых мест в этом бизнесе: такую колоссальную преступную империю свалить весьма непросто.
– Я ничего не понимаю. Нам-то зачем бриллианты?
– Дай мне договорить. Вы оба слишком нетерпеливы, слишком молоды. Грязные деньги в основном ходят по миру в виде бриллиантов, так их легче хранить или, в случае необходимости, перевозить. Я говорю о больших грязных деньгах, о значительных суммах, которые ходят нелегкими маршрутами. Я имею в виду наркотрафик, например, торговлю оружием и те деньги, что работают в политике. Итальянская мафия покупает своих министров и судей за бриллианты, Бриллианты используют в своих операциях ЭТА и ИРА, бриллиантами платит Каддафи террористам в тех странах, которые хочет дестабилизировать. Еще в бытность мою боевиком я узнал, что наш мир состоит из многих миров, и один из самых незыблемых и разветвленных – это мир международной преступности. Организованная преступность – самая крупная транснациональная корпорация на всей земле, где действуют строгие нормы и жесткая иерархия, а управляется она коллегиально. Она присутствует во всех странах. Вот где настоящий интернационализм, а не в утопиях большевиков и анархистов. В Амстердаме я знаю – или знал, он, быть может, умер – одного из заправил черного рынка бриллиантов. Мы поедем туда и попытаемся поговорить с ним, а не с ним, так с его наследниками, такой бизнес обычно переходит от отца к сыну. В мировой преступной иерархии высокое положение занимает группа голландских коммерсантов. Возможно, им что-то известно про «Оргульо обреро», а если нет, то они укажут, с кем из осведомленных людей в Испании нам надо войти в контакт. Ведь главное – знать, у кого спросить, как в любом министерстве. Спросишь кого надо – получишь ответ. Думаю, стоит попробовать. Поедем в Голландию и попытаемся найти моего старого приятеля.
По словам Феликса получалось, что дело это хотя и необычайное, но не очень и трудное, словно надо просто зайти в амстердамское справочное бюро, получить адрес и попасть в кабинет к лощеному чиновнику, который самым любезным образом выложит всю имеющуюся у него информацию.
– А почему бы и нет? – согласилась я. – Поехали в Голландию. Все лучше, чем сидеть без дела.
Феликс хотел сам оплатить все путешествие (у Адриана конечно же не было ни гроша, но он принял приглашение с той беззастенчивостью, с какой молодые всегда материально эксплуатируют старших), однако мне удалось убедить старика, что на эту поездку мы израсходуем остаток денег из банковского сейфа: мы взяли двести один миллион, а передали «Оргульо обреро» всего двести.
– Это не мои деньги, это грязные деньги, и они мне не нужны. Вот и надо их так потратить, чтобы отыскать какой-нибудь след.
Приняв решение, мы начали тщательно готовиться к путешествию. Мне стоило больших трудов убедить Феликса, чтобы он не брал с собой свой пистолетище, пришлось ему объяснять, что нам все равно не пронести оружие через арки металлодетекторов и рентгеновские установки в аэропортах, что пистолет обнаружат и у нас будут неприятности, поскольку у Феликса нет на него разрешения. Мой сосед сердито сдвинул лохматые седые брови – мои слова его полностью не убедили. По его реакции на мой рассказ о мерах безопасности в аэропортах я поняла, что он не летал самолетом уже очень много лет.
– Дело в том, что Маргарита, моя жена, боялась летать, ну, а потом, когда я вышел на пенсию… – оправдывался он, слегка покраснев.
Странный человек этот Феликс: с одной стороны, мудрый старый космополит, посвященный в самые потаенные секреты мира, с другой – пенсионер-домосед, который не знает даже, что в самолет с оружием ни за что не пройдешь. Хотя на самом деле, подумала я, мы все чудные, все наше нелепое трио. Феликс, который из-за старости уже как бы вне жизни, но не сдается и по-прежнему играет в боевиков; Адриан, который еще вне жизни по причине своей молодости, мальчик без руля и без ветрил, без прошлого и ясного будущего; и тем более я, Лусия Ромеро, растерянная и напуганная сорокалетняя женщина: я в самом деятельном возрасте, мне бы и жить, но я не знаю ни кто я, ни на каком свете нахожусь. У наших ног собака Фока дышала прерывисто, как двигатель внутреннего сгорания с нечищеными свечами, она дремала, счастливая и полностью убежденная в нашем всемогуществе, в том, что мы всю ее собачью вечность будем ее кормить, вычесывать и выгуливать, совершенно не понимая, что на самом деле мы всего лишь жалкие перепуганные людишки.
За окнами остальное человечество занималось своими делами, хлопотливо сновало туда-сюда, сдобно у него на то были реальные причины; люди соблюдали режим, сажали деревья, кормили детей кашей, по воскресеньям покупали пирожные, в августе уезжали в отпуска в автомобилях с прицепами. Что-то делали. Жили.
Теперь и мы хоть что-то будем делать: мы поедем в Амстердам за правдой. Потому что теперь речь шла не о Районе, не только о Рамоне. В аэропорту мне заново с некоторым трепетом пришлось пережить исчезновение Рамона; я думала об этом в самолете, притворяясь спящей, пока Феликс с Адрианом спорили, а потом в такси по дороге в дешевую мрачную гостиницу, расположенную неподалеку от квартала, где за витринами сидели проститутки. Теперь мной двигало желание проникнуть в суть правды, если вообще такая вещь существует и если у нее есть что-то внутри. Да, я хотела помочь Рамону, разумеется, если ему нужна помощь. Но еще мне нужно было знать, как случилось, что мой муж дошел до такой жизни, в чем заключалась его связь с «Оргульо обреро», кто такой на самом деле Район, с котором я прожила десять лет, почему я так легко дала себя обмануть. И такая Лусия Ромеро, живущая с зажмуренными глазами.
Утром первого дня в Амстердаме было темно, как (почему говорят «как в пасти у волка»? Бедные волки, ведь у них такие розовые языки и такие блестящие белые зубы) в подземном туалете. Стоял ужасный холод, противный снег с дождем бил в лицо. Амстердам, как всегда прекрасный, казался под свинцовым небом торжественным и погребальным. Улицы были пусты, каналы – черны и мутны, за каждым углом, казалось, могло совершаться убийство. Из гостиницы мы вышли обуреваемые мрачными предчувствиями. Во всяком случае, я так ощущала, Феликс же был оживлен и говорлив. Может быть, это нервное.
Улица Твид-Онно-Лигтвестрат находилась в двух минутах ходьбы от Рокин, главного места торговли бриллиантами. Законные торговцы держали уважаемые и почтенные фирмы; однако в тени достойных голландских ювелиров таились другие, и эти немногие в задних помещениях своих магазинов занимались совсем иным делом. Тайными миллионными сделками.
На Твид-Онно-Лигтвестрат находился известный ювелирный магазин Ван Хога, небольшое помещение с резной деревянной дверью и горделивой надписью «Основан в 1754 году», выбитой в камне и позолоченной. Прежде чем войти, мы помедлили перед небольшой витриной, где в основном были выставлены бриллианты, но также изумруды, аквамарины и рубины; красовались там и старинные драгоценности, со вкусом расположенные на красном бархате. Не было и намека на кошмарные золотые цепочки для туристов с кулонами в виде миниатюрных ветряных мельниц или деревянных башмаков, которые заполонили витрины прочих магазинчиков. Ван Хог – изысканная фирма, здесь блюли репутацию и благопристойность.
Несколько пришибленные этим зрелищем, мы вошли внутрь и остановились перед прилавком.
– Can I help you?
Свои услуги нам предложил форменный герцог лет сорока. Я говорю «герцог», потому что на нем был такой элегантный жемчужно-серый костюм, какого мне до сих пор видеть не приходилось – двубортный пиджак, сшитый из фантастической ткани, под ним голубая, в тон, рубашка и шелковый галстук, отливающий в желтизну. И все это венчала голова принца-консорта Великобритании с проницательными серыми глазами, орлиным носом и благороднейшим подбородком; обратив к нам свой вопрос, герцог вежливо склонил царственную голову. Настоящие аристократы очень великодушны…
– May I speak with Mr Van Hoog, please? Могу ли я поговорить с господином Ван Хогом? – сказал Феликс с ужасным акцентом, но весьма правильно построив фразу. Вот это сюрприз – я и не знала, что старик владеет английским.
– Господин Ван Хог – это я. Что вам угодно? – ответил герцог на великолепном английском.
– Простите, мне нужны не вы, мне нужен старый господин Ван Хог, человек примерно моего возраста. Мы старые знакомые, хотя и давно не виделись. Надеюсь, он жив, – объяснял Феликс.
– Думаю, вы имеете в виду моего отца. Он отошел от дел. И теперь никогда уже сюда не заходит. Чем могу служить? – невозмутимо ответил наследный принц.
Феликс, слегка смущенный, взглянул на меня. Что же, если дело обстоит так, то надо прыгать в омут с головой. Я видела, как Феликс готовится к прыжку, и инстинктивно задержала дыхание.
– Дело в том… Мне немного трудно начать… – заговорил Феликс, запинаясь. – Меня зовут Талисман и… Я и мой брат входили в боевые группы испанских анархистов… И много лет назад через вашего отца мы покупали на черном рынке бриллианты…
Хотя в магазине никого, кроме нас, не было, Феликс понизил голос.
– Боюсь, что вы ошибаетесь. Мы никогда не работали на черном рынке.
На лице герцога не дрогнул ни единый мускул.
– Простите, что я настаиваю, но мы с братом четыре-пять раз заключали сделки с вашим отцом. Мне поручали ездить сюда и вести переговоры с вашим отцом лично.
– Повторяю: вы ошибаетесь.
– Я ведь хочу только немного поговорить с вашим отцом. Почему бы вам не разрешить мне повидаться с ним? В противном случае мне придется искать иной путь к господину Ван Хогу. Я буду вынужден общаться с вашими соседями, рассказывать им мою историю, расспрашивать про вашего отца.
Пока Феликс настаивал на исполнении своей просьбы, мне вдруг весь наш голландский план и визит в ювелирный магазин Ван Хога показались чистым безумием. Даже если Феликс ничего не напутал (а память у стариков все равно что дырявый носок) и мы попали туда, куда и намеревались попасть, кто нас просил рассказывать эти байки наследному принцу, который, возможно, и не знал о бурных днях молодости своего отца? Но могло быть и хуже. А что, если этот роскошный торговый дом действительно и есть центр международной мафии? В таком случае вести себя столь дерзко, как Феликс, было в высшей степени неразумно и опасно для здоровья.
Я попыталась сглотнуть слюну, но во рту у меня было сухо, как в ларе с мукой.
– Что ж… – Псевдогерцог устремил свои серые глаза куда-то вдаль. – Думаю, здесь не самое подходящее место для таких разговоров. Вы бы не могли пройти со мной наверх, если это вас не затруднит, конечно?
Нас это, разумеется, не затруднило, хотя про себя я была уверена, что нас сразу же затолкают в какое-нибудь подсобное помещение, а там уж отведут душу. Однако нет, я ошибалась. Мы прошли через маленькую комнату, где стояли стеллажи с папками и кожаные кресла, и по скрипучей лестнице вслед за принцем-консортом (он предварительно извинился, что идет впереди, объяснив, что должен показать нам дорогу), поднялись на второй этаж, где из темного коридора попали в комнату. Вот там-то нам и досталось.
Точнее, досталось Адриану. Только мы вошли в комнату, как на нас накинулись двое верзил в костюмах от Армани; в мгновение ока они заломили Адриану и Феликсу руки за спину. Герцог тем временем схватил меня за шиворот. Это было так унизительно, он держал меня, как кролика за уши, почти на весу, я едва касалась пола носками туфель.
– Кто вы такие и чего хотите? – произнес он спокойно, но требовательно.
– Я сказал вам правду! – крикнул Феликс. – Мне не нужны проблемы, у вашего отца я хотел попросить незначительной помощи в одном деле. Спросите его про Талисмана и Виктора Щеголя, испанских анархистов…
Не видно было, чтобы Феликс его полностью убедил. Герцог поднял сжатую в кулак правую руку, на мгновение я решила, что сейчас он ударит Феликса в лицо. Но ему, вероятно, показалось дурным тоном бить старика, он все-таки был очень воспитанным герцогом. В общем, он развернулся на сто восемьдесят градусов и врезал Адриану по зубам. Замечательный был удар, особенно если учесть, что он практически не замахнулся, что ему приходилось удерживать равновесие, так как левой рукой он держал меня, к тому же он вовсе не казался разъяренным – принц-консорт выглядел не менее спокойным и благовоспитанным, чем раньше. Казалось, он сейчас попросит прощения у Адриана за то, что испачкал ему рубашку кровью, которая текла из разбитой губы.
Все могло бы обернуться очень плохо, но не обернулось, потому что вдруг послышался чей-то энергичный голос, произнесший несколько слов на фламандском языке. Наверно, этими словами Моисей велел Красному морю расступиться – верзилы вдруг отпустили Феликса и Адриана, герцог перестал удерживать мой ворот и отошел от меня на несколько шагов. Он свидетельствовал свое почтение ст7арику, который входил в комнату, опираясь на ходунки из металлических трубок. Это был красивый старик, облаченный в веселенький фланелевый халат в клетку, в шлепанцы под стать халату и вязаный ночной колпак, как у сказочного гнома – длинный и с помпоном. Из-под колпака виднелись непричесанные седые завитки, обрамлявшие добродушное, полное и румяное лицо. Просто Дед Мороз, который собрался лечь спать.
– Ты говоришь, анархист? – спросил старик на неважном испанском. – Один из двух братьев-анархистов? А ну-ка поглядим…
Он с трудом подошел к Феликсу почти вплотную и с интересом вглядывался в него некоторое время.
– Да, вспоминаю… Ты Везунчик?
– Я Талисман, Талисман, сеньор Ван Хог.
– Верно, Талисман. А брат твой Виктория.
– Виктор. Виктор Щеголь.
– Верно.
Он снова оглядел Феликса с головы до пяток.
– Ммм… Ты хорошо, ты хорошо. А я хромаю! Старый развалина. Тебе сколько год?
– Восемьдесят, сеньор Ван Хог.
– А мне семьдесят девять. Ну ты мерзавец!
Однако при этом он улыбался, может быть, от удовольствия, что встретил знакомого по временам своей молодости. А может быть, потому, что ему надоело сидеть взаперти и ничего не делать.
Улыбка Деда Мороза решила для нас все. Сын обменялся с отцом несколькими словами на фламандском, потом немного высокомерно кивнул нам и спустился вниз. Телохранители в костюмах от Армани превратились в услужливых официантов и подали нам печенье и кофе в тончайших чашках английского фарфора, сервировав его на столике красного дерева. Принесли даже резиновую грелку со льдом, чтобы Адриан приложил ее к разбитой губе.
Мы провели у старого Ван Хога все утро, попивая кофе с печеньем. Старик ел только вишенки, которые находились в центре этих круглых, как солнышко, печеньиц. Он пожирал вишни одну за другой, а остальное выкидывал в корзинку для бумаг. Когда эти печенья закончились верзилы официанты принесли новую порцию.
Мы подробно рассказали Ван Хогу нашу историю, и, как мне показалось, она его развлекла. Он кивал и невразумительно мычал, слушая объяснения Феликса и мои комментарии, но когда мы закончили, заговорил сам. Он рассказывал нам свои приключения во время Второй мировой войны. Как участвовал в Сопротивлении, как помогал бежать евреям. Рассказывал про своих девушек, друзей, про первые сделки. И все это на кошмарном испанском. К полудню мы потеряли всякую надежду. Он ничего не сказал по поводу нашего дела, и разговор стал иссякать. И вот старый Ван Хог закрыл глаза, голова его склонилась.
– А теперь он уснет, и все, – пробормотал Адриан, озабоченный тем, что губа его раздувалась все больше.
– Нет, я не сплю, – откликнулся старый ювелир, выпрямляясь.
Он поднял руку и что-то сказал по-фламандски одному из верзил. Мажордом-бандит вышел с угодливым видом и скоро вернулся, держа в руках китайскую лаковую шкатулку. Ван Хог вынул небольшой лист роскошной бумаги, кремовой, шероховатой, и написал нетвердым почерком:
«They only want to talk. They are my friends». (Они хотят только поговорить. Они мои друзья.)
Он подписался полным именем и приложил к листку зеленую печать, на которой была изображена круглая башня с зубцами, точь-в-точь шахматная ладья.
– Вот. Говорить будешь с…








