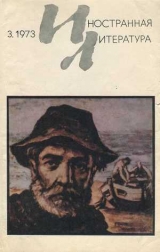
Текст книги "Одинаковые тени"
Автор книги: Рональд Харвуд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
XV
Этот дом Джанни Гриквы стоит в верхней части улицы, и шум от него слышится издалека. Друг, при мысли о Джанни и Нэнси во мне отвращение и злоба. И вот я иду, сгорбившись, против ветра и все время думаю только об этих двоих. В моей голове они огромные, как гора. Кроме них, я ничего не могу видеть, – вы меня понимаете? Эти двое! Никого, кроме них, я не вижу внутри себя.
Друг, я хочу их бить. Я хочу бить их руками и ногами и раздирать ногтями их лица, потому что они сделали со мной такое, чего не имели права делать. Да, сэр.
А ветер все крепчает. Он все время кричит мне:
– Беги отсюда! Беги отсюда!
Но прежде чем убежать, я хочу убить этих двух, и я не собираюсь слушаться ветра. Да, сэр.
Я приближаюсь к дому Джанни, и шум из него делается все слышнее. Несмотря на ветер. Друг, надо быть очень сильным, чтобы идти против такого ветра.
Я подхожу к дому Джанни Гриквы и останавливаюсь у двери. Проклятый дом! Друг, здесь начались все мои неприятности. И я прислоняюсь к стене этого дома и долго стою, потому что мне о многом надо подумать.
Этот Джанни! И этот ван Хеерден! И Нэнси! Друг, мне хочется сделать с ней что-то ужасное за то, что она сделала со мной. И тут я думаю о моей матери, о ее мертвом лице, и о плачущем Айзеке, и пляшущем Мболе, и, друг, я позволяю ветру продувать меня насквозь. Он теперь невыносимо сильный. Честное слово. Я вспоминаю мертвое лицо моей матери и думаю, что хотел бы этой ночью увидеть Нэнси такую же мертвую. Мертвую, несчастную, и никаких развлечений на потом. И я бы хотел пинать и топтать ее голую, чтобы ей было больней.
И мне слышно, как люди танцуют и смеются, и из дома доносится музыка. Я берусь за дверь, но она заперта. Этот Джанни явно чего-то боится.
Тут я вижу на двери щель для писем и заглядываю вовнутрь. Но, друг, там темно, и только полоска света идет сверху из комнаты с баром.
И я прикладываю губы к щели и кричу громче, чем ветер:
– Полиция! Спасайтесь! Полиция! Спасайтесь! Полиция! – И я опять прислоняюсь к стене и жду.
Друг, если бы вы это видели! Должен сказать вам, что мне было почти смешно, хотя я не мог думать ни о чем, кроме этой Нэнси.
Друг, дверь открылась настежь. И эти люди стали выбегать на улицу, потому что все они чертовски боялись полиции. Друг, как они бежали! А Джанни кричал им вслед:
– Не валяйте дурака! Возвращайтесь! У нас с полицией все о'кей! Не о чем беспокоиться.
И тут я вышел вперед, и встал перед Джанни, и взглянул ему прямо в глаза, и увидел, как он испугался.
– Джорджи! – сказал он.
А я молчу, только смотрю на него и хочу его убить, и он быстро, как черт, пытается захлопнуть дверь. Но я подставляю ногу, и он не может закрыть эту дверь. Он хочет вытолкнуть мою ногу, но я сильнее, чем этот цветной ублюдок, потому что я – зулус.
Я толкаю его обеими руками, и он пятится. Я вхожу в дом и отталкиваю Джанни Грикву от двери. И я хочу найти Нэнси и убить ее.
Я хватаю Джанни за его шикарную куртку и вталкиваю его в комнату с баром. И кто же там, в этой комнате? Друг, это Нэнси. Сидит как ни в чем не бывало. Ничего не делает, просто сидит. Друг, я хочу убить ее.
И я опять толкаю Джанни, и он падает на столик. И я чуть не смеюсь, когда он говорит:
– Джорджи пришел, Нэнси-малышка. Твой Джорджи пришел!
– Привет, мальчик, – говорит она. Друг, я должен сказать вам, что она совершенно спокойная, – понимаете? Совершенно спокойная и вроде бы вовсе меня не боится, и, друг, я точно хочу ее убить.
– Дай мне выпить, Джанни, – говорю я.
– Конечно, малыш, – говорит он, и идет за стойку, и наливает мне выпивки. – Ты хочешь сегодня Нэнси, а, Джорджи? Конечно. Сегодня Нэнси – твоя, мальчик. Я же тебе обещал. Да, малыш.
– Нет, – говорю я, – я не хочу иметь дела с твоей женой!
И эта Нэнси смотрит на меня, и, сэр, я вижу, что теперь она беспокоится.
– Она не моя жена, малыш! – говорит Джанни и хихикает, хотя ему совсем не весело. Это сразу видно.
– Где это ты слышал этот джаз? – спрашивает Нэнси.
– У инспектора Валери, – говорю я. – А ты, черт возьми, давай мне выпивку, да поживее!
– А кто этот инспектор Валери? – спрашивает Джанни.
– Ты знаешь лучше меня, кто он, – говорю я. – Ты это знаешь лучше меня, потому что сегодня он придет сюда и заберет тебя в тюрьму.
Друг, я знаю, что вру, но я хочу как следует напугать Джанни, – вы поняли?
– Что это за рок-н-ролл, Джорджи? – спрашивает Джанни, и видно, как он напуган.
– Мой дядя Каланга сбежал от них, – говорю я. – И я тоже. Поэтому этот инспектор зол на тебя, Джанни. Еще как зол!
– Джанни, надо сматываться, – говорит Нэнси. Но она совсем не напугана так, как Джанни. Да, сэр. Нисколько не напугана. Она спокойна.
– Замолчи! – говорит Джанни, и сразу видно, что он не знает, что ему делать.
Он выходит из-за стойки и хочет подать мне выпивку. Но одна рука у него за спиной, а я не доверяю этому Джанни Грикве. Да, сэр. Он подходит ко мне и протягивает мне стакан. Друг, я знаю все эти штуки. Я тоже хожу в кино. Поэтому я хватаю его за запястье, и из-за его спины вылетает другая рука, и в ней нож. Друг, это очень длинный нож, но я не боюсь, потому что я сильней, чем этот Джанни Гриква.
И он наступает на меня так медленно и держит нож прямо перед собой.
– Тебе будет больно, Джорджи, – говорит он. – Мне не нужны зазнавшиеся бездельники вроде тебя.
Он, может, в одном шаге от меня, и я отскакиваю к стене, где стоят стулья и столики, и жду. Он подходит ко мне медленно, но верно. Подходит.
И тут, друг, он прыгает. Но у меня в руке стул, и я бросаю в него стулом. Стул бьет его по ногам, и он падает лицом вниз, и нож выпадает из руки и летит по полу. Теперь прыгаю я и хватаю этот нож, пока Джанни пытается подняться.
– Сегодня ты никому не сделаешь больно, – говорю я. – Потому что ты не останешься в живых и не сможешь ничего никому сделать. Друг, я тебя убью!
И Джанни становится на колени и говорит:
– Послушай, Джорджи, я дам тебе денег. Много денег. Больше, чем ты себе можешь представить, малыш. Я дам тебе десять фунтов.
– Послушай, Джорджи, – говорит Нэнси. – Пойдем со мной наверх, а? Пошли. Мы можем кое о чем поговорить, как, Джорджи? Ты и я в постели, а?
– Замолчи ты! – говорю я. – Замолчи, потому что я не хочу иметь с тобой ничего, потому что я и тебя убью.
– Послушай, Джорджи, – говорит Джанни. – Ты получишь от Нэнси все, что захочешь, малыш. В ней такой джаз, в этой Нэнси. И послушай, сынок, если этот инспектор Валери придет сюда и найдет нас мертвыми, друг, он же повесит тебя за убийство.
– Он все равно повесит меня, Джанни, потому что сегодня я был на митинге. Поэтому, друг, пусть меня повесят и за митинг, и за убийство.
– Джорджи, – говорит он, стоя на коленях. – У меня есть автомобиль. Мы все можем сбежать, что скажешь? Все трое. И ты можешь делать с Нэнси все, что захочешь. Согласен? Прошу тебя, Джорджи.
– Я не согладен, Джанни, – говорю я. – Я не хочу уезжать с тобой в автомобиле, потому что от тебя скверно пахнет и потому что ты хочешь, чтобы меня повесили. Лучше уж, друг, я тебя убью. Поэтому замолчи!
Ох, друг, этот Джанни! Все время, что он говорил, он медленно так подвигался к столику, на котором стоят бутылки. Я его знаю. Он хочет разбить бутылку и изрезать мне лицо. Но я вижу, что он делает. Я все вижу.
– Держись подальше от этих бутылок, – говорю я. – Поднимись и встань рядом с Нэнси.
И он делает, как я сказал, потому что у меня в руке нож.
Друг, этой Нэнси есть во что нарядиться. Друг, я не слепой и вижу, какое на ней платье. В обтяжку. И с вырезом. Все видно. И мне хочется сорвать с нее это платье и разорвать его на тряпки, потому что я в ней все ненавижу. Да, сэр. Она – сплошная неприятность.
Джанни подходит к стулу, на котором сидит Нэнси, и видно, как он испуган.
И вдруг дверь сзади меня открывается, и я оглядываюсь. И Джанни бросается на меня прежде, чем я успел увидеть, кто вошел. Он старается вырвать у меня нож, но где ему! Он слишком жирный. И мы боремся из-за ножа. Он обеими руками вцепился в мою руку с ножом, так что другая рука у меня свободная. И я бью его в зубы тыльной стороной ладони. Он отпускает меня сразу же.
И я бью его еще раз, два, может, три. И он падает на пол и начинает плакать.
Теперь я оглядываюсь и вижу, что в дверях стоит Фреда. Стоит и смотрит. И ничего не делает.
– Ты спала с белыми полицейскими? – говорю я. – Убирайся отсюда, да поживее, не то я убью и тебя. Брысь! – говорю я, и она уходит.
Тут я кладу нож на стол и подхожу к Джанни. Он лежит на полу, и я поднимаю его и бью его изо всех сил, так, что моей руке становится больно, это я вам говорю. И этот Джанни уже не плачет.
Он просто падает на пол и не шевелится.
Нэнси по-прежнему сидит на стуле и ничего не делает. И я поворачиваюсь и иду к ней. Она встает и пятится в угол комнаты рядом с баром. Я не отстаю от нее, друг, потому что хочу ее убить.
Я совсем рядом с ней, и я смотрю на нее. Но она меня не боится, и мне это не нравится. Я хочу, чтобы она боялась. И я бью ее по лицу. Не слишком сильно, но все-таки сильно. И знаете, что она делает? Она плюет в меня. Черт бы ее побрал! Друг, этого с меня достаточно. Я хватаю ее за вырез платья и дергаю изо всех сил, и слышно, как рвется материя. Под платьем на ней ничего нет. И, друг, она падает и начинает визжать, но я сижу на ней и срываю с нее платье. Потому что я зол, и ненавижу ее, и ничего не замечаю, кроме этого платья.
И вдруг, сам не знаю почему, я останавливаюсь. Просто останавливаюсь и гляжу на нее. Платье на ней все разорвано, и на спине царапины, где я задел ее ногтями. Но я просто смотрю на нее и больше не хочу ничего делать.
А она смотрит на меня и во всю мочь кричит:
– Убивай меня! Убивай! Черный зулусский ублюдок! Убивай! Воткни в меня нож!
– Я не буду убивать тебя, Нэнси, – говорю я. – Я возьму этот нож и порежу тебе лицо, чтобы ни один мужчина никогда не захотел спать с тобой.
И она смотрит на меня и молчит. Поэтому я говорю:
– Да. Я изрежу твою черную кожу до крови, и ни один мужчина на тебя не обратит внимания.
Друг, она смотрит на меня, и, должно быть, я очень страшный, потому что глаза у нее делаются все шире и шире. И тут она плачет. Да, сэр. Она напугана. Напугана. Больше мне ничего и не нужно. Нэнси напугана и плачет. И я встаю, и ухожу из этого проклятого дома, и слышу, как Нэнси плачет.
XVI
Я не знаю, куда мне идти. Я выхожу из этого дома, и снова бегу, и не знаю, куда мне бежать. И еще мне надо держаться подальше от освещенных улиц, потому что, само собой разумеется, эти полицейские давно меня ищут и, если я покажусь на свету, они тотчас меня сцапают. Я это знаю.
Если б я мог вернуться к мастеру Абелю! Он бы, конечно, меня не выгнал, но разве можно насылать неприятности на такого хорошего человека? Друг, если бы я вернулся, тотчас же нагрянула бы полиция и у него наверняка были бы неприятности. Нас обоих посадили бы в тюрьму и, может, повесили.
Я все думаю о моей комнате с новой кроватью. Мне хочется лечь на эту кровать и заснуть. Просто заснуть. Я устал от всей этой беготни. И вообще, друг, слишком много случилось со мной за один этот вечер. Короче говоря, я устал. И когда я думаю о том, что сказала мне Мария, мне становится страшно.
Я снова бегу и при этом стараюсь придумать, куда бы мне спрятаться. А юго-восточный ветер по-прежнему дует мне в грудь, и против ветра бежать очень трудно.
Пит. Вот кто. Друг, он может спрятать меня в своей комнате. Я могу влезть в его окно с улицы и, может, пробуду у Пита неделю-две, а потом пойду куда-нибудь еще. Не знаю куда. Но сначала надо добраться до Пита, а потом уж подумать.
И вот я то иду, то бегу в сторону Си-Пойнта. А это далеко, друг. Может, четыре или пять миль. Я двигаюсь по-скаутски, как когда-то учил меня мастер Абель. Пятьдесят шагов иду и пятьдесят бегу. Стало быть, я иду, и бегу, и считаю шаги, и это выходит дьявольски быстро.
Может быть, в половине второго я добираюсь до отеля «Океан». Я тяжело дышу, и сердце во мне стучит, как барабан.
На улице нет никого, все тихо, только ревет ветер. И я подхожу к отелю и тихонько стучу в окно. От Пита ни звука. Я стучу, может, три или четыре раза. Наконец он подходит к окну, и окно медленно приоткрывается.
– Кто здесь? – спрашивает Пит.
– Это я, – говорю я. – Джордж Вашингтон Септембер.
– Джордж Вашингтон, – говорит он. – Порядок! – И он зевает.
– Впусти меня, – говорю я.
– Конечно, – говорит он. – Влезай. Ух! – Друг, как он зевает! Может проглотить.
Я влезаю в его маленькое окно и стараюсь не шуметь, потому что, если меня услышат, наверняка будут неприятности.
– Джордж Вашингтон. Порядок! – говорит Пит.
– Послушай, Пит, – говорю я. – У меня неприятности.
– Неприятности? Ух! Это скверно, Джордж Вашингтон, это скверно!
– Послушай, Пит. Спрячь меня на день-другой, а?
– Какие у тебя неприятности, Джордж Вашингтон?
– С полицией.
– Ух! Да, сэр. Это явно скверно. Ух!
– Ты меня спрячешь, Пит?
– Неприятности с полицией – это неприятности на миллион долларов. Факт. Ух!
– Так ты меня спрячешь?
– Эта комната мала для двоих. Очень мала. Да!
– Друг, я могу спать на полу. О’кей?
– И на полу в этой комнате мало места, друг. Ух!
– Может, только дня два, а?
– Два дня – немалое время. Друг, неприятности с полицией это скверно. Да!
– Ну так на одну ночь, как, Пит? Пит, ты – мой друг, ты это знаешь. Ты должен мне помочь. Эта полиция точно меня повесит. Можно я у тебя переночую, можно, Пит?
– Нельзя, Джордж Вашингтон. Нельзя. Эта комната явно мала для двоих.
– Но, Пит, – говорю я, и снова мне становится страшно, – ты же мой друг.
– Из-за чего у тебя неприятности, Джордж Вашингтон?
– Я был на митинге дяди Каланги. Если полиция сюда придет, ты скажешь, что не видел меня. Понял?
– Неприятности с полицией – это неприятности на миллион долларов. Факт. Ух!
– Так я могу у тебя остаться?
– Эта комната мала для двоих. Мы не поместимся. Да, сэр. Ух!
– Так я пойду, – говорю я. – Так мне идти? – спрашиваю я.
– Прощай, Джордж Вашингтон. Рад был тебя видеть. Прощай.
И я вылезаю обратно на мостовую, и Пит закрывает за мной окно и быстро гасит свет. Я опять один на ветру. И вокруг ни души.
Я иду к набережной, потому что не знаю, куда мне идти и что делать. Часы на соседней колокольне бьют два раза.
Церковь! Да, сэр. Конечно же. Священник Дональд Сэндерс. Этот божий человек примет меня и спрячет, потому что он хочет, чтобы я в воскресенье пришел в его церковь, и я точно туда пойду, если он меня спрячет и меня не повесят. Я непременно пойду в воскресенье в церковь.
Я знаю, где находится эта церковь, потому что, когда едешь в город, автобус проходит мимо нее, но я не очень-то представляю, где живет этот священник. Он же не может жить в церкви. Да, сэр. Он не может в ней жить.
Проклятый ветер! Друг, на набережной из-за этого ветра просто невозможно устоять на ногах. И море сегодня очень шумное, потому что оно тоже не любит этот ветер. Как и я. Друг, мимо меня проехал автомобиль, но я даже его не слышал из-за шума, который подняли море и ветер.
И я даже не спрятался, когда мимо меня проехал этот автомобиль, хотя у него были зажженные фары. Друг, я люблю темноту, потому что она того же цвета, что я, и надежно меня укрывает. А темнота сейчас густая. Настоящая темнота.
И вот я иду к церкви и думаю: может быть, помолиться перед ней, прежде чем входить и искать этого священника. Я не буду молиться в самой церкви, потому что, друг, нам не позволяют молиться в церквах для белых. Не то чтобы это было незаконно, – вы меня понимаете? Нам просто не позволяют.
Я уверен, что этот священник мне поможет, потому что он за свободу, как мой дядя Каланга. Друг, может, они его уже повесили, потому что они все равно его повесят, и он скоро увидит мою мать и, может быть, Иисуса. Но я не уверен, что он увидит Иисуса, потому что он как-то мне говорил, что никакого Иисуса не было. Но, друг, с чего он так это решил, – вы меня понимаете? Друг, этот мой дядя говорил, что если Иисус – Бог, то отчего Он не поможет африканцам вроде меня. И я не знаю, правда, почему? Я вам говорю чистую правду, что это слишком трудный вопрос, чтобы так легко на него ответить.
Эта церковь кажется очень холодной в темноте и на ветру. Справа рядом с церковью – маленький дом, и я понимаю, что священник должен жить здесь.
И я открываю калитку и вхожу во двор, который похож на кладбище, только без могил, и это о'кей, потому что я очень боюсь могил. И я стою во дворе под деревом и молюсь.
– Иисус, если Ты есть, помоги мне, прошу Тебя, баас, потому что мне страшно и потому что, сэр, мне нужна помощь.
Все время, что я молюсь, я думаю, как здесь холодно и как бы мне хотелось быть дома, лежать на моей новой кровати и говорить обо всем на свете с мастером Абелем.
И я медленно направляюсь к домику и смотрю на окна. На всех окнах – решетки, потому что люди боятся, что подонки их могут ограбить.
Но одно окно открыто, и я подхожу к нему и останавливаюсь. Я слышу, что в комнате кто-то дышит во сне. Поэтому я стучу по стеклу. Зажигается свет, занавеска отодвигается, и женский голос спрашивает:
– Это ты, Дональд?
– Мадам, прошу вас, не пугайтесь, – говорю я.
И я вижу, что в окне стоит европейская женщина. А она вскрикивает.
– Прошу вас, мадам, не бойтесь, – говорю я.
– Чего тебе надо? – говорит она. – Уходи отсюда! Убирайся! Кыш!
– Пожалуйста, мадам, мне нужно видеть священника Дональда Сэндерса. Вы его знаете?
– Его нет дома. Уходи.
И она задергивает занавеску и выключает свет.
– Прошу вас, мадам, мне нужна помощь. Мне нужно видеть священника, – говорю я.
Из темноты я слышу ее голос:
– Ты опоздал. Этим утром его забрала полиция. Уходи, несчастный.
И я слышу, что она плачет. Это я слышу.
О Боже, куда мне идти? Мне некуда идти. Сам священник в тюрьме. Его посадили туда за то, что он хотел, чтобы мы пришли в его церковь. Я это точно знаю.
Пит не хотел меня спрятать. Священник не может меня спрятать. Я не могу вернуться к мастеру Абелю, потому что он мне друг и я не хочу насылать на него неприятности. Боже, идти мне некуда. Может, разве к Полине. В ее большом доме прислуга живет во дворе, и никто не услышит, как я войду. Может, она меня спрячет. Эта Полина в красной юбке.
И я опять иду и бегу. Мне плохо, – вы меня понимаете? Мне плохо внутри из-за холода, ветра, темноты и всего, что со мной случилось. Друг, кажется, что ничего этого не было. Митинг, и полиция, и моя мертвая мать, и все, что рассказала мне Мария. Друг, я в ловушке. Утром они меня схватят и точно повесят. Все равно в это нельзя поверить. Но, друг, я здесь на холоду и ветру именно потому, что все это было на самом деле. Как же иначе?
Во дворе у Полины темно, как везде, и ветер подхватывает мелкие камешки и швыряет их прямо в лицо, и это больно.
Я стучу и стучу, и, наконец, Полина открывает дверь.
– Убирайся, бездельник, – говорит она.
– Полина, у меня большие неприятности. Спрячь меня. Прошу тебя, друг.
– Убирайся. Я не могу тебя прятать. Убирайся.
И я понимаю, что она меня не спрячет, и говорю:
– Дай мне чего-нибудь поесть, и я уйду. Прошу тебя, я очень голодный. Пожалуйста.
– У меня нет для тебя ничего, дурак. Убирайся. Подожди. Вот кусок хлеба. А теперь иди. Чертов дурак, разбудил меня.
И она дает мне кусок хлеба, маленький кусок, и закрывает дверь, и я слышу, как она говорит себе:
– Чертов дурак. Чертов дурак. Бездельник.
Я прижимаю к груди кусок хлеба, словно это ребенок. Я прижимаю его так, как будто я люблю его, сам не знаю почему. И я смотрю на небо, а там луна по-прежнему гонится за звездами.
И я опять иду, не знаю куда. Просто иду. И я ни о чем не думаю, потому что мне не о чем думать. Я просто иду и слушаю, как ветер хлопает моими брюками.
Неожиданно я понимаю, что я на Верхнем шоссе и что я уже начал взбираться на гору. Когда ты совсем рядом с горой, как я сейчас, ты не видишь ее вершину. Но я взбираюсь на гору. Не знаю зачем. Я просто взбираюсь на гору, которая называется Львиная голова и находится на Си-Пойнте.
Я лезу выше и выше, ноги я уже сбил и руками цепляюсь за ветки и камни. На горе очень страшно, потому что кусты ходят ходуном, а травы свистят. На этой горе легко напугаться.
Ноги у меня еле идут, сердце громко стучит, и я чувствую вкус крови в горле, но все равно я лезу выше и выше. Я лезу к нашему шалашу. К шалашу, который много лет назад мы построили с мастером Абелем. Нужно потянуть за шнурок, и упадет веревочная лестница, и ты можешь залезть по ней в наш шалаш.
Я даже не думаю, что, может, его давно там нет. Но он оказывается на месте. На вершине двух деревьев возле высоких скал. И вокруг одного дерева обмотан старый грязный шнурок, и я тяну за него, и, как когда-то, сверху падает лестница прямо мне на голову. Черт бы ее побрал!
И я забираюсь в шалаш, по-прежнему прижимая к груди хлеб, и падаю на пол, и лежу, и я чувствую кровь во рту, и слышу стук сердца, и стараюсь дышать быстрей, чтобы не умереть.
Я ломаю хлеб и ем его, и он с трудом проходит в мою глотку.
Я трясу головой, чтобы прогнать все мысли, и начинаю плакать. Я плачу, как маленький.






