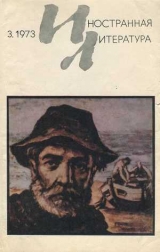
Текст книги "Одинаковые тени"
Автор книги: Рональд Харвуд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
IV
Суббота это половина рабочего дня, как они выражаются, – вы меня поняли? И, друг, у меня она тоже половина рабочего дня, разве что мне приходится сидеть дома до половины третьего в эту субботу, потому что мастер Абель ушел туда, куда евреи ходят по субботам, и что-то запаздывает к обеду.
Стало быть, друг, я навел в доме чистоту и сижу у себя и жду, когда возвратится мастер Абель, чтобы потом поехать к моей матери, а она живет в Вудстоке, до которого от Си-Пойнта на автобусе надо ехать, может быть, целых полчаса.
Каждую субботу я навещаю свою мать, только в некоторые субботы не навещаю, потому что, друг, я должен сказать вам, что эта моя мать – пьяница и скверная женщина, потому что она темная, необразованная зулуска. И я должен сказать вам, что иногда мне совсем не хочется к ней ехать, потому что она пьяная с пятницы и потребует, чтобы я купил ей выпивки на субботу, и иногда мне совсем не хочется этого делать, – вы меня понимаете? И, друг, я должен сказать вам, что она прибирает в европейских домах и получает, может быть, два фунта в неделю, только к субботе от этих денег не остается ни пенса, потому что она слишком много пьет. От этого пьянства она совсем постарела, а ей, может быть, всего пятьдесят. И мне не нравится этот мужчина Айзек, который всегда с ней, потому что он жирный, цветной и всегда пьяный. И этот Мбола тоже всегда там, а он гадает на опавшей листве и всякой всячине, и я его боюсь, потому что Мбола – колдун, а это тоже незаконно, и я не хочу получать неприятности из-за этого типа. Нет, сэр. А моя мать любит этого Мболу и верит всему, что он говорит, а я говорю ей, чтобы она ходила в церковь и верила в Бога, в которого я сам иногда верю, только иногда я верю и этому Мболе. А этот Айзек – он всегда смеется, потому что он подонок и ни на что хорошее не годится.
Я сижу и пишу, и тут входит толстая Бетти и говорит:
– Проклятый бездельник!
– Уходи, – говорю я. – Чего тебе надо?
– Ты проклятый бездельник, – говорит она. – Телефон звонит и звонит, а тебе хоть бы что.
– Я не слыхал никакого телефона, – говорю я. Потому что я сидел, и писал, и ничего не слышал.
– Так вот, – говорит она, – он звонил и звонил, и мне пришлось самой снять трубку, проклятый бездельник.
И, друг, я должен признаться, я обругал ее нехорошими словами.
– Не смей ругаться, зулусский бездельник! Это не мое дело подходить к телефону. Я кухарка, а не слуга. И вообще не ругайся, не то я скажу мастеру Абелю, и он выкинет тебя на улицу, ты, подонок!
И, друг, я должен признаться, я опять обругал ее.
– Слушай, проклятый болтун, я не собираюсь терпеть твоего нахальства, ты меня понял?
Друг, я устал от нее и говорю:
– Выкладывай, что там было по телефону, и замолчи!
– Это звонил мастер Абель, он сказал, что не вернется к обеду, потому что будет обедать в другом месте и останется там ночевать, так что ты свободен и завтра утром, и еще он сказал, что ты – проклятый нахал.
– Так и сказал?
– Да.
– Он сказал, что я нахал?
– Да!
– Послушай, – говорю я разозлившись, потому что знаю, что мастер Абель не скажет, что я нахал. – Послушай, – говорю я, – ты врешь как сивая кобыла. Убирайся отсюда, пока я не дал тебе по твоей толстой заднице. Убирайся!
И я должен сказать вам, что эта чертова ленивая толстая Бетти убирается, потому что знает, что я дам ей по толстой заднице, если она будет слишком долго торчать в моей комнате, потому что она знает, что я терпеть ее не могу.
Я надеваю свою лучшую тропическую куртку, которую отдал мне мистер Финберг, и мне очень нравится эта куртка, потому что она голубая и в ней не слишком жарко на солнце, которое светит все время. И, друг, в красной рубашке, голубой куртке и черных брюках я выгляжу очень красиво, как и подобает образованному зулусу. И я запираю все двери и окна в доме, и я уверен, что мастер Абель не говорил, что я нахал, потому что он мне друг, а эта Бетти все время врет и, наверно, ворует вещи и к тому же сама нахалка.
И я выхожу из дому и иду к автобусной остановке, и вижу, что по другой стороне улицы к той же автобусной остановке шагает Бетти, потому что мне надо в Вудсток, а ей в Роузбэнк, а это в одну сторону, только ей дальше. И, друг, она меня прекрасно видит, только делает вид, что не видит. И на ней грязное коричневое платье, в котором она выглядит толстой, страшной, ленивой косой, какая она и есть на самом деле.
Мы входим в один и тот же автобус, только не говорим друг другу ни слова, и нам приходится сесть рядом на скамье для неевропейцев, и, друг, мне это не нравится, я это вам говорю, потому что терпеть не могу эту Бетти.
И я рад, что схожу у Вудстокского муниципалитета, и оставляю ее в автобусе, и иду навестить мою мать, которая живет на Столовом шоссе. Там живут только неевропейцы.
Дом моей матери – всего одна комната, – вы меня понимаете? И, друг, какая тут грязь! Поверьте мне. И в этой грязной комнате всего одна кровать, такая же, как у меня. Я привез ей эту кровать с распродажи. И я говорю вам, что моя мать и этот Айзек спят вместе на этой кровати, а это меня сердит, потому что Айзек – дурной человек.
Я вхожу в этот дом, и поднимаюсь по лестнице, и стучу в дверь, и вхожу в комнату, а в ней ужасный запах, и я не знаю, что они там делали.
И в этой комнате на полу сидит Мбола, который такой же зулус, как я, только старый, словно гора. А перед ним лежит белая человеческая кость, и он смотрит на нее не отрываясь. А в углу сидит моя мать и спит. Айзека в комнате нет, и это уже хорошо. И в комнате темно и почти ничего не видно.
И когда я вхожу, Мбола смотрит на меня, и, друг, его лицо все в морщинах и там, где глаза у меня коричневые, у него белые – вы меня поняли? И я боюсь этого Мболы.
– Ух! – говорит он, как собака, готовая укусить.
А я смотрю на мать, а она не шевелится.
– Ты зулус? – спрашивает Мбола. – Ты зулус, а?
Я должен сказать вам, он знает, что я зулус, потому что он много раз до этого видел меня в этой комнате, но он спрашивает «ты зулус?», чтобы меня напугать, только меня нельзя напугать, потому что, друг, всякий сразу увидит, что я зулус.
– Ты знаешь, что я зулус, – отвечаю я.
– Да, – говорит он, – ты зулус.
И я подхожу к моей матери и пытаюсь ее разбудить, а от нее разит бренди, друг, и я не знаю, где и как она достает бренди, и я не могу ее разбудить, потому что она спит слишком крепко.
– Не буди ее, – говорит Мбола. – Она спит сном страха. Перед тем как заснуть, она видела, что ее хотели забрать демоны и злые духи и она боролась и убила их всех, и теперь она спит.
И я знаю, что злые духи опять нападали на нее, потому что я чувствую их запах в комнате и потому что после бренди она всегда борется с чем-то в воздухе и сходит с ума, это я вам говорю.
– Садись, – говорит Мбола и указывает на пол рядом с собой, и, друг, надо делать все, что говорит этот человек, только не знаю почему, – вы меня поняли?
– Зулус, ты знаешь эту женщину? – спрашивает он и указывает на мою мать.
– Да, сэр, – говорю я. – Это моя мать. Честное слово. Я знаю ее. – И я стараюсь улыбнуться, но, друг, не могу.
– Да, – говорит он и молчит, может быть, целую минуту. Потом он говорит – Ты плохой сын. Ты покупаешь этой женщине дурную выпивку. Европейскую выпивку.
– Нет, сэр, – говорю я, – нет, сэр!
– Да. – И он опять умолкает.
И, друг, я говорю вам, что в комнате этой темно, и солнце в нее не заглядывает, потому что окно упирается в стену, и комната эта маленькая и грязная, и ничего в ней не видно, кроме белой кости, которая лежит перед Мболой, да еще его белых глаз.
– Ты плохой зулус, – говорит Мбола, – когда белого человека прогонят в море, откуда он и пришел, тебе придется уйти вместе с ним, потому что ты злой и жадный.
Друг, должен сказать вам, что эти слова мне не нравятся, и если бы здесь был мастер Абель, он бы нашел, что на них ответить.
– Твоя мать – хорошая женщина, а ты – плохой сын. Вот и все.
Должен сказать вам, уж я-то знаю, что моя мать – нехорошая женщина, потому что она вечно пьяная и ленивая, и спит на одной кровати с этим цветным Айзеком, и не откладывает деньги себе на похороны. Мой дядя Каланга говорит, что она дрянь, а дядя Каланга очень умный и очень образованный африканец. И я всегда рад видеть его, потому что с ним можно поговорить о разных вещах, разве что иногда я не все понимаю, особенно когда он говорит о нашем проклятом правительстве. И вот он мне говорит, что мать у меня плохая, а он умный и хорошо ее знает, потому что он – ее брат. Он говорил мне, что мой отец, который сбежал в Иоганнесбург, был плохим зулусом и звали его Король Эдуард Септембер, и, друг, я никогда его не видал. Так вот я говорю вам, я знаю своих родителей и знаю им цену. Но мой дядя Каланга говорит, что я похож не на них, а на моего деда по имени Денгвайо, который был большой вождь, и очень хороший человек, и отец дяди Каланги и моей матери. И я не очень-то беспокоюсь, когда этот колдун Мбола говорит, что я плохой, потому что знаю, что сам он бывает подонком и иногда берет деньги у моей матери, когда она пьяная, потому что это, как он говорит, охранит ее от злых духов, и, друг, она сама дает ему деньги.
– Держись подальше от своего дяди Каланги, – говорит этот Мбола в темноте, и я насмерть пугаюсь.
С чего бы он это так говорил? С чего, а? Мой дядя Каланга – мне друг, так зачем мне держаться подальше от друга! Черт бы побрал этого Мболу!
И, друг, я смотрю на Мболу, чтобы показать ему, что я на него сержусь, но тут открывается дверь и входит Айзек, о котором я вам рассказывал, и, друг, он еле держится на ногах, такой он пьяный. И когда он входит, то тут же кричит на Мболу, и Мбола исчезает, словно его тут никогда не было, и этот Айзек принимается хохотать и говорит:
– Чертов мошенник! Здравствуй, Джордж! Чего тебе здесь нужно?
Я молчу, потому что не хочу неприятностей, а этот Айзек, когда напьется, всегда лезет в драку, а я могу убить его одним ударом, поэтому я молчу, – вы меня поняли?
И тут он говорит:
– Ты пришел навестить ее? – И он подходит к моей матери и, друг, пинает ее башмаком – я говорю вам чистую правду.
– Не смей, – говорю я, но он опять пинает ее, а она все спит.
– Отчего? – говорит он. – Она ни на что не годится. Только пьет да спит.
– Замолчи, – говорю я.
И, друг, он начинает сердиться и подходит ко мне, как будто хочет ударить, и ругается самыми скверными словами. Затем он хватает бутылку, которая лежит на полу, и разбивает ее, потому что хочет порезать мне лицо.
Я от него уклоняюсь, но он опять хочет порезать мне лицо этой бутылкой. Тут я хватаю его за руку и бью коленом в живот, и он ударяется о дверь, и проламывает ее, и падает на лестницу, потому что дверь совсем тонкая, а он жирный, а я ударил его очень сильно, потому что он мне не нравится. Он проламывает дверь с таким шумом, что моя мать просыпается и начинает стонать. Друг, это чистая правда, она может так стонать целый день. И, друг, она стонет громко, а Айзек орет на лестнице, и я боюсь, потому что он пытается встать на ноги, и я не знаю, что делать, потому что моя мать стонет, а Айзек хочет встать на ноги. И, поверьте, я чуть не расхохотался, потому что этот Айзек открывает дверь вместо того, чтобы просто пройти в дыру. Это очень смешно, я говорю вам. А моя мать все стонет.
– Заткнись, шлюха! – кричит Айзек, и идет к ней, и хочет ударить ее кулаком. Он злой, потому что я стукнул его очень сильно. Но я тоже злой, поэтому, когда он проходит мимо меня, я бью его, и он падает, как старый костюм, и тогда, друг, я кое-что слышу. Я слышу свисток и знаю, что это идет чертова полиция, которой надо взглянуть, отчего громко стонет моя мать. И я бегу.
Я сбегаю с лестницы, открываю дверь, и, друг, я в руках полицейского! Он хватает меня и закручивает мне руку за спину. Ох, как это больно!
– Попался, ублюдок! – говорит он.
Я молчу, но тут на чертов свисток приходит еще один полицейский. И они о чем-то говорят на африкаанс.
– Имя! – говорит тот, который выкручивает мне руку.
– Джордж Вашингтон Септембер, – говорю я.
– Джордж Вашингтон Септембер? – говорит он.
– Да, сэр, – отвечаю я, а рука у меня болит.
И тут другой полицейский смотрит в свою маленькую книжечку и говорит что-то тихо-тихо тому, который выкручивает мне руку.
И тот меня отпускает.
– Иди! Брысь! Марш отсюда! Иди!
И, друг, я не жду, пока он передумает. Я бегу. Я оглядываюсь и вижу, что оба они входят в дом, и знаю, что у матери будут неприятности за шум и драку.
Ну отчего они меня отпустили? Отчего? Друг, я не знаю, я просто бегу и бегу и радуюсь, что не попал в тюрьму.
Я останавливаюсь, и потом иду медленно, и не знаю, что делать и куда идти, потому что сейчас – субботний вечер и воскресенье у меня тоже свободное.
И тут, друг, я начинаю думать о Нэнси и о том, как мне хочется ее повидать и кое о чем поговорить, потому что она такая красивая африканская девушка, это я вам говорю. И я думаю, что, может быть, она сейчас в доме Джанни Гриквы на Ганноверской улице и что, может быть, если я зайду туда за своим велосипедом, я опять увижу ее. Но я не хочу видеть этого мерзкого Джанни Грикву, стало быть, придется быть осторожным, – вы понимаете?
И я сажусь в автобус, и еду в город, и иду оттуда в Шестой район.
Мне, понимаете, нравится субботний вечер в Кейптауне. Мне нравится просто сидеть в автобусе и глядеть в окно. Друг, и Столовая гора мне тоже нравится. Она стоит себе, и смотрит на нас, и молчит. Но сам Кейптаун – прекрасный город, такой чистый, – вы меня понимаете? Да, сэр, такие чистые улицы, и народу на них немного. И потом еще море. Оно синее, а песок перед ним белый, а скалы коричневые, и все это так красиво. И можно сидеть на скале на каком-нибудь пляже для неевропейцев, просто сидеть и смотреть на море, и вечером это очень приятно, потому что на пляже нет никого и ты можешь привести туда девушку и кое о чем с ней поговорить, – вы меня поняли?
Но все, что я вам говорил о море и девушках, не годится для субботнего вечера, потому что, понимаете, в субботний вечер найдется много других дел.
Раньше я по субботам ходил в кино, но теперь туда по субботам ходят шайками все эти подонки Честеры и Джокеры и устраивают там драки, так что теперь я иногда хожу в кино по четвергам.
Но вот сейчас половина восьмого, субботний вечер, и я еду в автобусе на Ганноверскую улицу к дому Джанни Гриквы. И все европейцы едут в город в автомобилях, кто, может, в кино, кто, может, на танцы, кто, может, куда еще. И все они одеты красиво и чисто и кажутся хорошими людьми, только я знаю, что большинство из них – нехорошие. Потому что они не любят в Кейптауне неевропейцев вроде меня. Только работай на них за гроши. Даже необразованные европейцы не любят неевропейцев вроде меня за цвет кожи, – вы меня поняли? Друг, я хочу вам признаться: я сам не люблю их за цвет их кожи, и это чистая правда. И, друг, я не люблю полицейских, потому что они всегда стараются устроить неприятности парням вроде меня, а парни вроде меня не хотят неприятностей, – вы меня поняли? Но отчего они меня сейчас отпустили, я не могу понять. Это на них непохоже. Да, сэр. Но я все равно рад, что не влип в неприятность, потому что не хочу неприятностей. Да, сэр. Только не в субботу вечером. Только не в половине восьмого. Да, сэр. Потому что, друг, все тогда забавляются и никто о тебе не вспомнит.
Итак, я подхожу к дому Джанни Гриквы как раз тогда, когда старое солнце ложится спать.
Я не иду прямо в дом, – вы понимаете? Я стою на другой стороне улицы, потому что, может, увижу Нэнси или, может, она увидит меня, и, может, нам удастся кое о чем поговорить. Но я не хочу, чтобы меня увидал Джанни Гриква, потому что от него неприятностей не оберешься. Поэтому я не спешу.
И когда я вижу, что кругом нет никого, я перехожу улицу и открываю дверь, и в коридоре темно, как и тогда, но, друг, на этот раз я слышу другой запах и понимаю, что это пахнет европейцем. Клянусь вам, что в этом доме – европеец, а этого быть не может, потому что это Шестой район и дом Джанни Гриквы, а ни один европеец не пойдет в Шестой район в субботу вечером. Но, друг, я уверен, что здесь европеец, потому нос мой меня не обманет и я могу учуять европейца, если он даже будет в Иоганнесбурге. Стало быть, я стою в коридоре и слышу, как пахнет европейцем. И я боюсь, потому что это, может быть, полицейский, который все-таки пришел арестовать меня за то, что я побил Айзека. И вот я стою и не шевелюсь. И в доме ни звука, и мне страшно.
И мой велосипед стоит у стены и ждет меня, но я сразу его не забираю, потому что еще надеюсь увидеть Нэнси, а она, может быть, в той комнате, где она лечила мне губу и сунула мне язык в ухо. Поэтому я потихоньку иду туда посмотреть и вдруг слышу:
– Джорджи-малыш, ты пришел за велосипедом?
И, друг, я оглядываюсь и пугаюсь пуще прежнего, потому что сзади меня стоит Джанни Гриква.
V
– Вот твой велосипед, Джорджи-малыш.
Друг, я напуган, сам не знаю почему.
– Малыш, я рад, что ты зашел ко мне в субботу, потому что суббота у меня – большой день, да, друг!
– Я пришел за велосипедом, – говорю я.
– Конечно, – говорит он. – Я это знаю, друг. Я это знаю. Только ты не спеши, хочешь выпить, а? И, может быть, я тебе кое-что покажу, а?
– Послушай, друг, – говорю я, – я только пришел за велосипедом.
– Джорджи, – говорит он, – Джорджи-малыш, тебя надо немножко поучить вежливости. И выключи этот джаз, дружок. Ты просто зашел ко мне, и мы с тобой выпьем.
Друг, я не знаю, зачем я иду за Джанни в ту комнату, где был раньше. И на столах уже лежат скатерти, и вся комната выглядит как-то лучше.
– Какую отраву ты пьешь, друг? – спрашивает Джанни.
– Что ты хочешь сказать? – говорю я.
– Что ты будешь пить, дружок?
– То же, что в прошлый раз, – говорю я, потому что мне правда понравилась та выпивка, хотя от нее я заснул.
И он идет к полкам, достает бутылку и наливает мне.
– Да, сэр. Это хорошая выпивка, малыш, – говорит он. – Дьявольская штука. Впрочем, она не дьявольская, – говорит он и хихикает. – Держи, – говорит он и дает мне стакан, а потом наливает себе из другой бутылки, и я знаю, что это бренди, потому что так пахло от моей матери.
Затем мы садимся за столик, и Джанни Гриква, который одет в шикарный белый костюм, вынимает сигары и говорит:
– Закури, Джорджи, и я, может быть, кое-что тебе покажу.
И, друг, я беру у него сигару, потому что, должен вам сразу сказать, я никогда не курил сигар, а только знаю, что они хорошо пахнут, потому что их курит мистер Финберг. И, друг, этот Джанни Гриква снимает с сигары бумажную ленточку, и разминает ее пальцами, и подносит к уху, и я делаю то же самое, чтобы он не подумал, будто я необразованный зулус.
– Да, мальчик, – говорит он, – кажется, сегодня мы с тобой поговорим о деле, малыш. Конечно.
– У меня нет с тобой никакого дела, Джанни. Да, сэр. Никакого дела. И, друг, вот что еще: когда я пришел сюда, я почувствовал запах европейца. Что это значит, а? Что это значит?
И, друг, он только хихикает, и мне это не нравится.
– Ты острый парень, – говорит он. – Да, сэр, ты острый парень.
– Ладно, – говорю я, – отчего у тебя тут пахнет европейцем?
– Друг, сейчас у нас субботний вечер, – говорит он и так хихикает, что начинает кашлять. И мне это очень не нравится.
Затем он подносит ко мне зажигалку, и тут входят два цветных парня, которых я никогда не видел, и они улыбаются Джанни Грикве как старому знакомому, а он им только кивает и раскуривает свою сигару. А эти парни садятся за столик у двери, и Джанни встает и говорит:
– Прости, Джорджи.
И он идет к полкам, на которых стоит выпивка, и звонит в колокольчик, как миссис Финберг, когда она хочет, чтобы я вошел и убрал со стола грязную посуду. Потом он подходит к двери и включает свет, потому что, как я вам говорил, уже почти совсем темно, и он говорит этим цветным парням:
– Они сейчас придут. – И тут он заводит граммофон и ставит пластинку Элвиса Пресли «Я никто, я всего лишь собака», и эта пластинка мне нравится, и в комнате становится намного уютнее. Но Джанни Грикву что-то беспокоит, и он тихо так говорит:
– Куда подевались эти чертовы девки?
И он опять звонит в колокольчик, а потом выходит в коридор, звонит еще громче и кричит:
– Идите же сюда, черт вас возьми!
И тут он опять подходит ко мне и садится за столик.
– Прости, малыш, – говорит он, и, друг, лучше бы он не звал меня малышом.
И тогда две цветные девушки входят в комнату и сразу начинают танцевать с двумя цветными парнями. И, друг, я должен признать, что это довольно красивые девушки, и на них красивые платья, и пахнет от них хорошо, как редко пахнет от цветных девушек.
И, друг, это чистая правда, одна из этих девушек, та, что покрасивее, смотрит на меня и говорит:
– Друг, это зулус! – и смеется, и я чувствую, что мне пора уносить ноги. Вы должны мне поверить, что эта девушка показалась мне слишком нахальной.
Джанни Гриква на это опять хихикает и говорит:
– Познакомься с Марией. Ты ей понравился.
И я думаю, что, должно быть, этот Джанни очень счастливый человек, потому что все время он весело так хихикает.
– Допивай и пошли со мной, – говорит он, и я повинуюсь.
Он уводит меня из комнаты, а Мария кричит мне вслед:
– Мальчик, я очень люблю черных!
И все четверо, которые танцуют, хохочут, как будто видят что-то смешное, и я оглядываюсь, чтобы показать им, что я сержусь, но они на меня не смотрят, потому что один из цветных парней взасос целует свою девушку.
Стало быть, я иду за Джанни Гриквой по лестнице вверх и все время мечтаю, что, может, удастся увидеть Нэнси, о которой я все время думаю. Но ее нигде не видно, потому что наверху много комнат, может, четыре, а может, пять, и двери у всех закрыты, и из-за одной двери слышно, как хихикают девушки. И я иду за Джанни Гриквой в самый конец коридора, и мы входим в крайнюю комнату.
– Это мой оффис, малыш, – говорит он, и мы садимся. Он за стол, я на стул. – А теперь потолкуем о деле, сынок, – говорит он, и лезет в ящик, и достает оттуда длинный коричневый конверт.
– Погоди, – говорю я. – Я видел эти картинки.
– Нет, сэр, – говорит он. – Только не эти.
– Послушай, – говорю я, и снова мне страшно, – я не хочу больше видеть таких картинок. И вообще, разве ты не знаешь, что цветным парням пить в общественных местах незаконно?
Должен сказать вам, он хихикает, как сумасшедший, и все говорит:
– Ты смешной, друг, ты очень смешной!
– Кажется, мне пора домой, – говорю я.
И он кончает хихикать.
– Лучше сначала взгляни на это, – говорит он и вытаскивает из конверта несколько снимков.
И, друг, у меня нет слов. Потому что на этих снимках – я. Да, сэр. Я. Я и эта женщина Нэнси, и мы оба совсем голые, – вы меня поняли? И, друг, я так перепуган, что боюсь шевельнуться, сижу и смотрю на снимки.
– Нравится, Джорджи? – спрашивает Джанни Гриква. – Как тебе это нравится, а? Друг, ты провел счастливую ночь, сынок. Ты был такой пьяный, что мог сделать все что угодно. Взгляни-ка на эти снимочки! И Нэнси говорит, что ты экстра-классный зулус. Малыш, ты ведь не был против того, что мы сделали эти снимочки. Ты был только рад. Да, сэр. Малыш, поверь, что я получу за каждую карточку по пять фунтов, потому что это отличный товар. Да, сэр. Так что видишь, Джорджи-малыш, у нас с тобой есть общее дело. Да, малыш!
И, друг, я молчу, но мне приятно слышать, что эта Нэнси считает меня экстра-классным зулусом, потому что, должен сказать вам, когда я смотрю на эти снимки, то вижу Нэнси, и она кажется мне экстраклассной зулуской, какая она и есть на самом деле.
– Так что, поговорим о деле, Джорджи?
– Нет, сэр, – отвечаю я. – У меня нет с тобой никакого дела. Да, сэр.
И тут дверь открывается и входит Фреда, девушка Джанни Гриквы, и дает ему фунтовую бумажку, и говорит:
– Вот. Он ушел.
– Молодчина, – говорит Джанни Гриква. – А теперь иди вниз и поухаживай за всеми парнями. Иди.
И она ничего не говорит и уходит, даже не взглянув на меня.
– Вот возьми, сынок, – говорит Джанни Гриква и протягивает мне один снимок.
– Нет, сэр, – говорю я. – Мне этого не нужно. Да, сэр.
– Да возьми же, Джорджи. На память. Да, сэр.
И он всовывает мне снимок в руку, и я беру его, сам не знаю зачем.
– Послушай, малыш, я должен тебе заплатить, друг, это факт. За эти снимки. Я дам тебе за них шесть фунтов, сынок. Четыре фунта сейчас и два, когда ты придешь сюда опять. Договорились?
– Нет, сэр, – говорю я. – Не надо мне этих денег. Нет, друг. Ты не имеешь права снимать меня, когда я пьяный. Ты не имеешь права.
– Послушай, малыш, – говорит он. – Ты сам хотел, чтобы тебя сняли. Ты меня сам об этом просил. Да, сэр. Ты был прекрасен той ночью. Просто прекрасен!
И он все время опять хихикает, и мне это очень не нравится, и он сует мне деньги в карман.
Мне нечего ему сказать, – понимаете? Потому что, друг, я, честное слово, ничего не помню об этой проклятой ночи и не могу сказать, что Джанни Гриква врет, потому что, хоть я и уверен, что он врет, но не могу ему этого сказать, – вы меня понимаете?
– Так вот, – говорит он, – слушай меня, Джорджи-малыш, и слушай внимательно. Ты мне нужен, сынок, потому что ты зулус, а зулусов трудно найти – понял? А эта Нэнси – шикарная девушка и не хочет знаться ни с кем, кроме зулуса, и ты, друг, и есть тот самый зулус. А за снимок с Нэнси европеец, может быть, даст пять фунтов. Ты понял? Так что, друг, ты мне нужен.
И я сижу и молчу, потому что, друг, мне нравится эта Нэнси, и я понимаю, что я ей тоже нравлюсь, потому что на снимке она на меня так смотрит, и я хочу вам сказать, что Джанни прав, когда говорит, что она шикарная девушка, потому что так оно и есть. Но я знаю, что нехорошо, когда с тебя делают такие карточки. Только не знаю, почему это нехорошо, – вы меня понимаете? Но все равно я знаю, что это нехорошо. И я думаю, что сказал бы мастер Абель, если бы узнал об этом. Он конечно бы рассердился.
– Хочешь выпить еще, Джорджи?
– Нет, сэр, – говорю я, – потому что, когда я пьяный, ты меня снимаешь, а я этого не хочу. Да, сэр!
А он только улыбается и кричит:
– Нэнси!
И, друг, я очень пугаюсь, потому что боюсь увидеть Нэнси после этих картинок, и я смотрю, в порядке ли мой костюм, а этот Джанни только хихикает.
И, может быть, сразу после его крика дверь открывается, и на пороге стоит Нэнси. Фу! Она похожа на прекрасную леди, потому что на ней белое платье с глубоким-глубоким вырезом, – вы меня поняли? И, друг, знаете, она такая стройная, такая милая. И она так приятно пахнет, и, друг, она – зулуска, и, друг, не знаю почему, но я без ума от этой Нэнси.
Я должен сразу признаться, что очень люблю девушек, и, друг, эта Нэнси – самая лучшая девушка из всех, которых я видел, и такая красивая, что в желудке что-то обрывается, как когда падаешь с высоты.
А она стоит на пороге и говорит:
– Здравствуй, большой мальчик!
И знаете что? В глотке у меня пересохло, и я не могу ничего сказать и только гляжу в пол. И я замечаю, что ногти у нее на ногах окрашены в красный цвет, это видно сквозь тесемочки сандалий, и от этого я люблю ее еще больше, потому что это красиво.
– Как поживаешь, большой мальчик? – спрашивает она, и ее голос снова как шепот, и, друг, я пропал, я говорю вам, пропал!
– Тебе она нравится, Джорджи? – спрашивает Джанни Гриква. – Тебе она нравится, а?
И, друг, я не знаю, что сказать от смущения.
– Я тебе нравлюсь, красавчик? – спрашивает Нэнси, и подходит ко мне, и берет меня за ухо.
– Конечно, ты ему нравишься, да, сэр, – говорит Джанни.
– Ну, красавчик, – говорит Нэнси, – скажи же, что я тебе нравлюсь, большой мальчик.
– Ты мне нравишься, – говорю я, и мой голос звучит так, как не мой голос.
– Порядок, Джорджи. Ты отличный парень. А теперь иди с Нэнси вниз, познакомься с ней как следует, и, может быть, после мы поговорим.
И, друг, он подмигивает этой Нэнси, и я это замечаю. И Нэнси говорит:
– Пойдем, силач. – И она берет меня за руку и ведет вниз, туда, где я был сначала.
И теперь уже эта комната битком набита разными цветными парнями и девушками, африканскими парнями и девушками и, может, даже малайскими парнями и девушками, только все они необразованные, это сразу видно, – вы меня поняли? Кто танцует, кто курит, кто пьет, а граммофон играет очень громко, и я удивляюсь, отчего не приходит полиция, потому что, когда моя мать стонала, полиция сразу же объявилась, а тут куда больше шума, чем от моей матери, это я вам говорю.
Как только мы входим в эту комнату, Нэнси выводит меня на середину и начинает со мной танцевать.
Друг, я люблю танцевать. Да, сэр. Вы сами танцуете? Знаете, когда танцуешь, тебе делается так хорошо, что обо всем забываешь, это я вам говорю; а когда ты танцуешь с Нэнси – ну, друг! Ноги ходят сами собой, музыка играет, пол вроде бы подпрыгивает в такт, а ты кружишься, качаешься, и на душе такой отдых, и ты подпрыгиваешь, и отступаешь, и наступаешь, и поворачиваешься, и подпеваешь, и глаза твои смотрят куда-то вдаль, и, друг, это по мне! А у Нэнси глаза закрыты, а руки прохладные, а ноги живые, друг, такие живые! И зад ее поднимается и опускается и ходит из стороны в сторону, и даже кажется, иногда ей больно, но, друг, это и есть танец, и он для меня. А дым в комнате все гуще и гуще, и ты уже насквозь мокрый, и тебе совсем хорошо, и ты видишь, как Нэнси танцует перед тобой, и ее белое платье кажется золотым и соскальзывает с плеч все ниже и ниже, а ей все равно, и она его не поправляет, так что ты кое-что видишь и можешь кое о чем подумать, пока танцуешь, друг, танцуешь. Я вам прямо скажу: это для меня.
И, друг, музыка кончается. Чересчур быстро. А Нэнси мне говорит:
– Ты хорошо танцуешь, большой мальчик. – И я знаю, что это правда.
И мы с ней присаживаемся за столик и выпиваем, а выпивку Нэнси приносит от стойки, где стоит Фреда и наливает в стаканы. И, друг, я озираюсь, и должен вам тотчас же рассказать, что я вижу.
Эти самые девушки все одеты так, как будто им не нужны никакие платья, потому что все равно все видно, – вы понимаете? И они целуются, и обнимаются со своими парнями, и гладят их, и они могут так целоваться хоть с кем, это я вам говорю. И, может, каждую минуту две или три выходят из комнаты и скоро возвращаются или, может, не скоро, и я догадываюсь, что они там делают, потому что я образованный африканец, не то, что эти подонки.
А Нэнси ставит мне стакан, и я тотчас все выпиваю, потому что после танца нужно выпить. Но сама Нэнси не спешит, она пьет медленно и не глядит на меня, так ни разу и не взглянула, она смотрит по сторонам и, может, здоровается с одним-двумя парнями, которые глядят на нее так же, как я.
Музыка снова начинается, и она говорит:






