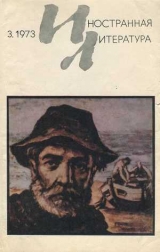
Текст книги "Одинаковые тени"
Автор книги: Рональд Харвуд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
VII
– Я тебя заждался, Табула, – говорит дядя.
Да, сэр. Это мой дядя, и никто иной. Потому что он всегда зовет меня моим зулусским именем Табула, как я вам уже рассказывал.
– Да, дядя. Меня не было дома, – говорю я.
– Я так и подумал, – говорит он и улыбается.
– Пойдем ко мне, может, выпьешь чашку чая, а? – говорю я, и он говорит «да», и это полный порядок, потому что в доме нет никого, потому что мастер Абель ночует сегодня не дома, так что кроме нас с дядей там никого не будет.
Я люблю моего дядю. Он очень хороший человек, да, сэр. Он очень хорошо говорит, и я люблю его слушать. Голос у него густой, низкий и приятный, и он говорит как образованный африканец, какой он и есть на самом деле. К тому же, он очень красивый африканец, – вы меня поняли? Разве что борода его мне не нравится, потому что если вы не понимаете, о чем он говорит, то вы все время смотрите, как его проклятая борода поднимается и опускается, и на вас находит усталость и сон. Но сейчас я не очень-то рад, что мой дядя в доме у Финбергов, потому что иногда от моего дяди неприятностей не оберешься. Как в тот раз – я вам об этом рассказывал, – когда ему пришлось уехать из Кейптауна из-за этих митингов, и вообще все, что он говорит, пахнет неприятностями. Или когда он ходил мимо того места, где находится наше проклятое правительство, с плакатом: «Уважайте достоинство всех людей». Я не очень-то знаю, что это значит, но это тоже пахнет неприятностями, – понимаете? И еще эта Нэнси сегодня спрашивала о нем и о его митингах. От этого будут неприятности. Друг, мне кажется, что я не слишком счастлив от того, что дядя в моем доме. Но он мой дядя и более образованный африканец, чем я, и я не могу сказать ему, чтобы он убирался, как сказал бы моей матери, которая всегда пьяная.
Стало быть, я отпираю черный ход своим ключом, и показываю дяде свою комнату, и прошу его сесть, а сам иду на кухню заваривать чай.
Я не буду вам врать и прямо скажу, что сегодня ночью мне не хочется слушать дядю Калангу, потому что, друг, потому что я чертовски устал от солнца, и тело мое болит, и мне хочется подняться наверх и, может, принять ванну в ванной мастера Абеля, а затем улечься и выспаться. Но всего этого я не могу сделать, потому что у меня дядя Каланга. Поэтому я завариваю чай, несу его в мою комнату и знаете что? Когда я вхожу с чаем, мой дядя уже крепко спит на моей кровати. Да, сэр. Крепко спит.
Мне приходится его разбудить, но, видно, он очень устал. Он трясет головой, но все равно улыбается и пьет со мной чай.
– Когда ты вернулся в Кейптаун, дядя? – спрашиваю я.
– В среду, – говорит он и пьет чай.
Друг, со среды прошло всего три дня, так откуда же эта Нэнси знает, что мой дядя в Кейптауне, а? Откуда она знает?
– Я очень устал, Табула, – говорит дядя.
– Да, дядя, я вижу, что ты устал.
– Я приехал из Порт-Элизабет, – говорит он.
– Из Порт-Элизабет? Почему? – спрашиваю я.
– Чтобы им было труднее меня найти. Мне пришлось уносить ноги из Иоганнесбурга, поэтому я сначала поехал в Дурбан, потом в Порт-Элизабет и потом сюда. Может быть, они меня ищут еще где-нибудь там. Но я так устал, Табула. Весь месяц я ездил с места на место. Я очень устал.
– А что ты собираешься делать здесь, дядя? – спрашиваю я, потому что не хочу неприятностей, а он мой дядя, и я должен все знать.
– Начну все сначала. Что еще остается?
– То есть что? Митинги и все такое?
– Вот именно. Митинги и все такое. Кто-то ведь должен бороться, Табула. Мы не должны сдаваться.
Друг, мой дядя такой грустный. Ужасно грустный.
– Да, – говорит он. – Многое нужно сделать. Скоро я организую митинг и хочу, чтобы ты на него пришел. Может быть, в четверг. Тебе скажут, когда и где это будет. И ты примешь, понял? Мы должны бороться против этих ублюдков. Бороться до самой смерти.
Я не очень-то слушаю, что он говорит, потому что мой дядя говорит, как усталый человек, ему просто нужно поговорить, – вы меня поняли? И мне совсем не нравится этот разговор о митингах и всяком таком. Да, сэр. А когда он говорит о смерти, я очень пугаюсь. Я до этого много раз думал о смерти, однажды даже до того, как мой дядя впервые сказал мне:
– Стоит отдать жизнь за то, чтобы твои братья были свободными.
Но я должен признаться вам, что я не хочу отдавать жизнь ни за кого, и я это сказал моему дяде, и он сказал, что мне должно быть стыдно, только я не мог понять почему, друг. Ну что с тобой будет, когда ты умрешь, а? Друг, вы знаете, я люблю спать, но я не хочу спать вечно, да, сэр. Я люблю просыпаться. А когда ты умер, может, ты просто мертвый, и, может, никакой добрый Иисус не возьмет тебя к себе. Что тогда? Что ты тогда будешь делать, а? Ничего. Так-то. Друг, это меня пугает. А, может, этот Иисус и есть, но, может, ты был таким плохим, что Он не захочет с тобой знаться. Что тогда, а? И, может, тогда дьявол Сатана схватит тебя и будет поджаривать, что тогда? Нет, сэр, я не хочу умирать, нисколечко не хочу.
И вдруг мой дядя перестает говорить, и я вижу, что он снова крепко уснул. Крепко уснул на моей кровати.
Что я могу поделать? Я не могу согнать с кровати моего дядю, потому что куда тогда мне его девать? А он спит так спокойно, что его и правда нельзя согнать с кровати. Что я могу поделать? Друг, я сержусь. Потому что мой дядя не имеет права спать на моей кровати, потому что где тогда мне спать самому?
И я завожу мой будильник и ставлю его на восемь, потому что помню, что к этому часу толстая Бетти может подать завтрак мастеру Абелю, а я могу спать. Да, сэр. А дядя Каланга спит на моей кровати, и на лице у него улыбка. Друг, ему хорошо улыбаться, потому что он на кровати, а мне придется спать на полу. Поэтому я не раздеваюсь, а просто ложусь на жесткий пол и стараюсь уснуть.
Проходят годы прежде, чем я засыпаю. И все время я думаю о том, что случилось со мной за эти последние дни. Друг, сколько неприятностей! Во-первых, эта миссис Валери и полиция. Это была неприятность. Во-вторых, этот Джанни Гриква, который тоже неприятность, друг. Потом эта Мария, которая сказала, что я сам неприятность. И еще мой дядя Каланга, и эти митинги, и смерть, и это тоже неприятность. И Нэнси. Нэнси. Должен сказать вам, что из-за нее у меня болит в животе. Да, да. Болит. Так болит, как будто мне только надо увидеть ее, чтобы прошло. Вот что со мной приключилось. Нэнси. И даже когда она спрашивает про Калангу, до которого ей нет никакого дела, я все равно люблю ее и хочу, чтобы она стала моей девушкой. Друг, когда она сегодня на пляже целовала меня, мне казалось, будто я вижу музыку. Вы меня понимаете? В общем, обычно вы слышите музыку, но когда она меня целовала, было так, будто я вижу музыку. Друг, я был счастлив. Все, о чем можно думать, пропадает, когда ты целуешь эту Нэнси. На пляже она была со мной такая милая, такая ласковая, но когда мы оказались в автомобиле, она вела себя так, будто мы с ней незнакомы. А когда я позвал ее наверх, чтобы кое о чем поговорить, она даже мне не ответила. А когда Джанни позвал ее, и ее уже не было, он рассердился. И единственный раз, когда я по-настоящему обнимал ее, был на тех снимках. И, черт побери, мне не очень-то хорошо спать на полу. Да, сэр.
Стало быть, я сажусь на полу и смотрю в темноте на дядю Калангу, а он крепко спит. Я включаю свет, и он даже не шевелится, а я иду к моей куртке, которую я повесил на стул, и достаю из нее снимок меня и Нэнси, который мне дал Джанни Гриква. Друг, это прекрасный снимок. Хотя вообще-то я не люблю таких картинок, – вы понимаете? Но тут Нэнси, она такая красивая. И на этом снимке я все время смотрю на Нэнси, а не на себя. Только на Нэнси. Я прячу снимок в карман куртки, выключаю свет и снова ложусь на полу. Мне как-то даже лучше от того, что я посмотрел на этот снимок. Только посмотрел. Красивее Нэнси нет никого.
Но эта Мария тоже красивая. Я ее обнимал, она очень красивая. Мария – цветная девушка, но все равно мне она нравится. Я знал в общем-то много женщин. Одни были красивые, другие некрасивые; от одних пахло, от других нет; одни живые, другие ленивые; одни действительно нравятся, другие – так, потому что ты с ними, – вы меня понимаете? Но эта Мария. Она была милая. Живая. От нее не пахло, да, сэр, и, друг, она мне понравилась, потому что она была нежная. Для этой Марии ты был не просто новый мужчина, ты был ты. Это трудно объяснить словами.
И я знаю, что этот Джанни Гриква врет, когда говорит, что Мария– шлюха, потому что ты сам все можешь понять, когда ты с ней так близко. Уж ты точно можешь сказать, что она не шлюха. Может, с другими парнями она шлюха. Может, даже с самим Джанни Гриквой. Но я точно могу сказать: только не со мной. И я пугаюсь, когда вспоминаю ее слова: «Это все из-за тебя. Из-за тебя неприятностей не оберешься. Вот ты какой. Ты сам – сплошная неприятность. Если бы ты знал, что тебе лучше…»
И тут этот проклятый Джанни ее ударил. Но я все слова слышал прекрасно. И я не могу понять, что она хотела сказать, прежде чем этот проклятый Джанни ее ударил. Сплошная неприятность! Я не сплошная неприятность. Я семь лет работаю у Финбергов, так какие же могут быть из-за меня неприятности? И до этого я работал только в отеле «Уэйфэрерс» на набережной, так какие же могут быть из-за меня неприятности?
Неприятности начались из-за миссис Валери. Вот когда начались неприятности. У нее еще были усы на губе. Я этого не люблю. И я должен сказать вам, что до прошлого четверга я ни разу не был в полицейском участке. И все это из-за этой миссис Валери. Теперь у меня неприятности. Раньше у меня не было неприятностей, не было забот, не было Нэнси. Только Сара и мой дружок Пит, которого я не видел уже несколько дней. Сара. Она милая. Да, сэр. Она не ленивая, она меня любит, мы встречались с ней много раз, и всегда мне было с ней хорошо. Хотя когда ты с ней, она не говорит столько приятных вещей, как Мария. Она просто целуется и все такое. Но эта Мария не дура, и все время она говорит. Вроде бы о том, что ты делаешь, и о том, что она делает, и от этого вроде хмелеешь, и мне это нравится. Но мне не нравится этот проклятый пол, на котором я не могу уснуть, потому что он жесткий. А мой дядя спит на моей кровати. Он-то точно сплошная неприятность. И если он будет устраивать митинг тут в Кейптауне, мне придется взять с собой Нэнси, потому что она просила. Может, она хочет отдать жизнь за своих братьев? Не похоже. Но если она не хочет умирать, то зачем ей идти на митинг? Может, ей нравится мой дядя Каланга? Тоже не похоже, потому что я не думаю, что она его даже видела. Так зачем она хочет туда идти, а? Эта Нэнси, зачем? Друг, она женщина.
VIII
Понедельник у меня рабочий день. Да. И чего только не надо переделать за понедельник! Ух! Так что вы поймете, если я скажу, что я не слишком спешу вставать в понедельник и просто лежу и думаю обо всем, что предстоит делать, и опять засыпаю.
Но в этот понедельник я просыпаюсь на полу и тут же гляжу на кровать – как там мой дядя Каланга, но, друг, его нет. Поэтому я осматриваюсь, не спрятался ли он куда, но комната у меня маленькая, так что ему никуда бы в ней не деться. Но как он ушел? Я смотрю на часы – уже половина девятого, будильник меня не разбудил. Стало быть, я вскакиваю побыстрее и выхожу, может, поискать дядю Калангу, но в доме его нигде нет. Ушел. Да, сэр. Тогда я иду на кухню, а там эта толстая Бетти, и она говорит:
– Будешь завтракать?
Друг, это неожиданность. Что это вдруг приключилось с этой Бетти, а? Почему она не зовет меня ленивым зулусом, а? Почему она спрашивает, буду ли я завтракать? Друг, я не могу понять, что происходит с людьми. Да, сэр. А эта Бетти улыбается и вся такая приветливая, так что я решительно ничего не понимаю. Поэтому я говорю:
– Конечно, я буду завтракать, Бетти.
Должен признаться, что я тоже улыбаюсь ей от уха до уха и показываю все зубы. И эта Бетти тоже улыбается и вся такая приветливая, она четыре минуты варит мне яйцо вкрутую, и делает бутерброд, и наливает мне чаю, и предлагает сигарету «Кавалла», и я беру сигарету, хотя обычно я не курю.
Тут я начинаю думать, что, может быть, Бетти видела моего дядю Калангу, и выпустила его из дому, и, может быть, поэтому-то она со мной такая приветливая. Я ее спрашиваю:
– Отчего ты не разбудила меня, Бетти? – И по-прежнему улыбаюсь.
– Забыла, – отвечает она, и, друг, я не очень-то верю ей, потому что эта Бетти ничего не забывает. Да, сэр.
– Может, ты входила в мою комнату и смотрела, дома ли я?
– Нет, – говорит она и начинает мыть посуду от моего завтрака.
– Мастер Абель вернулся? – спрашиваю я.
– Нет, – говорит она.
Больше я ничего не говорю. Просто встаю из-за стола, забираю из столовой все серебро и несу его на кухню, где каждый понедельник я чищу его порошком и двумя тряпками. Одна для чистки, другая для наведения блеска. Друг, я люблю чистить серебро, оно такое красивое, когда блестит. Кроме того, это прекрасный случай ничего не делать, только сидишь за столом на кухне, чистишь и думаешь. И вот я думаю об этой Бетти, какая приветливая она вдруг стала, но я не могу додуматься, отчего это. Может быть, уже десять часов, когда я слышу, как открывается дверь парадного и как мастер Абель входит в дом и направляется на кухню.
– Здравствуй, Джордж Вашингтон. Здравствуй, Бетти, – говорит он, и мы с ним здороваемся.
Тут он сообщает нам, что позвал на вечер гостей.
– Бетти, ты приготовишь нам закуску? Так, чего-нибудь. Джордж Вашингтон, ты останешься и будешь подавать выпивку – хорошо?
Но что тут хорошего, друг, если я надеялся вечером встретиться с этой Нэнси. Только гости мастера Абеля все же важнее. Стало быть, все утро мы провозились, готовя всякие разности для вечеринки. Мастер Абель принял у себя ванну, и, можно сказать, день опять хороший, и солнце светит вовсю. Друг, я люблю солнце.
После обеда я иду в свою комнату и переодеваюсь в рабочую одежду, потому что до гостей нам надо еще много чего сделать. И вот я вешаю свою куртку в мой джентльменский гардероб и вдруг замечаю, что во внутреннем кармане нет снимка, на котором мы с Нэнси. Вот это да! Как я перепугался! Я везде ищу этот снимок. Я ползаю на коленях, я лазаю под кроватью, рыщу по всей комнате, но я точно помню, что после того, как я вчера вечером смотрел на этот снимок, я положил его во внутренний карман. Так где же он? Друг, я боюсь. Я не хочу, чтобы этот снимок попадал куда-нибудь из моего кармана, потому что из-за этого снимка у меня наверняка будут неприятности. Так где же он? И тут кто-то стучит в дверь, и я открываю ее и вижу мастера Абеля.
– Джордж Вашингтон, – говорит он, – я хочу с тобой потолковать.
– Конечно, мастер Абель, – говорю я. – Заходите и будем толковать. Конечно.
И он входит, садится на кровать и начинает:
– Сколько лет ты у нас работал, Джордж Вашингтон?
– Семь лет, мастер Абель, – говорю я.
– Неужели? Семь лет. Неужели мне было только двенадцать, когда ты пришел к нам?
– Да, мастер. Вы точно были маленьким мальчиком.
– Ты до сих пор был хорошим слугой, Джордж Вашингтон, – говорит он.
Я молчу и только улыбаюсь, потому что мне приятно, что он говорит такие слова.
Мастер Абель тоже молчит и смотрит на кровать, и я не могу поверить, что он пришел ко мне, только чтобы сказать это. Поэтому я говорю сам:
– Помните, мастер Абель, какой шалаш мы построили на Львиной голове?
– Помню, – говорит он и смеется. – Конечно, помню. Мы с тобой построили шалаш. Интересно, что с ним стало?
– Да он там до сих пор, баас. Наверняка. Хороший шалаш на горе. – И это правда. Потому что мы с мастером Абелем действительно построили шалаш на Львиной голове, а Львиная голова – это гора на Си-Пойнте и должна быть похожа на львиную голову, только мне этого никогда не казалось.
И тут мастер Абель говорит:
– Послушай, Джордж. Вашингтон, мне бы не хотелось… Все, что ты делаешь, меня не касается, но Бетти дала мне это сегодня утром. – Друг, я должен сказать вам, он держит в руке снимок, на котором мы с Нэнси.
Друг, я не знаю, что ему отвечать. Ох, эта Бетти! Друг, я могу ее убить. Теперь мне ясно, отчего она была такая приветливая этим утром. Проклятая воровка – я вам уже говорил о ней.
– Бетти хочет, чтобы я тебя рассчитал, Джордж Вашингтон.
Черт бы побрал эту Бетти! Я должен признаться, что я чуть не заплакал, потому что я не хочу уходить из дома Финбергов. Уж если быть совсем начистоту, я действительно заплакал.
– Не плачь, друг. Ради бога. Послушай, я не собираюсь тебя рассчитывать.
Я заплакал еще сильнее.
– Перестань, – говорит он, совсем не грубо. – Я только хочу тебе сказать, чтобы ты больше этим не занимался, – ты меня понял? Это дурно. И от этого у тебя может быть куча неприятностей. В общем, держись от этого подальше, Джордж Вашингтон.
– Мастер, я был пьяный, когда они сделали этот снимок. Я не знал, что меня снимают, мастер.
– И еще есть снимки? – спрашивает он.
– Да, мастер.
– У кого?
– Да у этого Джанни Гриквы. – И, друг, я опять заплакал.
– Кто этот Джанни Гриква? – спрашивает мастер Абель.
– Тот, кто сделал эти снимки, – отвечаю я.
– Так вот, послушай меня, Джордж Вашингтон. Ты должен забрать у него все снимки с негативами и сжечь их – ты понял?
– Нет, мастер.
– Что ты хочешь этим сказать? – спрашивает он.
– Я хочу сказать, что не понимаю, что такое негативы, мастер. – И я утираю слезы, а слезы все льются.
– Ты прекрасно все понимаешь, Джордж Вашингтон. Это то, с чего печатают снимки. Черт возьми, ты же это знаешь. То самое, что ты относишь в лабораторию, когда тебе нужны новые отпечатки.
– Ах да, сэр. Я знаю. Такие черненькие. Да, сэр. Я знаю.
– Вот и хорошо. Стало быть, ты все заберешь у него и уничтожишь – ты понял?
– Да, мастер.
– Ты обещаешь?
– Да, мастер.
– Ну, хорошо, – говорит он. – И больше я не желаю ничего об этом слышать. Да, и не говори Бетти, что я сказал тебе, что она дала мне этот снимок, ладно?
– Но, мастер Абель, я должен отругать ее…
– Ни в коем случае. Лучше помалкивай. Я не собираюсь искать новую кухарку, пока мамы нет дома. Стало быть, Джордж Вашингтон, ты будешь молчать.
– Хорошо, мастер.
И больше не позволяй им тебя фотографировать.
– Хорошо, сэр.
– Это дурные снимки, – говорит мастер Абель.
– Почему дурные?
– Ты знаешь сам, почему они дурные.
– Мастер Абель, я знаю, что они дурные. Я только не понимаю, почему они дурные.
– Ты должен просто знать, что они дурные, – говорит он.
– Откуда мне это знать, мастер Абель?
– Потому что внутри тебя… друг, твоя совесть, черт возьми. Разве что-то внутри тебя не говорит, что они дурные?
– Говорит, сэр, – отвечаю я.
– Ну так ладно, – говорит он, смотрит на меня и уходит.
Но я хочу вам признаться, что никакой голос внутри меня не говорит, что эти снимки – дурные. Иногда этот голос говорит мне, что то-то и то-то – дурное, но он никогда ничего не говорил мне про эти снимки. Я знаю только то, что мастер Абель сказал мне, что эти снимки – дурные. Но, друг, я не знаю почему, – вы меня поняли?
Ох, как же я зол на эту Бетти. Какое у ней право входить в мою комнату и красть мои снимки? Никакого, сэр. И мастер Абель должен бы позволить мне дать ей хорошую взбучку. Как бы мне хотелось тысячу раз стукнуть ее по заднице! Черт бы ее побрал! У нее нет никакого права обкрадывать меня и требовать, чтобы мастер Абель меня прогнал. Никакого права. Но мастер Абель мне друг, это ясно, и я лучше добуду эти негативы, как я ему обещал. Но как это сделать? Этот проклятый Джанни Гриква – чертовски хитрый парень, но мне все равно надо так или иначе заполучить эти негативы.
Глаза у меня болят оттого, что я плакал и тер их, и я не очень-то хорошо вижу, но все равно я вижу снимок, на котором мы с Нэнси. Мастер Абель оставил его на кровати. И знаете, что я сделал? Я разорвал его на мелкие кусочки. Да, сэр. И я пошел и умылся, потому что не хочу, чтобы эта чертова Бетти видела, что я плакал.
Я иду на кухню, а она там делает бутерброды и всякое такое, а мне надо протереть стаканы и рюмки для гостей. Я ни слова не говорю ей. Да, сэр. Я просто протираю стаканы и рюмки. Я же обещал мастеру Абелю, что не буду говорить с ней. Так я себя и веду. Не говорю ей ни слова.
Уже около четырех, и я пью чай, и тут звонят в дверь, но я слышу, что мастер Абель сам ее открывает, поэтому я просто сижу, и пью чай, и не говорю ни слова этой жирной ленивой ксозе Бетти. Неожиданно мастер Абель входит в кухню и говорит:
– Джордж Вашингтон, это к тебе.
– Ко мне? – переспрашиваю я.
– Да, ты можешь принять его в гостиной.
– Африканца? – говорю я.
– Нет, европейца, – говорит он.
В чем дело? – спрашиваю я себя. Друг, зачем европейцу приходить к африканскому парню вроде меня, а? Наверно, это полиция. Иначе быть не может. Поэтому я пугаюсь, но все равно иду в гостиную. Но когда я вхожу в нее, я вижу, что это не полиция. Это европеец с глухим белым воротничком, и я понимаю, что это священник.
– Добрый день, ваше священство, – говорю я, чтобы показать ему, что я знаю, кто он, потому что я образованный африканец.
– Добрый день. Вы – Джордж Вашингтон Септембер?
– Да, ваше священство, – говорю я и по его выговору чувствую, что он из приезжих.
И он просит меня садиться и говорит, что очень мило со стороны мастера Абеля позволить нам поговорить в гостиной и все такое. Потом он спрашивает:
– Джордж, вы крещеный?
– Конечно, ваше священство, – говорю я.
– А конфирмацию вы проходили?
– Нет, сэр, – отвечаю я.
– Жаль, – говорит он. – Все же… Вы ходите в церковь?
Я молчу, потому что я не хожу в церковь.
– Наверно, не слишком часто, а? Ну, ничего. Я бы хотел, чтобы вы пришли в церковь в следующее воскресенье. В мою церковь. Вы придете?
– А где ваша церковь? – спрашиваю я.
– Здесь, на Си-Пойнте. Та самая, большая, на Главной улице.
– Но, ваше священство, это же церковь для европейцев, – говорю я.
– Совершенно верно. Поэтому-то я и хочу, чтобы вы пришли туда в воскресенье.
– Но вы же знаете, что нам не разрешается ходить в европейские церкви. Вы же знаете это, ваше священство. Это незаконно. Друг, от этого будут неприятности.
– Именно этого мы и хотим. Неприятностей. Я здесь новичок, я из Англии. Меня зовут Сэндерс, Дональд Сэндерс. Я думаю, что давно пора кое-что тут переменить. Я хочу, чтобы в воскресенье вы пришли в мою церковь.
– Но, ваше священство, нас же за это посадят в тюрьму.
– Не волнуйтесь. Я обошел все дома по соседству и попросил всех парней и девушек прийти в церковь. Я хочу, чтобы и вы пришли. Придете?
– А что скажут европейцы, ваше священство?
– Ничего.
– Но, ваше священство…
– Давно пора кое-что предпринять.
– Но, ваше священство, нам не разрешается ходить в европейские церкви. Это запрещено. Зачем же теперь вы хотите что-то делать? Почему не раньше?
– Выслушайте меня. Иисус Христос сотворил всех людей равными и всем подарил свою церковь. Он умер на кресте за всех людей, а не только за белых южноафриканцев.
– Но у нас есть свои отдельные церкви, ваше священство. Так всегда было.
– Что в этом хорошего? – говорит он. – Зачем вам свои отдельные церкви? Отчего вы должны молиться отдельно от других? Я хочу, чтобы вы со своими друзьями пришли в воскресенье в мою церковь, стали на колени и помолились Христу бок о бок с белыми, и попросили Его помощи, наставления и милосердия. Мы все будем молиться, чтобы Он не оставил нас в час нужды. Вы поняли?
– Но, ваше священство, нас за это посадят.
– Возможно. Но пора приступать к конкретным действиям. Что-то мы должны делать. Неужели вы из страха перед тюрьмой будете жить в рабстве всю жизнь? Неужели вы не согласны пойти в тюрьму, зная, что Господь Иисус с вами и за вас?
Лучше бы мне вообще не знаться с тюрьмами, думаю я про себя, но вслух говорю ему, что согласен.
– Стало быть, я могу на вас рассчитывать? – спрашивает он.
– Но, ваше священство, – говорю я, – у меня будут неприятности, а я этого не хочу.
– Сын мой, у меня тоже будут неприятности, но по крайней мере у нас будет сознание того, что мы поступили по правде. Здесь, в Южной Африке, жизнь полна лжи. Мы отрицаем божественную истину: Бог – наш отец, отец всех людей. Мы с вами равные на этой земле, и мы должны показать, что мы можем жить как равные. Вы меня поняли?
– Да, – говорю я, хотя не понял.
– Прекрасно, прекрасно. Теперь бы я хотел повидать служанку, кажется, ее зовут Бетти? Будьте добры, пришлите ее ко мне. Надеюсь, в воскресенье я увижу вас в церкви.
И я возвращаюсь в кухню и говорю этой чертовой Бетти, что ее желает видеть священник, а сам опять принимаюсь перетирать стаканы и рюмки.
Друг, я в тревоге. Сколько всего на меня свалилось. Друг, я не хочу идти в европейскую церковь. Да, сэр. Люди, которые все время там молятся, не захотят, чтобы мы, африканские парни и девушки, ходили в их церковь и молились с ними. Да, сэр. А этот священник! Он же приезжий. Он из Англии, и у него нет никакого права требовать, чтобы мы, африканцы, делали то-то и то-то. Он не знает здешних людей. Они не захотят молиться вместе с нами – вы же знаете, что у европейцев и неевропейцев все должно быть раздельное. У нас есть свое место, а у них свое. Друг, это скверно. Потому что наше место много хуже, чем их место, и никто на свете по доброй воле не согласится пойти на наше место.
Друг, знаете, до чего бы мне хотелось дожить? Чтобы все африканцы и цветные жили на Си-Пойнте, а все европейцы – в Шестом районе. Раздельно, – вы меня понимаете? Тогда бы у нас было хорошее место, а у них наоборот. Но, друг, признаюсь вам, по справедливости надо не так, надо, чтобы у всех было хорошее место. Да, сэр. Я протираю стаканы, и тут входит мастер Абель и спрашивает, зачем приходил священник, и я ему говорю.
– Так ты пойдешь в воскресенье в церковь? – спрашивает он.
– Не знаю, мастер Абель. Не знаю.
Тут мастер Абель уходит, а Бетти приходит и не говорит мне ни слова, и я рад, потому что она толстая, нахальная, ленивая ксоза с большой задницей.
Итак, мы приготовили все для вечеринки, и, может, часов в семь гости начинают появляться, и первой приходит Памела, особая девушка мастера Абеля, она очень милая и живет на Крейгоуни-роуд. Она всегда очень милая, эта Памела, и когда она с мастером Абелем, они почти все время хохочут, и это мне нравится, и я думаю, что, может быть, они кое о чем говорят, – вы меня поняли?
В общем, собралось много парней и девушек, и они пьют, едят и танцуют под ореховую радиолу, с которой я каждый день сметаю пыль. И я все время хожу взад-вперед с чистой посудой, и бутербродами, и всяким таким и вижу, что гости неплохо проводят время.
А когда в половине первого я пошел за пивом, я увидел, как мисс Памела и мастер Абель спускаются вниз по лестнице. Друг, лицо у нее все горит, а мастер Абель улыбается, так что я уверен, что кое о чем они там поговорили. Да, сэр. Мне нравится мастер Абель.
Но, друг, когда я увидел их, я тотчас вспомнил об этой Нэнси и сказал себе: жаль, что я не в том доме на Ганноверской улице, потому что, может быть, сегодня бы мы с ней договорились.
Гости разошлись, может, в час, может, в два, и тогда знаете что? Мы с мисс Памелой и мастером Абелем убрали грязную посуду и навели порядок в гостиной, и тогда мастер Абель сказал, чтобы я заварил чаю, и мы втроем пошли на кухню, уселись за стол и стали пить чай. Друг, я был счастлив. С ними было так хорошо. Я не умею этого объяснить. Но то, что я сидел с ними за столом и пил чай, было просто замечательно, – вы меня понимаете? После чая мастер Абель отвез мисс Памелу домой в автомобиле, а я пошел спать. Было уже совсем поздно, когда я услышал, как мастер Абель подъехал к дому и прошел к себе наверх.
И вот я думаю, зачем он отвозил ее домой в автомобиле? Крейгоуни-роуд совсем рядом с домом Финбергов, может, минуты три пешком. Но тут я вспомнил, как улыбался мастер Абель на лестнице, и сам улыбнулся, повернулся на бок и уснул.






