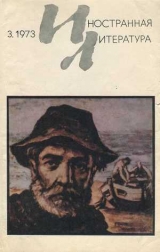
Текст книги "Одинаковые тени"
Автор книги: Рональд Харвуд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
IX
Во вторник утром опять неприятность. Я сижу у себя в комнате, и вдруг заявляется эта чертова Бетти и сует мне в руку сложенную бумажку.
– Митинг, – говорит она и тут же уходит.
Друг, эта Бетти! Я разворачиваю бумажку и читаю: «Четверг. В семь часов. Клуф Нек, Хай-роуд, дом 7. Приходи. P. S. Запомни адрес и время и разорви письмо. К.».
Ох, друг. Ну, зачем мой дядя хочет, чтобы я пошел на митинг? Может, оттого, что я образованный африканец и он зовет на митинг а только таких, как я? Но, друг, мне это не нравится. Потому что откуда эта толстая Бетти получила эту бумажку? Друг, она обязательно там будет.
Четверг, в семь часов. Друг, я не хочу идти на этот митинг, и я не хочу идти в воскресенье в эту церковь, потому что я не хочу неприятностей. Да, сэр. А все это сплошные неприятности. Но я все равно выучиваю адрес, как велел дядя Каланга, и затем разрываю его письмо на мелкие клочки, чтобы никто не мог прочитать, и выкидываю эти клочки. Клуф Нек, Хай-роуд, дом 7. Да, сэр. Запомнил.
Весь день я твержу про себя этот адрес, чтобы не забыть, только все же я не уверен, что пойду на этот митинг, и я должен вам признаться, что не хочу идти на митинг. Да, сэр. Друг, я не хочу никого убивать, и я не хочу, чтобы кто-нибудь убил меня. И еще этот вчерашний священник. Друг, все это меня лишает покоя. Вы должны понять, что я крещеный христианин, и иногда я люблю Бога Иисуса, а иногда я про Него совсем забываю. Друг, я видел этого Иисуса на картинках, и Он тоже европеец. Отчего бы это, а? Друг, я начинаю думать, что Он – Бог только для европейцев, а не для нас, африканцев. Если бы Он был цветной или черный, эти европейцы сказали бы, что Он не Бог, а всего-навсего кафр. Я знаю этих европейцев, сэр. Они нас терпеть не могут. Как-то я сказал мастеру Абелю, что этот Иисус говорит, что все люди равные, но европейцы с этим не согласны. Мастер Абель сказал мне тогда, что в этом виноваты христиане, а не Христос. Но, друг, если Он Бог, отчего Он не заставит их любить нас, а? Друг, из-за христиан трудно верить в Христа. Да, сэр. Скажем, возьмите эти десять заповедей, которые Моисей получил от Бога. В них говорится: «Почитай отца твоего и мать твою». Но, друг, я ни разу не видел моего отца, а моя мать всегда пьяная. Так как же я могу почитать их? А? Библия не объясняет, как я должен это делать. Или, скажем, священник Сэндерс из Англии. Друг, у него нет права требовать, чтобы мы ходили в церкви для белых, потому что он не знает, какие от этого могут быть неприятности у такого парня, как я. Он понятия не имеет об этом.
То, что человек – африканец, как я, и у него черная кожа, еще не значит, что он грязный. Да, сэр. Я видел грязных европейцев, – вы меня понимаете? Но большинство белых считает, что чернокожие грязные. Много раз я слышал, как они говорят:
– А ты бы хотел, чтобы черный жил рядом с тобой? Ты хотел бы, чтобы черный женился на твоей дочери?
И вот что я вам должен сказать. Есть такие африканцы, за которых бы я не выдал свою дочь, потому что они скверные люди, – вы меня поняли? И есть такие европейские парни, за которых не пойдет ни одна европейская девушка, потому что они тоже скверные, – вы понимаете? Поэтому нельзя сказать, что все африканцы скверные, потому что это неправда. Но так говорит наше проклятое правительство. Да, сэр. И я это могу доказать, потому что африканцам тут все запрещено, а европейцам все позволено. Друг, это очень плохо.
Ох! Ну, нашелся бы хоть один человек, который бы не замечал, что черные – черные, а белые – белые. Какой бы это был человек! Да, сэр. Может, Иисус был таким человеком. Не знаю. Но я ходил в школу и слыхал про Иисуса все – как Он исцелял слепых и больных и как ласково Он обошелся с этой шлюхой Марией Магдалиной. Но где Он был ласковый с африканцами вроде меня? Нигде, вот где. И еще священники. Ух! Друг, да они хуже других. Они говорят, что ты такой же, как все, но сами они так не думают, – вы меня понимаете?
Но в истории об Иисусе есть один человек, который мне очень нравится. Друг, мне нравится этот Иосиф. Иногда я думаю о нем и думаю, что я бы не поверил Марии, если бы она рассказала мне, что у нее будет ребенок, а я бы знал, что отец не я. Но Иосиф поверил. Друг, он любил Марию, это я вам точно говорю. И я тоже люблю Марию, потому что она такая хорошая, – вы меня понимаете? И еще ей пришлось ночевать в хлеву и родить там ребенка. Я сам ночевал в местах похуже, и я бы не допустил, чтобы хоть кто рожал в хлеву. Да, сэр. И потом Иисус. Сказать вам по правде, я не все понимаю про Иисуса. Я не понимаю, почему Он – Бог. Я понимаю, что Он – Сын Бога, но не понимаю, как Он при этом сам может быть Богом. И Святой Дух. Это тоже трудно. В школе у нас был один священник, и он сказал, чтобы мы представили себе треугольник – знаете, такая штука с тремя одинаковыми сторонами? Так вот, одна сторона – Сын, другая – Отец, третья – Дух Святой. Но, друг, как можно молиться треугольнику? И еще этот священник рассказывал мне много всякого про Святую Троицу, но я должен признаться, что ничего не понял. Но я хочу, чтобы вы верили, что я стараюсь любить Иисуса и молюсь Ему. Ах, как это трудно! Трудно молиться. Скажем, может быть, я молюсь, а сам думаю о ком-то другом, о Нэнси или о ком-то еще. Так что, вы понимаете, как это трудно.
Много о чем говорят эти люди, например, о том, что надо всех любить. Но сами-то они всех не любят. Да, сэр. Так кого же мне слушать? Послушаешь дядю Калангу и наверняка угодишь на виселицу. Или послушаешь этого священника Сэндерса и сядешь в тюрьму. Что же остается делать, а? И еще чего я не могу понять, так это того, что нас, африканцев, больше, чем европейцев, а мы почему-то обязаны считать их хозяевами. Друг, трудно все это понять. Я вот что скажу вам: я просто хочу быть счастливым и жить хорошо и спокойно, безо всяких неприятностей. Вот и все.
Клуф Нек, Хай-роуд, дом 7. Я эго помню и помню, что митинг будет в четверг в семь часов. Друг, я не знаю, пойду ли я туда, но, может, пойду, потому что эта Нэнси пойдет со мной, и мы сядем рядом и все такое. Но сегодня только вторник, и мне придется ждать эту Нэнси целых два дня.
Весь день за работой я вспоминаю о ней, и мне жалко, что я разорвал наш снимок, – вы о нем знаете.
И весь день мы с толстой Бетти не говорим друг другу ни слова, потому что она знает, что я знаю, что она отдала этот снимок мастеру Абелю.
Вечером, когда я покончил с работой, я думаю, что, может, пора навестить моего друга Пита, который работает в отеле «Океан». Поэтому я наряжаюсь и перед уходом прячу деньги, которые мне дал Джанни Гриква, под матрас – так в кино прятал деньги этот тип Богарт.
И вот я шагаю по Виктория-роуд к троллейбусной остановке, и вдруг слышу за собой шаги, и резко оборачиваюсь.
– Привет, Джорджи-малыш! Где ты был?
Друг, это Джанни Гриква.
– Я работал. А ты где был? – говорю я так холодно.
– Ты не был на митингах, а, Джорджи? Не был? – спрашивает он. Друг, мне не нравится такой разговор.
– Я ничего не знаю про митинги, – говорю я. И это, как вам известно, неправда.
– Послушай, Джорджи, у меня тут автомобиль рядом, на Куинз-роуд, сегодня мы устраиваем вечеринку, так почему бы тебе к нам не прийти, а?
Я вспоминаю об этой Нэнси. Друг, иногда я считаю, что я ни на что не гожусь, что я бездельник, потому что я сажусь в старый автомобиль Джанни Гриквы и еду с ним в дом на Ганноверской улице.
Когда я вхожу в этот дом, я понимаю по запаху, что здесь есть европеец, как было в прошлый раз. Друг, я их чую по запаху, это я вам говорю. В этом доме точно есть европеец. Но я должен оказать вам, что я его не вижу, потому что Джанни проводит меня в комнату с баром, сажает за стол, как раньше, и ставит выпивку.
В этой комнате не слишком много людей, и Нэнси в ней нет. А Фреда, которая женщина Джанни Гриквы, танцует одна в середине комнаты. Друг, я не вру вам, она снимает с себя одежду, тряпку за тряпкой, – вы меня понимаете? А граммофон играет «Веди себя хорошо». Друг, у этой Фреды хорошая фигура, – вы меня понимаете? И она все время раздевается. Друг, я должен признаться, что это мне нравится. А за одним столом сидит толстый цветной тип с золотым зубом, и он улыбается, хохочет и кричит ей:
– Еще! Еще!
Он смотрит на нее, и я знаю, о чем он думает. И этот Джанни Гриква сидит рядом со мной, и тоже хихикает, и говорит мне:
– Она потрясающая, друг! Потрясающая!
– Зачем ты ей позволяешь раздеваться при людях, если это твоя женщина? – спрашиваю я.
Друг, он только хихикает, как будто я сказал ему что смешное. А Фреда уже почти совсем голая, – вы меня поняли? Но я сам смеюсь, потому что пластинка вдруг кончается, и Фреде приходится ждать, пока кто-нибудь поставит новую музыку. И она ругается на эту пластинку. Как я могу не смеяться? И тут она обходит всех в комнате, и они гладят и щиплют ее, но когда она подходит к цветному с золотым зубом, он целует ее. И все хлопают в ладоши и кричат:
– Еще! Еще!
Но когда она склоняется над нашим столиком, я до нее не дотрагиваюсь, потому что знаю, что это женщина Джанни Гриквы и ему может не понравиться, если я ее поглажу. Но сам он ее гладит как ни в чем не бывало. И щиплет ее, куда захочет.
И она все проделывает до конца, эта Фреда, и наконец она совершенно голая. А этот толстый Золотой Зуб встает, хлопает в ладоши, идет к Фреде, берет ее за руку и уводит из комнаты. И все хохочут и хлопают в ладоши. Тут кто-то ставит на граммофоне что-то быстрое, и все начинают танцевать. Только не я. И не Джанни Гриква.
– Где эта Нэнси? – спрашиваю я.
– Сейчас придет, малыш. Сейчас. Пойди наверх и посиди в моем оффисе. Я пришлю ее, когда она придет. Не волнуйся, малыш.
И я иду наверх, и европейцем здесь пахнет еще сильнее. Я знаю, что он где-то рядом. Уж я это знаю. И я вхожу в оффис, и сажусь там, и ничего не делаю, и вдруг вспоминаю про негативы. Надо их найти. И я ищу их по всей комнате, во всех ящиках и, наконец, вижу целую пачку этих длинных коричневых конвертов. Я смотрю, нет ли тут меня с Нэнси. И какие же это снимки! Друг! Я не могу рассказать вам, что я там видел. Все что угодно, и я понимаю, что имел в виду мастер Абель, когда говорил, что эти снимки дурные. Я слышу в себе голос, – вы меня понимаете?
И тут я нахожу то, что искал. Я сую руку в конверт и вдруг слышу:
– О'кей, так ты мне скажешь когда.
Друг, я где-то слышал этот голос, только не могу вспомнить где. Но я все равно пугаюсь, и замираю, и затем слышу, как кто-то спускается по лестнице, но я все равно еще не пришел в себя от страха, – бы меня понимаете? Потому что я знаю, что это был голос европейца. Друг, я в этом уверен.
Когда шаги затихают, я вытаскиваю из длинного коричневого конверта эти снимки, и негативы тоже тут, честное слово. Я приоткрываю дверь и смотрю, нет ли кого поблизости, но только слышу, как хихикают Фреда и Золотой Зуб. Тогда я закрываю дверь и рву все это на мелкие клочки. И снимки, и негативы. Все-все. И я забиваю клочки в носы ботинок, потому что, друг, даже если мне этим вечером удастся кое о чем поговорить с Нэнси, не обязательно же снимать ботинки.
Стало быть, я зашнуровываю ботинки, и тут дверь открывается, и входит Нэнси, и у меня такое чувство, будто она поймала меня на том, как я рву эти снимки, но на самом деле ничего подобного, так что я понять не могу, с чего у меня такое чувство.
Друг! Эта Нэнси! Она вправду очень, очень красивая. Она так хорошо одета. Поверьте мне. На ней рубашка, как мужская, только с глубоким вырезом, и юбка, не сшитая по бокам, так что ногу видно снизу доверху. Так вот она входит в комнату, садится и показывает мне ногу.
– Привет, большой мальчик. Как жизнь?
– В порядке, Нэнси. Как у тебя?
– О'кей, – говорит она.
Я подхожу к ней, беру ее за затылок, пригибаю к себе и стараюсь поцеловать, но она отводит голову.
– Что с тобой, черт побери? – спрашиваю я. – Зачем ты ко мне пришла, если так себя ведешь?
И знаете что? Она молчит. Да, сэр. Не говорит ни слова. Друг, иногда я сержусь на эту Нэнси.
– Нэнси, – говорю я, – этот Джанни Гриква говорит, что ты моя женщина. Но ты себя ведешь не как моя женщина. Отчего ты так, а? Отчего? Если ты моя женщина, у нас есть о чем поговорить, кое-что мне нужно узнать и кое-что сделать.
– Вот что, Джорджи, – говорит она, – отведи меня на митинг твоего дяди Каланги и можешь спать со мной день и ночь.
Знаете, я вам что-то должен сказать. Друг, мне не нравится, когда женщина говорит такие вещи, потому что это не похоже на дело, – вы меня понимаете? И во-вторых, я не хочу водить Нэнси ни на какие митинги. Но я говорю:
– Зачем это тебе идти на дядин митинг?
– Люблю послушать, – говорит она.
– Тогда о'кей. Мы с тобой пойдем на митинг в четверг вечером.
– В четверг вечером? – переспрашивает она, вроде бы удивленно. – А где?
– Неважно где. Я тебя туда отведу, если ты обещаешь, что после этого мы кое о чем поговорим.
– Да скажи мне, где будет этот митинг.
– Нет, Нэнси. Не могу.
– Послушай, Джорджи, скажи мне, где будет митинг, и мы с тобой проведем в постели целую неделю.
– Клуф Нек, Хай-роуд, дом 7,– говорю я. – О'кей. Стало быть, ты обещаешь, а?
И мы идем в большую комнату вниз. Я конечно бы провел с ней в постели целую неделю, но она знает, что я этого не могу, потому что мастер Абель на столько меня не отпустит.
И вот я сижу за столиком и смотрю, как люди пьют и танцуют. Джанни Гриква разгуливает взад-вперед и воображает, что всех осчастливил, потому что он с шуточками и хихиканьем ходит от столика к столику и забирает у людей деньги. Друг, я понять не могу, как это его дом не прикрыла полиция, потому что полиция не переносит таких домов.
Проходит сколько-то времени, и я уже порядочно выпил и вроде бы совсем счастлив, хотя я все время слежу за Нэнси. Друг, она ни с кем не танцует, и ни с кем не разговаривает, и не смотрит в мою сторону. Она просто сидит на месте. Но я почти счастлив, и я вспоминаю, как Фреда, совсем раздетая, подходила ко всем мужчинам, и я думаю, что, может, неделя с Нэнси начнется сейчас же.
– Нэнси, пошли наверх, – говорю я.
– После митинга, большой мальчик. Как я обещала.
И я молчу, хоть мне это не нравится.
– Так я пошел, – говорю я.
– Хорошо, Джорджи, – говорит она.
– В четверг вечером, – говорю я. – Встретимся перед муниципалитетом в половине седьмого. О'кей?
– О'кей.
– А после митинга кое о чем потолкуем, ладно?
– Друг, – говорит она, – не волнуйся. После митинга можешь делать со мной все, что хочешь.
И она улыбается, и я ей говорю:
– Обещаешь?
– Обещаю, друг. Конечно.
– О’кей, – говорю я.
И тут ко мне подходит Джанни Гриква и спрашивает:
– Уходишь, Джорджи?
– Да, сэр, – говорю я.
Я иду к выходу, а этот Джанни провожает меня и знаете что делает? Он сует мне в руку фунтовую бумажку.
– Это за то, что ты хороший парень, – говорит он.
И я ухожу домой.
X
Всю среду я думал про вторник. Друг, сначала этот священник задал мне задачу. Потом мастер Абель и снимки и весь этот разговор о голосе совести. Друг, иногда я по целым дням не слышу ни слова от этой моей совести, – вы меня поняли? Вот так мастер Абель один раз объяснил мне кое-что. Он сказал, что не потому плохо гулять с девушкой, что будет ребенок, и не потому плохо врать, что все может раскрыться, а просто плохо гулять с девушкой и плохо врать. Это плохо, и все тут. И когда я спросил мастера Абеля, почему это плохо, он опять сказал мне о совести. Я хочу вам сказать, что моя совесть не всегда говорит мне, что это плохо, но так говорит мастер Абель, а он образованный, и поэтому я ему верю. Но почему это плохо, а? Друг, я не понимаю. Ты находишь девушку и гуляешь с ней, и, может быть, что-то еще, и, может, тебе это нравится. Что ж тут плохого? И, может, полицейский подходит к тебе и говорит, что ты нарушил закон, а ты говоришь, что не нарушал закона, и он, может быть, тебе верит и отпускает. Ты врешь, но зато ты не в тюрьме, так что ж тут плохого, а? Друг, этого мне не понять. Тебе говорят, что у тебя должна быть всего одна жена. Почему, а? Ты, может, устал от этой жены и хочешь другую, но тебе это не разрешается. Европейцам можно все, что они захотят, но с нами другое дело, – вы меня поняли? Потому что, друг, мы неевропейцы и у нас черная кожа. Да, сэр. Мы африканцы, конечно, и никто другой. Мой дядя Каланга все это знает, это я вам говорю. И он говорит, что наше проклятое правительство хочет заставить нас сделаться европейцами и оттого у нас столько неприятностей. Он говорит, что если бы они оставили нас в покое и позволили оставаться африканцами, мы бы были о'кей и ни у кого бы не было неприятностей. Да, сэр. Я ему верю, потому что он образованный.
Но, друг, я не нахожу себе места. Я думаю, что, может, слишком много болтал про этот митинг. Я помню, что сказал Нэнси, где будет митинг, но, друг, мне не следовало этого делать из-за приписки: «Запомни адрес и время и разорви письмо. К.» Это написал мой дядя, и это значит, что я не должен никому ничего говорить. Так что, друг, может, я поступил неправильно. Но эта Нэнси заставляет меня делать то, чего я не хочу. Друг, я бы женился на этой Нэнси, в первый раз я встречаю такую девушку.
И я думаю, как хорошо было бы пойти к священнику Сэндерсу с Нэнси и сказать, что я хочу на ней жениться. Но, черт возьми, я совсем забыл, что у него церковь только для европейцев и ты не можешь в ней обвенчаться. И я даже не хочу идти туда в воскресенье молиться вместе с европейцами, потому что потом неприятностей не оберешься. Я знаю этих европейцев. Может, священник и хочет, чтобы мы там молились, но европейцы этого не хотят. И если об этом прослышит наше проклятое правительство, оно наверняка посадит нас всех в тюрьму, это я вам говорю.
Друг, я устал от всего такого и хочу обо всем позабыть, вот я и подумал, что лучше пойти к другу Питу из отеля «Океан» и потом, может, сходить в кино.
Стало быть, в среду вечером я иду в отель «Океан» к моему другу Питу Мдане, потому что мастер Абель дома не ужинает и мне незачем его ждать.
Пит Мдане – славный человек, это я вам говорю. Ему столько лет, сколько мне, двадцать пять, и он такой же высокий, как я, только не такой образованный. Он грамотно пишет и, может, немножко читает, но он необразованный, – вы понимаете? И когда мы вместе, мы не говорим об образованных вещах – только о девушках и шикарной одежде. У него есть эта женщина Сара – я вам должен сказать, что я с ней имел дело и она очень хорошая девушка, только Пит не знает, что я имел дело с его женщиной. У нее и с другими были дела. Да, сэр. Я точно знаю.
И вот я жду, когда он выйдет из отеля, потому что в среду вечером он не работает.
– Привет, Пит, – говорю я.
– Джордж Вашингтон! – говорит он. – Порядок!
– Как жизнь? – говорю я.
– Джордж Вашингтон! – говорит он. – Порядок!
– Значит, у тебя все в порядке? – говорю я.
– Порядок номер сто процентов, – говорит он и улыбается.
Друг, какая у этого Пита улыбка! Отсюда до Иоганнесбурга.
– Джордж Вашингтон! – говорит он. – Порядок!
– Красивая у тебя куртка, – говорю я.
– Еще бы. Два фунта. Еще бы. Красивая! Порядок!
– Как насчет кино? – говорю я.
– Мысль на миллион долларов. Порядок!
– Порядок, – говорю я. – Куда пойдем?
– Хорошие брюки, парень, – говорит он. – Очень хорошие, Порядок!
– Так на какую картину ты хочешь? – говорю я.
– Обожаю летние брюки. Факт. Да, сэр. Ух!
– Я тоже, – говорю я.
– Еще бы, – говорит он. – Ух!
– Что идет в кино, а? Скажи мне, что идет в кино.
– Где ты достал эти брюки, Джордж Вашингтон?
– У Гарри, – говорю я.
– Ух! У этого Гарри водятся отличные брюки. Порядок!
– Какую картину ты хочешь посмотреть, а? – говорю я.
– Сколько стоят такие брюки, Джордж Вашингтон?
– Тридцать шиллингов, – говорю я.
– Ух! Это дешево. Порядок!
– Пойдем…
– Да, сэр. Дешево. Порядок!
– А как насчет того, чтобы нам с тобой сегодня сходить в кино?
– Кино будет просто прекрасно. Еще как!
– О'кей. Стало быть, мы пойдем. Куда мы пойдем?
– Куда ты хочешь идти, Джордж Вашингтон? – говорит он.
– Не знаю, друг. Сам скажи, куда мы пойдем.
– Я в этом не понимаю, Джордж Вашингтон. Скажи ты.
– А что сегодня идет в кино, друг? – говорю я.
– Это вопрос, приятель. Это вопрос.
– Так ты не знаешь, что идет в кино?
– Конечно знаю, только надо хорошенько подумать, Ух!
– Давай думай, Пит.
– Я и думаю, Джордж Вашингтон. Я думаю. Ух!
– Раскинь мозгами, Пит, – говорю я.
– Я раскидываю, Джордж Вашингтон. Еще как раскидываю. Погоди только, я ведь знаю, что где идет. Конечно. Да, сэр. Ага! Гм… Ага! Да, сэр!
– Ты помнишь, что идет в кино, Пит?
– Ага! Гм… Да. Конечно. Мы идем смотреть «Отпуск в Мексике» – порядок?
– Порядок, – говорю я, и мы идем.
И мы едем на троллейбусе в город и идем в кинотеатр «только для неевропейцев», и мы смотрим «Отпуск в Мексике».
Друг, я люблю кино. Потому что ты в нем забываешь о том, о чем хочешь забыть, – вы меня понимаете? Кроме того, в кино много девушек, и мы с Питом их рассматриваем, и ты иногда можешь в кино найти девушку, которую никогда еще не видал, и ты можешь сесть с ней рядом, и погладить ее, и все такое. Это точно, друг. Девушку, которую никогда еще не видал. Я говорю вам чистую правду. А в среду вечером ходить в кино хорошо, – понимаете? Потому что иногда в другие вечера, особенно в пятницу и субботу, туда ходят подонки, и они затевают драки, и заявляется полиция и уводит их. В среду такого не бывает.
А когда фильм кончается и мы выходим, я слышу сзади меня так тихо-тихо:
– Привет! – И я вижу Марию.
– Привет, Мария, – говорю я. – Привет.
– Понравился фильм? – спрашивает она. Но, друг, это совсем не такая Мария, с которой я был тогда ночью. Теперь она грустная. Это видно.
– Еще бы, – говорю я, когда мы выходим на улицу. – Познакомься, Мария, это мой друг Пит.
– Здравствуй, Пит, – говорит она.
– Пит, – говорю я, – это Мария.
– Мария, – говорит он. – Порядок!
– Ты идешь домой, Мария? – спрашиваю я.
– Да, – говорит она.
– Может, мы тебя проводим, а? Потому что нам с Питом нечего делать, – говорю я. – Как, Пит?
– Конечно. Да, сэр, – говорит Пит.
– Нет, я пойду домой одна, – говорит Мария.
– Нет, Мария, мы с Питом тебя проводим, потому что… – говорю я, но не успеваю кончить, потому что к ней подходит какая-то девушка и говорит:
– Мария, я тебя потеряла.
– Это Джордж и Пит, – говорит Мария. – А это Кэти.
– Добрый вечер, Кэти, – говорю я.
– Кэти! Ух! – говорит Пит.
– До свиданья, Джордж. Еще увидимся, – говорит Мария.
– Нет, Мария, – говорю я. – Мы с Питом проводим тебя и Кэти домой, потому что нехорошо двум девушкам идти одним, потому что к ним могут пристать эти подонки.
– Верно, – говорит Пит.
– Нет… – говорит Мария.
– Прекрасно, – говорит Кэти. – Пойдемте.
И вот, друг, мы идем с ними, и это прекрасно. Эта Кэти тоже цветная девушка, как и Мария, только низенькая, и толстая, и в очках.
– Где ты живешь? – спрашиваю я Марию.
– Возле Ганноверской улицы, – говорит она, и мы идем, я с Марией, а Пит с Кэти. Только, честное слово, мы с Марией всю дорогу не говорим друг другу ни слова. Ни слова. И мне уже жалко, что мы пошли их провожать. Но я слышу Пита, и у него все в порядке.
– Тебе нравится моя куртка?
А эта Кэти хохочет, как сумасшедшая. И, друг, что у нее за смех! Я не совру, если скажу, что ее смех слышно в Иоганнесбурге. И вдруг эта Мария хватает меня за руку, и я должен признаться, что мне это приятно, хотя я при этом пугаюсь.
– Это точно красивая куртка, Кэти. Порядок! – говорит Пит.
– Точно, – говорит она и опять хохочет, как сумасшедшая.
– Ага! – говорит Пит. – Рад, что тебе нравится эта куртка, потому что она стоит два фунта. Да, сэр. Два фунта – и порядок!
– Ей-богу? – говорит Кэти. Цветные девушки иногда так говорят.
– Ей-богу, – отвечает Пит.
Мы подходим к дому возле Ганноверской улицы, это совсем рядом с Джанни Гриквой. Только я вам должен сказать, что не хотел бы сегодня встретить этого Джанни Грикву или эту проклятую Нэнси, хотя не знаю почему.
И все время, что мы шли, мы с Марией не сказали друг другу ни одного слова. Но я и не считаю, будто мне надо было говорить, – вы меня понимаете? Но этот Пит! Я говорю вам чистую правду, он все время болтал с этой Кэти. И она так громко хохотала, что я чуть не оглох.
Дом у Марии грязный и маленький. Весь в трещинах. Но когда мы вошли внутрь, там оказалось чисто, это я вам сразу должен сказать. Да, сэр. Правда, чисто. Не просто чисто, а по-настоящему чисто, – вы меня поняли?
Мы входим в комнату, и в ней одна кровать и что-то еще, и все так опрятно.
Тут эта Кэти говорит:
– Моя комната наверху. – И она хохочет, и вид у нее такой, будто она хочет спрятаться за своими очками, – вы понимаете?
Пит говорит:
– Я бы хотел ее посмотреть. Конечно. Порядок! Ух!
А эта Кэти умирает от хохота, и они с Питом уходят наверх, и мы с Марией остаемся одни. Я слышу, как они поднимаются по лестнице, и у меня такое чувство, что вроде бы лучше они не уходили. Лучше бы они остались с нами.
– Садись, – говорит Мария, и я сажусь на кровать.
– Хочешь чаю? – говорит она, и я говорю, что хочу.
Она готовит чай, и, друг, мы с ней опять не говорим ни слова.
Она дает мне чашку, и садится на кровать рядом со мной, и сбрасывает свои туфли, и подбирает ноги под себя.
Так мы сидим с ней, может, целые годы и не говорим друг другу ни слова. И слышно только, что там наверху эта чертова Кэти хохочет так, что у нее от хохота очки должны треснуть.
И все это время ни одна мысль не приходит мне в голову. Я просто оглядываю комнату и ни о чем не думаю. Друг, мне хочется что-то сказать, но я не могу придумать, что сказать.
– Еще чаю? – спрашивает Мария.
– Пожалуйста, – говорю я, и она наливает мне еще одну чашку, и я ее выпиваю. И Мария тоже выпивает еще одну чашку чаю. И тут я говорю:
– Друг, мне тебя жалко.
– Почему? – говорит она.
– Потому что у тебя из-за меня были неприятности, – говорю я.
– Ах, это, – говорит она.
– Этот Джанни Гриква не имел права тебя бить, – говорю я.
– Да, – говорит она.
– Ты мне нравишься, Мария, – говорю я и не вру.
– У тебя есть Нэнси, – говорит она. И я молчу. И тут она смеется – в первый раз смеется за весь вечер. Но совсем не так, как смеялась в доме Джанни Гриквы. Друг, совсем по-другому.
– Мария?
– Да?
– Отчего ты смеешься?
– Да так.
– Мария?
– Да?
– Почему ты сказала, что я – сплошная неприятность?
– Я этого не говорила.
– Ты это сказала у Джанни Гриквы. Ты сказала, что я – сплошная неприятность.
– Ах, да. Да, ты – сплошная неприятность.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что ты и вправду – сплошная неприятность, мальчик.
– Мария?
– Да?
– Я не такой.
И она молчит. И все это время мы с ней разговариваем тихо и по-дружески, – вы меня понимаете?
– Мария?
– Да?
– Я тебе нравлюсь?
– Ты мне нравишься, мальчик.
– Мария, почему же ты говоришь, что я – сплошная неприятность?
– Я тогда рассердилась. Вот почему.
– Рассердилась на меня?
– Нет.
– На кого ты тогда рассердилась?
– На этого Джанни Грикву.
Я молчу, но понимаю, что эта Мария правда считает, что я – сплошная неприятность.
– Хочешь сигарету? – спрашивает она. И я беру сигарету, и она берет сигарету, и мы закуриваем и пускаем по комнате дым. Мне хорошо. Мне тепло, и я чувствую, что Марии тоже тепло. Мне не надо до нее дотрагиваться, чтобы знать, что ей тоже тепло, – вы меня понимаете?
Но, друг, эта чертова Кэти опять хохочет там наверху.
– Тебе нравится эта Кэти? – спрашиваю я.
– Она моя сестра, – говорит Мария.
И я молчу и только пускаю дым.
– Да, хохотать она умеет, – говорю я. – Вы тут живете вдвоем?
Мария снова смеется.
– Вдвоем, с моими четырьмя братьями, и с моей матерью, и двумя малайцами, – говорит она. – Друг, это же Шестой район.
– У тебя уютная комната, – говорю я.
– Это ненадолго, – говорит она.
– Почему? – говорю я. – Почему ненадолго?
– Мальчик, когда Джанни Гриква выгнал меня, я перестала зарабатывать деньги. И это означает, что долго мне тут не прожить.
– Как жалко, Мария, – говорю я, потому что мне на самом деле очень жалко эту девушку, и я не знаю, что еще я могу ей сказать.
– Да, – говорит она.
– Тогда вечером у Джанни Гриквы ты крикнула, что любишь зулусов, – говорю я.
Но она молчит и все курит.
– Должен признаться, ты у меня – первая цветная девушка, и ты мне очень нравишься, – говорю я.
Но она молчит по-прежнему.
И я говорю:
– О'кей?
– О’ кей, – говорит она.
И мы просто сидим, и молчим, и ничего не делаем, просто сидим.
И тут дверь открывается, и входит Пит.
– Джордж Вашингтон! Порядок! Ты кончил? – говорит он.
– Да, – говорит Мария. – Он кончил. – И она улыбается, друг, улыбается мне.
– Ух! – говорит Пит. – Пошли, друг. Пошли!
И я встаю, и иду к двери, и у двери желаю Марии спокойной ночи.
– Еще увидимся, – говорит она. И мы уходим.
– Друг, это было здорово. Еще как! Да, сэр. Порядок! – говорит Пит. – Этой Кэти я точно понравился. Да, сэр. И в той комнате были еще люди, это я тебе говорю, Джордж Вашингтон, в той комнате были еще люди, и я им тоже понравился. Да, сэр. Приличный дом! Порядок! Ага! Приличный дом!
Нам приходится идти на Си-Пойнт пешком, потому что последний автобус уже ушел. Когда мы подходим к отелю «Океан», я говорю Питу:
– Послушай, Пит. Завтра после обеда я пойду к Гарри покупать обновку. Пойдем со мной?
– Еще как пойдем, – говорит он.
– Встретимся здесь в половине четвертого. О'кей?
– Мы еще как пойдем с тобой к Гарри.
– В четверг после обеда ты свободен?
– Конечно. Конечно. Да, сэр. В среду вечером и в четверг вечером у меня выходные дни. Конечно. Да, сэр.
– Стало быть, о'кей. Встретимся здесь на улице в половине четвертого. О’кей? – говорю я.
– Можно. Можно. Друг, мне нравятся брюки, которые ты купил у Гарри. Люблю летнюю одежду. Порядок!
По дороге домой я думаю, что мне нравится этот Пит.






