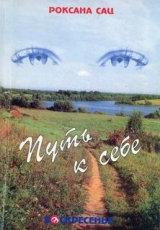
Текст книги "Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре"
Автор книги: Роксана Сац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Возвращение
Шестнадцать коек в одноэтажном деревенском доме. Одна из них в углу моя. Пятнадцать ребят ходят на цыпочках и говорят шепотом, чтобы я не проснулась. Потому что мне нужен покой. Никто из ребят не сказал мне: «как мы без тебя соскучились»… или «ах, как плохо ты выглядишь, от тебя осталась четверть»… Нет, мне говорят: «доходяга»… «дистрофик»… «мешок с костями»… но может ли что-то больше ласкать слух?! Каждое утро на моей тумбочке появляется пол-литровая банка с молоком – это плата натурой за курточку Мишки Михайловского, которая внезапно стала ему мала. Пошла в обмен и белая довоенная рубашка Витьки Макарова, единственная приличная на все мальчишечье общежитие, – она превратилась в увесистый шматок сала. А из кухни по несколько раз в день наведывается тетя Маня, принося что-то «тебе сейчас самое располезное».
Тихо в доме. Лишь шуршат мыши, тикают ходики и скрипят половицы под моими ногами. Я подхожу к зеркалу. Оттуда на меня смотрит странное, невероятно худое существо с удивленными светлыми глазами. Рот у этого существа глупо растянут, оно чему-то радуется. Чему? Может, тому, что сегодня получила письмо от мамы? Или тому, что снова здесь, дома, и скоро из школы придут ребята? И еще, конечно, тому, что наши на фронте наступают, гонят с родной земли фрицев! И пусть еще пляшут за окном снежинки, свет уже весенний, предвещающий наступление теплого, ласкового лета. Хорошо!
Дни бежали за днями. Возвращались силы. Болезнь становилась воспоминанием. Шел последний месяц моей детдомовской жизни, и каждый новый день по-новому открывал тех, с кем свела меня за это время жизнь, судьба, война. Но как же мы все изменились! Ну, разве можно было разглядеть в замкнутом, отрешенном от всего внешнего подростке-юноше, самозабвенно решающем какие-то невероятной трудности задачки и уравнения? прежнего Витьку Макарова, отчаянного драчуна и дебошира? А Зина Дулина? Вчерашняя грязнуля и нескладеха стала стройной, влекуще-грациозной и весьма домовитой девицей. Зато наша бессменная староста Рая Величко, которой предрекали карьеру певицы, неожиданно увлеклась агрономией и целые дни возилась с рассадой, которую выращивала тут же на подоконнике.
В тот мартовский вечер в общежитии девчонок хозяйничали мальчишки. Это они жарко натопили огромную пузатую печь с вмазанным в нее казаном, у которого священнодействовал Мишка Михайловский, сосредоточенно помешивающий что-то, источающее одновременно смрад и благоухание. И в предбаннике – так принято называть сени – тоже вовсю орудовали мальчишки, – лицам женского пола туда входить категорически запрещено. А потом наступает момент, когда всех девчонок выгоняют и из маленькой комнаты, так как и здесь тоже необходимо сделать кое-какие приготовления.
Никто из нас тогда не знал, что этот вечер станет нашим последним общим праздником, но все мы готовились к нему и ждали с особым нетерпением. Девчонки потому, что как-никак, а 8 марта – это их законный праздник, а для многих мальчишек радость девчонок стала их радостью. Нет, не только потому обрела прежде нескладная Зина женственность и грацию, что стала старше, но и потому, что раскосые монгольские глаза Женьки Чевычина выделили ее из девчонок вообще в одну-единственную девочку. И не случайно Нина Прохорова, в прошлом Нинка Оторва, несмотря на заурядные способности, готова рядом с Витькой часами корпеть над задачником – в нашу жизнь вошла Любовь.
Бывает так, что каждое слово, самое обычное, приобретает особый второй смысл. Так было в тот вечер. Я видела, что, что бы ни делал Мишка, он делает это для меня, куда бы ни смотрел, видит меня, ловит каждое мое слово. И я говорила со всеми для него одного и радовалась, видя, что он расслышал в моих, казалось бы, ничего не значащих словах только нам понятный главный смысл.
– Хочешь пирога? – обращается ко мне заботливая Нинка. – Нет, лучше халвы, – отвечаю я, и Мишка улыбается: он знает, что халва из жмыха мне нравится потому, что это он ее изобрел и приготовил.
Звучал Шопен – мазурки, вальсы – в исполнении Вали Щукиной, пели хором песни, читали стихи. И было в нас в этот вечер чувство необычайной близости ко всем вместе и к кому-то одному.
Я вышла на крыльцо. Прямо за домом начиналась степь. Прихваченная морозцем после солнечного дня, она переливалась, искрилась, сверкала…
Но вот скрипнула дверь, и большая черная тень улеглась рядом с моей тенью – это на крьшьцо вышел Мишка. Затем почти сразу возникли еще две тени – Витькина и Нинкина. И, наверное, услышав наши голоса, в конюшне заржала Зорька.
– А что если… – начал Мишка.
– Вот бы здорово! – подхватил Витька, а Нинка добавила:
– Что ж ты стоишь? Запрягай!
И, правда, что если действительно промчаться в санях по залитой луной мартовской степи?!
Поняв, что предстоит прогулка, Зорька довольно зафыркала и сама встала в оглобли, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. За ней семенил, не отставая ни на шаг, жеребенок, прозванный Чертенком за смолисто-черную без единого пятнышка масть.
Отмахав рысью верст десять, притомившаяся Зорька «по собственной инициативе» подвезла нас, наконец, к огромному ржаному стогу посреди степи. А желтый лунный шар, конечно, не случайно завис прямо над нашими головами, а чтобы своим прозрачным легким светом подсветить лица, ведь нам так важно было видеть друг друга. Нет, мы не целовались украдкой и не было слов-признаний или клятв, но рядом с Нинкой был Витька, а рядом со мной Мишка и что бы ни случилось потом в жизни, я знаю, все мы будем благодарны ей за эту ночь…
Однако, видно, не совсем я еще окрепла, если, вернувшись домой, заснула так крепко, что не услышала, как утром ни свет ни заря в общежитие прибежала тетя Маня и закричала, чтобы все срочно шли в школу, где скажут что-то очень важное. Только когда всей ватагой ребята снова ввалились в дом, я узнала, что получен приказ о реэвакуации детдома и через три дня мы едем в Москву.
И снова дорога. Стучат-стучат колеса: тук-тук, тук-тук, пыхтит-фырчит паровоз, трудится, напрягается, тащит за собой вагоны. Самые переполненные, самые беспокойные два последних – в них едем мы. Едем в Москву.
* * *
Нет! Совсем неласково примет меня поначалу родная столица. Нескоро я увижу маму и встречу человека, который станет моей судьбой. Но это уже друге я история.
Другая история
Возвращение
Вокзал… Место встреч и разлук. На Казанском вокзале, куда наш поезд прибыл в семь минут седьмого вечера, первое, что бросилось в глаза, – большие привокзальные часы, а возле них встречающие.
Меня никто не встречал и не мог встречать – некому. Может, поэтому особенно больно было видеть поцелуи-объятия других наших ребят, теперь уже бывших детдомовцев, у которых объявились родственники. Тех, у кого их не было, ждал автобус, который должен был нас куда-то отвезти для решения дальнейшей участи. Но я детдомовской «участью» была уже сыта по горло, поэтому заявив ответственным за это «мероприятие», что родственники ждут меня дома, направилась к метро. Скоро однако выяснилось что не только родственников, но и дома у меня не было. После маминого ареста из конфискованной органами трехкомнатной квартиры одна комната была «великодушно» оставлена нам, детям. Но брат Адька ушел на фронт, я попала в детдом, а комната осталась бесхозной.
Когда я позвонила в знакомую дверь по Карманицкому переулку 8, мне открыла совсем незнакомая женщина. Это была беженка из Западной Украины, которой вместе с двумя детьми была предоставлена наша комната для временного проживания. Где проживать мне, было неизвестно…
Первую ночь перекантовалась у жившего этажом ниже Вовки Волкова. Именно перекантовались. В раннем детстве мой друг и даже рыцарь – ребята нашего двора, верно, не без основания считали, что он ко мне неравнодушен, Вовка теперь превратился в очень мрачного верзилу, угрюмого и подозрительного. За весь вечер он не произнес и пяти фраз, все время выглядывал в окно и к чему-то прислушивался. Увы! – не зря: через несколько дней его посадили за кражу, а спустя 2 года он умер в тюрьме, забитый дружками по криминалке.
В книге моей мамы «Новеллы моей жизни» есть глава о Сулержицких. Главный «Сулер» – так все называли его в Московском Художественном театре, был Леопольд Антонович Сулержицкий, друг и сподвижник Константина Сергеевича Станиславского. Именно он проделал основную работу по постановке знаменитой «Синей птицы» во МХАТе. О его остроумии, буйных всплесках неуемной фантазии ходили легенды, а плодами его веселых и подчас фантастических замыслов были не только знаменитые мхатовские капустники, но и практическое претворение в жизнь учения Льва Толстого о непротивлении злу и помощи ближним. Он много раз бывал в Ясной Поляне, встречался с самим Львом Николаевичем, а затем отправлялся по городам и весям России, организовывая комитеты помощи голодающим. Идеями толстовства он увлек большую часть труппы МХАТа, в том числе моего деда композитора Илью Саца и известного актера Николая Александрова, отца будущей жены своего сына Дмитрия.
Машенька Александрова… Она же Мария Николаевна Александрова-Сулержицкая или Темусенька, – так называла ее я (сокращенно от тетя и Муся), в чьей судьбе она сыграла огромную роль.
Сначала наше знакомство было заочным. От нее ко мне и от меня к ней шли из Москвы в детдом и обратно письма. Я писала коротко о скудных детдомовских событиях, она более подробно, главным образом, об Аночке. Аночкой мы с Адькой называли нашу бабушку – Анну Михайловну Сац. После того как Адька, а затем я покинули Москву она как-то зашла к Марии Николаевне (они были подругами) да так у нее и осталась.
Наверное, у каждого человека бывают какие-то необъяснимые предчувствия. Так случилось со мной, когда однажды я получила письмо от Марии Николаевны. Я уже получала их и до этого, но, когда взяла в руки ЭТО, меня словно обожгло.
– От кого посланьице? Плясать будешь? – игриво поинтересовался кто-то из ребят.
– Идите вы все к черту! – вдруг заорала я, бросилась в другую комнату и упала на кровать. Я знала, ЧТО в этом письме, оно лишь подтвердило то, что прочла, не раскрывая, сердцем: бабушка умерла.
И вот на следующий по приезде в Москву день я иду по «обратному адресу» детдомовских писем на Огарева 12, с трудом волоча тяжеленный чемоданище. В нем бесценное сокровище – пуд муки, вымененной на всю детдомовскую экипировку – от застиранной маечки до ватника.
Я позвонила. Раздался заливистый с визгом лай – и дверь отворилась. На пороге крепкая, лет 40 женщина в мужских брюках-бриджах и размахаистой кофте. Волосы пепельные с проседью, несколько длинноватый нос… Но все это неважно: глаза – вот главное: лучистые, голубовато-фиолетовые и такие добрые.
– Я… я… я… – хотела, но не сумела представиться… – Но она все поняла.
– Ксана! Ксаночка приехала! – На ее восклицание тотчас выбежал, а вернее, припрыгал – одна нога нормальная, другая в каком-то специальном огромном башмаке – тщедушный, но чрезвычайно живой Дмитрий Леопольдович, тоже голубоглазый, с венчиком редких, но необычайно пушистых неопределенного тона волос. Пока он меня обнимал, я заметила высунувшиеся из разных комнат две головы и одну руку. Рука заграбастала продолжавшую визгливо лаять собачонку, а голова в роскошных пепельных кудрях внимательно меня разглядывала. И рука, и голова принадлежала «особи» мужского пола, лет 14, Леопольду, а попросту Левке Сулержицкому – сыну. Вторая миниатюрная прелестная головка, которая при раскрытии двери тотчас «дополнилась» всем прочим, что положено 12-летней девочке, была Марьянина, дочери.
За сутки пребывания в родной столице я трижды слышала одни и те же вопросы: «Ну, и что ты будешь делать дальше? И где жить думаешь?» Их мне последовательно задали женщина, занявшая нашу комнату в Карманицком переулке, мать Вовки Волкова Анна Алексеевна и очень близкая родственница, подолгу в прежние благополучные годы гостившая летом у нас на даче, а сейчас проживающая одна в трехкомнатной квартире на Арбате. Вопросы задавались с единственной целью – дать понять, чтобы мне не вздумалось ни на что рассчитывать. Здесь вопросов не задавали. Само собой разумелось, что жить мне отныне в этом доме и что я становлюсь равноправным членом семьи.
– Я всегда мечтал, что у меня будет много детей, теперь по крайней мере хоть трое, – окончательно определил мой статус Дмитрий Леопольдович. – Пойдем, я угощу тебя чудной яичницей. – и запрыгал, увлекая меня по направлению к кухне. Там из больших ящиков, занимавших ее большую часть, он стал доставать яйца. Большинство разбитых им яиц были черными от гнили, в некоторых находились останки невылупившихся птенцов, но когда обнаруживалось нечто желто-белковое, Дмитрий Леопольдович приходил в восторг:
– Превосходное! Почти без запаха! Можно сказать, почти диетическое!
Между тем от благоухания этого «почти» пришлось срочно открыть форточку, а Мария Николаевна «просто на всякий пожарный» «досолила» яичницу каким-то едко пахнувшим лекарством из висевшей в углу аптечки.
– Видишь ли, Ксаночка, – просвещала она меня, пододвигая сковородку. – Советская власть поделила население на три категории: литер-атеры, литер-бетеры и кое-какеры. Мы принадлежим к кое-какерам.
В то время продукты выдавались по карточкам трех видов – литер А, литер Б и прочие. «Прочим», как правило, не доставалось почти ничего. Да, «кое-какерам» приходилось крутиться, и они крутились, вернее, крутилась она, Мария Николаевна, наша Темусенька (интересно, что вслед за мной так называть ее стали и родные дети).
Чуть ли не еженедельно она отправлялась менять вещи в подмосковных деревнях и селах. Перед этими походами обыкновенно производился «смотр имущества», во время которого, например, выяснялось, что у каждого члена семьи совершенно необязательно должно быть свое пальто, в то время, как два человека одного роста, в частности, Дмитрий Леопольдович и Левка прекрасно могут обойтись одним.
– А посмотрите, сколько у нас полотенец! – восклицала Мария Николаевна. – Можно подумать, что здесь у нас баня и все только и делают, что с утра до вечера моются… – и она бросала в рюкзак четыре из имеющихся пяти.
Но рюкзак заполнялся не только вещами Сулержицких – Мария Николаевна обслуживала чуть ли не весь подъезд. Пенсионные актрисы МХАТа, немощные старушки несли ей свое барахлишко, которое она обменивала на муку, отруби, горсть крупы, картошку… Рюкзак трудно было поднять уже при ее уходе на «промысел», но это не шло ни в какое сравнение с тем, что на своих руках она доставляла по возвращении, причем большая часть предназначалась старушкам. Одна из них, кстати, отблагодарила Темусеньку, отказав ей перед смертью свою дачу на Истре с роскошным участком в жасмине, сирени, склоненных над водою плакучих ивах и березах и с очень старым деревянным домом, густо населенным Левкиными и Марьяниными друзьями, обитавшими в основном на чердаке, где «спальные принадлежности» заменяло пахучее сено. Подолгу жили на этой даче и другие многочисленные давние или совершенно случайные знакомые Сулеров, все, кому вдруг вздумалось «отдохнуть на природе».
Я тоже не раз туда наезжала, но это много позже, ну, а в те дни… В те дни я осваивалась с новой для меня ролью в удивительном доме. Он включал четыре основных и одну маленькую «закуточную» без дверей комнаты, небольшую кухню, коридор, а также туалет и ванную. В последней всегда что-то замачивалось, иногда неделями, считалось, что таким образом белье «само выстирывается». Две комнаты на противоположных концах квартиры принадлежали Левке и Марьянке. В каждой из них главенствовало пианино и при нем стул-вертушка. Рано утром Мария Николаевна ставила на газовые конфорки ведра с водой, которые потом служили обогревами. Доведя воду до кипения, ведра затем подставляли под стульчики и, окутанные паром, (квартира не отапливалась) Левка и Марьянка сотрясали воздух звуками гамм, арпеджио, бессмертными творениями русских и зарубежных классиков.
К этим благородным звукам все время прислушивался Дмитрий Леопольдович из большой комнаты. Чего в ней только не было! Эскизы бесчисленных декораций, фотографии, груды книг вперемежку с какими-то лоскутами, горшками и чашками, и повсюду зарисовки и макеты парусников в уменьшенно-игрушечном виде, воплощавшие бесчисленные бриги, фрегаты, яхты, словом, все многообразие того, что в минувшем веке бороздило моря и океаны. Дмитрий Леопольдович был блестящим знатоком парусного флота и в то время составлял словарь его терминов, он же позже будет консультировать фильм «Адмирал Ушаков».
Из всего семейства только Дмитрий Леопольдович получал служащую карточку – что значило 500 граммов хлеба, все остальные иждивенческие – 300. Я довольно долго не получала никакой – а значит, теперь Мария Николаевна за обедом делила общий хлебный паек не на четыре, как раньше, а на пять частей. Однако были еще и две собаки – беспородная Нелька и появившийся уже при мне щенок овчарки Джоник. Его появление у Сулеров сперва было продиктовано сугубо практическими соображениями. Дело в том, что чистопородная овчарка являлась существом военнообязанным (на фронте они выполняли множество функций: от санитаров до подрывников – собаки с привязанными к ним гранатами бросались под фашистские танки) и на ее выращивание полагался солидный паек, который включал в себя такие деликатесы, как гречка и даже мясо.
Прослышавшая об этом Мария Николаевна поехала в собачий питомник, где ей предложили на выбор несколько щенков. Все они были толстые, крепкие, с вставшими, несмотря на ранний возраст, локаторами-ушами. Однако она заметила, что в стороне попискивает лопоухий щенок с каким-то искривленным загнутым вверх хвостиком и узловатыми лапами. Оказалось, выбракованный из-за плохого экстерьера и по этой же причине подлежащий уничтожению. Мария Николаевна тут же попросила отдать ей именно его и добилась своего. Но в силу прирожденных дефектов щенок был признан невоеннообязанным, а значит, никакого пайка на него не полагалось. Так Джоник стал еще одним, кроме меня, нахлебником в семье Сулеров.
Вскоре в квартире появились еще Машка и Васька – два месячных поросенка. Собственно, это на их содержание и выращивание были получены «некондиционные» яйца, яичницами из которых все мы питались, а также мешок отрубей и тыквенное повидло. Из отрубей пеклись вкуснейшие лепешки, а еще более вкуснейшими, если это возможно, они становились от намазываемого на них повидла. Но появились поросята, когда все это было уже практически съедено, а между тем до осени – времени, отпущенного им на жизнь, – после чего они должны были превратиться в свинину, половина из которой принадлежала «выращивателям», было еще месяцев пять. Ситуация становилась критической.
Выручила одна из опекаемых старушек. Она сообщила, что на берегу Оки в Соколовой Пустыни у нее есть зимний дом, где на чердаке большие запасы сушеной крапивы и жмыха-отходов от подсолнечника. Старушка утверждала, что лучшего корма для поросят в природе не существует. Сначала хотели за этим богатством съездить, но я предложила на какое-то время там вместе с животными поселиться: в школу идти в этом году поздно, а молодая крапива и всякая травка – был уже апрель, – наверное, будут не лишними в поросячьем рационе.
И вот я на берегу безбрежной реки в деревянном домике, почему-то находящемся в отдалении от всех других домов поселка. Первое, с чем столкнулась, – никакой крапивы и жмыха на чердаке не осталось, все съели мыши. В отместку парочку из них с ходу слопала Нелька, не поделившись с остальными. Между тем мои продовольственные ресурсы составляли чуть отрубей, чуть гречки и чуть повидла, но все эти «чуть» составляли большую часть того, что вообще было в то время у Сулержицких. Сварив на печке из половины своих запасов некое хлебово и разделив его по-братски со своим поголовьем, я легла спать, строя неясные планы на будущее. Их осуществление начала утром с посещения сельсовета, где мне поставили на мои продовольственные карточки печать, а это значило, что я могу их полностью отоваривать в местном сельмаге. Однако, кроме 600 граммов бурого хлебушка – двухдневная норма – отовариваться было нечем, а значит, мои планы стали еще более неясными.
* * *
Хотя мой домишко находился более чем в двух верстах от остальной деревеньки, сельское «радио» быстро разнесло среди местного населения, состоящего в основном из подростков и бабулек с дедульками, весть обо мне и моем поголовье. Самым ценным в этой информации было известие о поросятах, которых подросток по имени Леха тотчас решил украсть.
Выследив, когда я покинула свои апартаменты, он беспрепятственно вошел в дом, запихал поросят в мешок и уже собрался уходить, как на пороге возник Джон. Если на захлебывающуюся визгливым лаем Нельку он до этого не обращал никакого внимания, то овчарка, преградившая путь, его несколько смутила. Однако разглядев, что это скорее щенок, чем взрослая собака, он с деревенской удалью решил дать ей пинка. Не тут-то было. Едва он занес ногу, как Джон на него бросился, а следом и расхрабрившаяся Нелька. Джон мощным толчком «забросил» Леху на диван, а дворняга порвала брюки и здорово тяпнула за ногу, за что-таки была награждена пинком, навсегда отбившим у нее охоту связываться с Лехой.
Когда я вернулась, он простодушно и подробно сам про все рассказал и в конце поинтересовался:
– Милицию звать будешь? Тогда опять в сельсовет топай. У нас один мильтон на всю округу и тот только в райцентре.
Но «опять топать» мне совсем не хотелось, а вот хотя бы выпить чаю очень. Я стала колоть лучину, но Леха отобрал у меня топор, разжег печь, поставил воду, а потом смущенно попросил зашить брюки, располосованные Нелькой до основания. Облачившись в них снова, он сказал:
– Ну, я пошел, – и исчез.
Но ненадолго. Довольно скоро его конопатая белобрысая рожица показалась сперва в окне, затем он воссел на подоконнике, и вот уже в самом доме.
– Сковородка какая-никакая есть? – поинтересовался он. – Я тут у бабки своей кое-чего спер, – и Леха вывалил из узелка несколько картофелин и кусок сала. – Все веселей, чем пустой кипяток хлебать.
Эх! Леха! Леха! До чего же ты был мил, наивен, хитер и бесшабашен. И что бы я без тебя делала?! Именно Леха построил для свиней чуланчик, навесил на него дверь, а на дверь большущий замок – «от шпаны».
– Думаешь, я один, чуть что где плохо лежит, тащу, почитай все так.
Он же решил проблему кормежки хавроний и собак, указав на обыкновенные ракушки, бесчисленное множество которых находилось на берегу и отмелях. Правда, они были тяжеленные и таскать их приходилось с утра до вечера, но брошенные в огромный чугун с кипятком (его тоже притащил, конечно, Леха) раскрывались, а находящиеся внутри моллюски, как видно, были очень питательными: поросята росли и жирели, шерсть у собак лоснилась.
Леха приходил ко мне каждый день. Мы вместе ловили рыбу, ходили за грибами и ягодами, гоняли чаи, и каждую свободную минуту он просил меня «чего-нибудь порасскажи…» И я рассказывала, вернее, пересказывала любимые книжки, сам он даже читал плохо, хотя кончил начальную школу.
Так прошел апрель, май, июнь, начался июль… Однажды, я только проснулась, вбегает Леха:
– Тебе телеграмма! – Протягивает бланк, а глаза тревожные.
В телеграмме: «Срочно возвращайся в Москву. Лева с Марьяной тебя сменят. Приезжает мама».
Радость меня переполняла. Леха ее не разделял.
– Ты что, в Москву намылилась?
– Мама приезжает, ты же видел телеграмму.
– А свиньи как же? За ними пригляд нужен и мало ли жулья.
Я попросила его присмотреть за животными, пока не прибудут Левка с Марьянкой, но Леха отрезал:
– Что я вам нанялся, что ли? Сама их дожидайся.
– Ты просто вредничаешь, не стыдно?
– Не уезжай, – попросил совсем тихо. – Или ладно: езжай и сразу назад. Вернешься?
– Не знаю. Как получится.
– А я ведь на тебе жениться решил, как только 18 исполнится.
– Жениться? Да ты что?! – Мне стало смешно, а он, видя это, вконец расстроился.
Милый Леха! Наши пути разошлись в тот вечер. На перроне, где я с нетерпением поджидала электричку, он все повторял, чтобы я не тревожилась за собак и свиней. Но я о них не думала. Я думала о встрече с мамой и мысленно возвращалась в те дни, когда появилась здесь впервые.
* * *
Все началось со встречи с мамой. Она указала телеграммой день приезда в Москву, но точного времени, а главное, каким видом транспорта – самолетом, поездом или пароходом, прибывает, указано не было. Поэтому я с раннего утра встречала ее на улице, ведущей к дому, вглядываясь во всех проходящих мимо женщин.
– Смотри! Это не мама? – спросила тоже вышедшая Темусенька, указывая на «свежевыкрашенную» блондинку в серебристом плаще и броском ярко-красном платье.
– Нет! Что вы! – отвергла я предположение с такой решительностью, что мы даже глядеть не стали, куда она направляется. А между тем блондинка вошла в наши ворота, и это была моя мама.
Полностью отбыв пятилетний «основной» и годовой дополнительный (пребывание в строго указанном месте) сроки заключения, она, наконец, получила право на жительство в любом городе нашей необъятной родины, кроме Москвы и Ленинграда. Между прочим несколько лет назад, когда она еще «отбывала» в Бутырках, сам Берия предложил ей жить и работать в Алма-Ате, но она гордо отказалась: «Вы знаете, я ни в чем не виновата. Я была незаконно арестована в Москве и должна туда возвратиться».
Что ж… Берия вернул ее… в Бутырку.
Но Алма-Ата, видно, была ей предназначена судьбой. В высоких инстанциях, куда ее теперь вызвали, маме предложили работу режиссером в алма-атинском оперном театре и организацию первого тюза Казахстана.
Со времени маминого ареста прошло более шести лет. Мы заново открывали друг друга. Впрочем, я, наверное, до конца так и не открыла ее никогда…
«Я никого не боюсь», – часто говорила она, и это было правдой, как правдой была бескомпромиссная твердость ее характера в нерасторжимости с неиссякаемой женственностью.
В Москве тогда ей было разрешено пробыть не более суток, но никто из знакомых и друзей, с кем она встречалась, не смог бы разглядеть в ней…
<потерянный текст>








