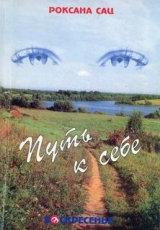
Текст книги "Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре"
Автор книги: Роксана Сац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Восемь на восемь
Интернат и детский дом – учреждения разные, и не так-то просто превратить их в одно. Хотя формально это было достигнуто одним росчерком чиновничьего пера, фактически под одной вывеской существовали два, а вернее, даже три различных коллектива, так как перед войной в собственно детский дом влили группу ребят из колонии нарушителей, которые очень быстро стали главенствовать. Чтобы получить однородную ребячью массу, мудрое начальство в лице Доры Николаевны решило ее как следует перемешать. Вследствие этого 8 интернатских девчонок, среди них горько плакавшая Тамарочка, были переведены из общежития, где была я, в другое, а на их месте появилось 8 детдомовок.
Был вечер – первый после вселения «новых». Шестнадцать человек настороженно присматривались друг к другу. Но в этой настороженности не было тишины: детдомовцы сразу повели себя шумно-вызывающе. Они веселились. Смеялись по поводу и без, а вернее, из всего делали повод для ухмылок, хихиканья, гоготанья, – я никогда прежде не знала, что смех может быть столь омерзителен.
– Ой, девочки, держите меня, ой, не могу, – то и дело выкрикивал кто-нибудь из «обхохатывающихся».
Особенно усердствовали рябая Зинка и Лидка, востроносая «лисья» девчонка с разными глазами – один серый, другой зеленый. Обе они не так давно отбыли срок в колонии, держались бывалыми девахами, готовыми к передаче богатого жизненного опыта другим, и добиваясь над этими другими превосходства. А для этого нужно было их как следует огорошить, подавить и унизить. Однако само понятие другие довольно растяжимое, и детдомовцы, как нападающая сторона, стремились нащупать слабое звено в обороне противника, безошибочно выделив изнеженную Леночку и рыхлую Дину. И вот на кровать к Леночке подсаживается Лидка и «нежно» ее обнимает. То же самое тотчас проделывает рябая Зинка с Диной, вызывая этим очередные приступы безудержного хохота у всей остальной компании. У Леночки на кровати стоял чемодан, она что-то оттуда доставала, и Лидка, сложив губы сердечком, что, как выяснилось, само по себе безумно смешно, попросила разрешения «посмотреть вещички».
– Смотри, пожалуйста, – сказала растерявшаяся Леночка, не подозревая, какой «цирк» сейчас начнется. Вынимая по одной сорочки, чулки, трусики, Лидка демонстрировала «предмет», а затем трусики надевались на голову («какая чудненькая кофточка», – изрекала при этом Лидка), а чулки превращались в перчатки и при этом показывали кукиш своей исконной хозяйке. Надо сказать, что Лидка была довольно цельна и даже остроумна, и я заметила, что смеются уже не только детдомовские, но и свои, да и сама Леночка угодливо подхихикивает.
Шутка подруги так понравилась Зинке, что она решила то же самое проделать с Дининым чемоданом и бесцеремонно выволокла его из-под кровати. Но не способная ни к чему, кроме сквернословия, она вовсю развернулась на этом поприще.
Первая не выдержала обычно очень спокойная Галя.
– Пожалуйста, прекрати ругаться, – сказала она, вызвав своей репликой подлинное ликование. Лидка и Зинка делали вид, что просто умирают от хохота, при этом все время поглядывая на самую старшую из своих Ларису, которая по всему чувствовалось является вожаком всей компании. Но Лариса не смеялась. Медленно поднялась со своей кровати, вразвалочку подошла к Галиной и плюнула на ее подушку.
– А в следующий раз в рожу получишь, если будешь гавкать, – сказала она и так же вразвалочку вернулась на свое место.
Тогда встала украинка Рая Величко, в 15 лет выглядевшая молодицей. Широкие брови ее сдвинулись.
– А ну вытри, – сказала она низким бархатным голосом.
– Еще чего, – процедила Лариса, но со своего места поднялась. Они стояли друг против друга, обе рослые, внушительные, красивые. Неизвестно, чем бы эта сцена закончилась, если бы опять не Галя:
– Да, ладно, Лариса, я вытерла уже…
Лариса победно усмехнулась и вернулась на свою кровать, Рае ничего не оставалось, как сделать то же самое.
* * *
Известно, что ссоры и драки в ребячьей среде – дело обычное, но только бывают они разными. Когда я была маленькой и жила на родном Арбате, то тоже часто дралась с мальчишками. Но эти драки, как хорошие сказки, всегда имели «добрый» конец. Если побеждали меня, это, правда, случалось редко, то победитель тут же оказывал «посильную медицинскую помощь», а потом отправлялся ко мне домой, чтобы клятвенно заверить домочадцев, что фонарь под глазом – следствие неудачного падения с лестницы. Если же победа доставалась мне, то потом мы часто вдвоем уплетали одно мороженое, испытывая особое удовольствие от общества друг друга.
Однажды я подралась с самим Толиком, признанным мастером кулачного боя. Эта историческая битва происходила на заднем дворе возле помойки при большом стечении окрестного ребячьего населения. Попытка кого-то из жильцов, вышедшего с помойным ведром, предотвратить кровопролитие, не увенчалась успехом: зрители единодушно заверили «миротворца», что «это они так играют», а мы с Толиком, не переставая тузить друг друга, перебазировались за помойку, где нам уже никто не мешал. Хотя эта битва, по единодушному суждению присутствующих, окончилась вничью – у меня был разбит нос, а у Тодлика распухла нижняя губа и вылетел «вне очереди» молочный зуб, она снискала мне уважение и даже славу далеко за пределами родного двора. С Толиком мы потом так сдружились, что, наверное, не без основания однажды на кирпичной стене нашего дома появилось нацарапанное oгромными буквами: КСАНА + ТОЛИК = ЛЮБОВЬ… Нет, битвы на родном дворе, как июльские грозы, не портили погоды, лишь давали выход накопившейся энергии. Отношения с восемью новенькими детдомовцам напоминали промозглый осенний дождь, нудный и нескончаемый…
* * *
Вскоре, кроме открытых столкновений, между нами возникло и нечто иное, особенно тревожащее. Так, я заметила, что любительница сенсаций Леночка не без удовольствия пересказывает своим старым подругам «гадости, которые говорили сегодня ЭТИ». Вечерами, когда интернатские и детдомовские рассаживались по разным углам, Леночка стремилась сесть поближе к новеньким и хохотала над Лидкиными шутками едва ли не громче всех. Дина тоже стала «раскалываться», особенно когда нам всем пришлось потуже «затягивать пояса».
В первое время с едой в детдоме было сносно, к тому же на неубранных колхозных полях оставалось вдоволь картошки, капусты, помидоров и даже арбузов. Ударившие внезапно морозы в одну ночь погубили весь урожай. Однако дальновидные детдомовцы сделали на чердаке солидные запасы и по вечерам закатывали настоящие пиры, в то время, как казенный паек оскудевал с каждым днем. То ли из-за неправильного обмена веществ, то ли вообще страдавшая обжорством, Дина ощущала это острее всех. Очень скоро вездесущая Лидка начала это использовать, заставляя Дину за кусок хлеба, стянутый при раздаче, мыть за себя полы или посуду, а однажды я застала ее за стиркой Ларисиного белья, и та, усмехнувшись, процедила «вот наняла за картошку».
Грустно и больно было смотреть на это, тем более, что Дина и Леночка уже вполне добровольно тянулись к «враждебному клану», и все попытки повлиять на них терпели крах.
Но и в стане противников не все было однозначно. Взаимодействие с нами не проходило бесследно, возбуждая самые разные чувства – от зависти до затаенной симпатии.
А жизнь в детдоме текла по своим непривычным для городских девчонок законам. Не было обязательных для этого времени года занятий в школе, но хотя землю уже стянул ледок первых заморозков, продолжались полевые работы – из смерзшейся земли извлекалась смерзшаяся каменная картошка и прочие овощи. Кроме того, надо было добывать дрова, топить печи, носить воду, мыть полы, – словом, производить ряд действий, без которых в сельских условиях нельзя существовать.
Все работы по дому и в столовой выполняли дежурные. Стремясь во что бы то ни стало превратить вверенный ей коллектив в единый монолит, заведующая Дора Николаевна требовала, чтобы дежурные назначались «с той и другой стороны». И как-то Зинке досталось дежурить с Раей Величко. Из всех ребят Рая отличалась крупностью, сочным украинским говором и необычайной домовитостью. Ее кофточка, полотенце с петухами «крестиками», скатерка на тумбочке пленяли снежной белизной, да и весь Раин уголок возле окна внушал завистливое уважение.
В дни Раиных дежурств общежитие прямо-таки излучало чистоту: она орудовала тряпкой виртуозно и вдохновенно. Полной Раиной противоположностью была рябая Зинка, грязнуха и лодырь. Но в тот день Зинка, что называется «расшиблась», она из кожи вон лезла, чтобы «соответствовать», доказать, что дежурит не хуже. Итак, вооружившись тазами и тряпками, они приступили к уборке: Зинка в маленькой, Рая в большой комнате. Вымыв ее до блеска, а затем заодно коридор, сени, прихожую и крыльцо, Рая заглянула к Зинке. Та тоже кончала уборку и, допыхтев до порога, выплеснула грязную воду прямо из окна.
– Все. Вымыла, – сообщила Зинка, ожидая похвалы и одобрения. Но раздувающиеся Раины ноздри и потемневшие глаза отнюдь не выражали восторга.
– Вымыла? – переспросила она и потащила Зинку в угол, где было полно пыли, затем чуть ли не носом ткнула в паутину и, наконец тоном, не допускающим возражений, приказала:
– А ну, бери тряпку и начинай все сначала!
Вечером Зинка решила пожаловаться на Раю своему лидеру – Ларисе. Та внимательно выслушала рассказ об утреннем происшествии, но приговор вынесла не в пользу жалобщицы:
– Верно она тебя вздрючила: тебе бы свиньей родиться да хрюкать, в самый раз было бы.
– С ней спать рядом нельзя, хоть нос зажимай, – добавила самая молчаливая и угрюмая из пришельцев Верка.
Мои отношения с новенькими были несколько иными. Хотя настороженность и недоброжелательство ощущала почти постоянно, все же мне никогда не подкладывали комья грязи под подушку, как Дине, не вытягивали из-под меня стул, словом ежеминутно не «шутили», изобретая мелкие гадости: меня, Раю Величко (прежде всего) и Валю Щукину выделяли, как опасного и сильного противника, с которым надо сражаться всерьез.
Однажды всех нас отправили работать на подсолнухи. Уборка вручную высохших и вымерзших подсолнухов изнуряет однообразием. Идешь по бесконечному полю между черными, звенящими, как стекло, стеблями подсолнухов и ломаешь по очереди один справа, другой слева. Очень скоро в глазах начинает рябить, на ребре ладони образуется мозоль, а ты все ломаешь и ломаешь ненавистные подсолнухи до головокружения, дo одури, до омерзения.
Но мне такую работу пришлось выполнять недолго. Очень скоро на своей Зорьке я стала возить подсолнухи на ток, где мальчишки, тоже вручную, выколачивали из них семечки, которые потом я должна была отвозить на маслобойню, где из них выдавливали пахучее подсолнечное масло.
И вот как-то совершая очередной рейс, я заметила среди черных стеблей какую-то скрюченную фигурку. Это была Женька, веснушчатая, ничем не примечательная девчонка из ЭТИХ. Спросила: ты чего? Оказывается, Женька поранила ногу и не может идти. У меня нашелся чистый носовой платок, я перевязала почерневшую от грязи и холода пятку, а затем «забросила» Женьку домой. Только и всего. Но поездка один на один располагает к откровенности, и по дороге я узнала, что ни отца, ни матери Женька не помнит, жила где-то под Минском у дядьки, потом дядька женился да еще и запил, и она сама попросилась в детский дом.
Доехали до общежития. Я помогла Женьке допрыгать до кровати и, чтобы не скучала, дала почитать «Маугли» Киплинга, единственную книжку, которую привезла с собой. И все. Все дела. Но какая-то ниточка уже протянулась между нами: от меня к Женьке, от Женьки ко мне. Теперь в моем присутствии Женька стала избегать посылать «этих маменьких дочек в пять этажей», и я тоже то и дело вглядывалась в неприметное Женькино лицо, мне уже было небезразлично его выражение.
Хотя «официальным вождем» пришельцев была Лариса, их главным «идеологом» являлась Лидка. Заметив, что, несмотря на все старания накал ненависти кое у кого из ее подруг ослабевает, она решила бросить в ход резервы.
Тем временем наступила настоящая зима. Чуть ли не за одну ночь погибло все, что мы с таким трудом извлекли из земли, но не успели вывезти с полей – а с «казенной» едой стало совсем худо: хлеба 400 граммов на весь день да и тот сырой, пополам с отрубями, приварок – мороженая картошка или пшено в воробьиных порциях. Но запасы детдомовцев, сделанные ими, когда на полях всего было вволю, еще не иссякли. И вот Лидка задумала «закатить пир» с приглашением «своих» мальчишек и Нинки-Оторвы.
Готовясь к приему гостей, детдомовцы притащили со своего склада-чердака даже такие деликатесы, как сушеная дыня или соленые арбузы, не говоря уже о прозаической кислой капусте и соленых помидорах. Скоро дразнящий запах печеной картошки и жареных семечек наполнил весь дом, и мы невольно поглядывали, глотая слюну, в маленькую комнату на накрытый стол, уставленный до краев наполненными жестяными мисками.
«Прием» был назначен на вечер, после казенного ужина, когда нет вероятности возникновения в дверях заведующей Доры. Отчество Николаевна между собой, естественно, не употреблялось – в этот час она обычно собирала у себя всех воспитателей, чтобы «подвести итоги дня и сделать наметки на будущее».
Гости явились точно в срок: четверо мальчишек 14-15-летнего возраста и 14-летняя Нинка, прозванная за отчаянность Оторвой. Несмотря на угощение и даже выпивку – Лидка «расшиблась», но достала поллитра какой-то бурды, выдаваемой за самогон – обстановка в маленькой комнате была безрадостной. Мальчишки держались скованно, никакого желания развлечь девочек или поухаживать за ними не высказывали. Девчонки хихикали, старательно матюкались, но тоже как-то натужно, словно понарошку.
Настоящего веселья не получалось, и вместо того, чтобы «зеленеть от зависти» мы уже потихоньку посмеивались над «сборищем». Но Лидка оказалась дальновидным организатором, на этот случай она припасла несколько, мягко говоря, не самых приличных анекдотов. Уже первый заставил вспыхнуть до корней волос стеснительную Галю, что было замечено собравшейся компанией и намного усилило эффект от самого рассказа. Но первый анекдот оказался «детским» по сравнению со вторым, а второй по сравнению с третьим – собравшиеся «обхохатывались», «заходились», «надрывали животики», – словом, выражали полный восторг и от того, что рассказывала Лидка, и поглядывая на «маменькиных дочек», особенно на не знавшую, куда себя деть, Галю.
Густые Раины брови гневно сомкнулись, у Вали Щукиной подозрительно блестели глаза, а я… Нет, я просто не могла больше просто так сидеть, слушать, смотреть! Рывком встала и с треском закрыла дверь. Но закрытой она оставалась лишь миг. С таким же треском, рывком, ее распахнули вновь. С этой стороны напротив меня стояла гневная Лариса.
– Ты что это, – тут она употребила «сильное» выражение, – без спроса дверь закрываешь? – произнесла она, медленно растягивая слова.
– Тебя что ли спрашивать? – ответила вместо меня выросшая pядом Рая.
– Люблю, когда бабы дерутся, – бросил предвкушая интересное зрелище верзила Славик, а Нинка Оторва, тряхнув каштановой челкой, уже направлялась к нам, в упор глядя на меня узкими карими глазами!
– Ой, девочки, ну, что вы, – вдруг затараторила Леночка, – Ну подумаешь, анекдоты, что мы маленькие, что ли, даже интересно…
Торжествующий хохот в маленькой комнате был ей ответом. Лидка ликовала:
– Вот, видите, девочкам нравится, девочки слушать хотят, а вы им (это непосредственно Рае и мне) мешаете, нехорошие какие, – и тут она с невинным видом добавила словцо, вызвавшее взрыв хохота собравшегося общества.
Усмехающаяся Нинка повела Леночку к картошке, а Лидка продолжала:
– И другие девочки к нам хотят, вон Диночка истосковалась вся. Хочешь картошечки, Диночка? – и Лидка достала из миски большую печеную картофелину.
Дина смотрела на нее, как смотрят на кость изголодавшиеся бездомные собаки – вытянув шею, не сводя глаз, ничего не видя, кроме этой теплой, с хрустящей корочкой, рассыпчатой, такой желанной картофелины.
– Ну, и пусть идет, обжора несчастная, дура толстая, протоплазма гадючья, чтоб ей подавиться, чтоб в гробу лежала, а картошка изо рта торчала!.. – и дальше я пошла «выдавать» такое, что детдомовский махровый мат сразу померк в сравнении с «перлами», которые извергали уста интеллигентной москвички.
Как видно, многодневное соседство дало свои плоды: в отчаянье и гневе я намного превзошла своих «учителей». Кстати, выражение «протоплазма гадючья» прочно вошло с тех пор в детдомовский лексикон и находило самое неожиданное применение.
Остановилась я так же внезапно, как и «прорвалась», и в растерянности огляделась. И свои, и чужие смотрели на меня во все глаза, никто не смеялся, и только стеснительная Галя вдруг тихонько, восторженно хмыкнула.
– Ладно, черт с вами, делайте, что хотите, – сказала Рая, – а мы петь будем. Валя, давай «Отраду».
Проучившаяся 5 лет в музыкальной школе, к тому же великолепно играющая на слух Валя Щукина как будто весь вечер ждала этой минуты. С достоинством заправского концертмейстера она направилась к инструменту:
Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет хода никому,
– запела Рая, и все интернатские подхватили повтор. Снова зазвучал, подчиняя и завораживая, один низкий задушевный Раин голос и снова повтор, но теперь его подхватывает и кто-то из маленькой комнаты, а в третий и в четвертый уже подпевают хором.
Я незаметно огляделась: на лице у Лидки растерянность. Лариса подперла по-бабьи щеку и вся подалась вперед, долговязый Славик ухмыляется во весь свой огромный рот, а Нинка уже возле Раи:
– Хочешь семечек? – и протягивает полную горсть.
«Отраду» сменила «Цыганочка». Ее попросила сыграть Роза, сама прозванная цыганкой, смуглая до черноты, очень живая девчонка, подброшенная в детдом еще в грудном возрасте. Наверное, в ней и правда текла цыганская кровь, потому что, как только Валя начала играть, она задвигала плечами, грудью, завихрилась в пляске, и, казалось, что на ней не детдомовское серое, а яркое цыганское платье, шаль с бахромой, звенящие мониста…
Роза недолго плясала одна. Вот уже рядом неумело, но темпераментно заходила Нинка, в центр вышла Рая и сразу за ней Лариса. «Что стоите, мальчишки?» – властно прикрикнула она на кавалеров, и Витька Марков тут же очутился рядом, но в такт не попал:
– Я под такую музыку не могу, я только вприсядку.
И Валя сразу же переключилась на «Барыню».
– Ну, а ты что же? – мне протягивал горсть семечек самый старший из мальчишек Мишка Михайловский, высокий, некрасивый, но с хорошей доброй улыбкой. – Или только ругаться умеешь?
Я никогда не была способна к танцам и честно в этом призналась.
– А стихи любишь?
Стихи я любила и тоже призналась:
– Очень.
– Почитай, – попросил меня Мишка и, не дожидаясь согласия, закричал на остальных:
– Тихо! Она стихи читать будет!
Все уже сидели вперемежку и грызли семечки, но при упоминании о стихах пронесся смешок, и Лидка тотчас съязвила:
– Пушкина?
– Хотя бы и Пушкина. От твоих анекдотов уже уши заболели, – и чуть не приказал: – Читай!
Я в растерянности посмотрела вокруг и вдруг заметила Женю. Она так напряглась, что даже побледнела. «За меня волнуется», – поняла я и сразу решилась:
Ты жива еще моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет…
– стала читать своего любимого Есенина, не заботясь о выражении, слушателях, увлеченная тем, что мне так дорого самой. Но постепенно стала ощущать, как захватили стихи ребят: ведь почти все они, кто навсегда утратил, а кто и вовсе никогда не знал материнской ласки.
Тишина. Она иногда полнее всяких слов выражает самое сокровенное. Не хотелось ее нарушать. Но Валя заиграла «Землянку» и неожиданно запел Мишка, да так проникновенно, что никто не стал подпевать, просто слушали:
Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
И вдруг заплакала Лариса. Горько и беззащитно, уткнувшись Рае в плечо. Дрожащими руками она достала из-под подушки похоронку, совсем недавно пришедшую на отца. Она, оказывается, рано потеряла мать, а с отцом никогда не расставалась, вплоть до самой войны, он так и не женился во второй раз из-за нее.
Гости расходились поздно, а я еще отправилась на конюшню посмотреть, как там Зорька. Вошла переполненная впечатлениями минувшего вечера, но вид вверенной моим заботам лошади, ее голодное ржание повергли в уныние.
– Да, исхудала кобылка, скелет один, – услышала за спиной. Обернулась – Мишка. За ним Витька Макаров и Нинка.
– Сено давным-давно кончилось и соломы почти не осталось, – оправдывалась я, – я говорила Доре, а она не слушает.
– Дора, – усмехнулся Витька. – Дора спросит, когда лошадь падет, самой заботиться надо. А хочешь, сейчас сена привезем? Лугового, с клевером, у моего одра тоже кончается – Витька ведал старым мерином по кличке Клюква. Выяснилось, что Витька, тоже испытывающий фуражные затруднения, обнаружил в поле стог великолепного сена. Похоже, оно пока ничейное, но на всякий случай сено оттуда брали ночью и ехали не по дороге, а прокладывали колею по снежной целине.
Светила луна, блестел, искрился, сверкал немыслимой белизной нетронутый снег, а две лошадиные тени скользили по бескрайнему полю, почти не нарушая тишины поскрипыванием полозьев. Огромный стог был накрыт снежной шапкой. Витька и Мишка целыми сугробами сбрасывали снег сверху, освобождая подход к сену, и он рассыпался мельчайшей мерцающей пылью.
Я прислонилась к копне. Разворошенное, согретое моим телом сено начало источагь запахи: сперва общий – зимний, словно выдыхало из себя стужу, потом все усиливающийся летний, и уже улавливались порознь полынь, мята, ромашка…
Обратно лошади еле брели, то и дело проваливаясь по брюхо в рыхлый снег. Я лежала на самом верху навьюченной на сани высочайшей копны и смотрела на темно-синий шатер опрокинутого надо мной неба. Невдалеке сидел Мишка, взявший на себя обязанности возницы. Всю дорогу туда я по его просьбе читала разные стихи, а сейчас просто смотpeлa на небо и думала, что такой красоты никто никогда не видел и даже не мог видеть, потому что ее никогда до этого еще не было. А миллионы звезд посылали мне свой свет. Вот одна из них засверкала всех ярче и покатилась по небосклону прямо ко мне. Я приподнялась ей навстречу, чтобы лучше видеть, и вдруг полетела сама с накренившегося воза в снежную целину. Умная Зорька сразу остановилась и честно ждала, пока Нинка, Мишка и Витька извлекали меня, барахтающуюся, из снежного моря. По спине текли ледяные струйки, снег забился под воротник, растекался лужицей по лицу, его вытряхивали из варежек, платка, волос.
На звезды больше никто не взглянул, зато хохотали до упаду и, слыша за спиной веселый хохот, лошади тоже будто развеселились и все убыстряли и убыстряли ход.
Когда вернулась домой, все уже спали. Машинально окинула взглядом комнату. Но какие-то изменения заставили всмотреться попристальнее: на соседней с Раиной кровати не Леночка – Лариса…
Утром Лидка попросила перевести ее в другое общежитие. Ее место вызвалась занять Нинка, кем-то глупо прозванная Оторвой. Вместе с Лидкой ушла и Леночка, а «взамен» мы выхлопотали у начальства счастливую до слез Тамарочку.
Оглядывая прибывшее пополнение, староста Рая сказала:
– Только чтобы чистоту соблюдать и без мата.
– Больно строгая ты, начальница! – засмеялась Нина и пошла застилать свою кровать.
Где вы теперь, девчонки нашего общежития? Какими стали? Жизнь неожиданно соединила нас и так же внезапно разметала по разным дорогам. Ни с кем из вас не встречалась я потом, в ДРУГОЙ жизни. Но память хранит ваши слова, лица, поступки. Самое яркое, то, о чем написала и напишу впредь, вижу и помню так, словно это было вчера.








