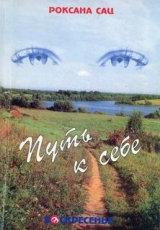
Текст книги "Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре"
Автор книги: Роксана Сац
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Смерть Лорки
Осенью 1941 года в Москве начались бомбежки. Первые немецкие самолеты прорвались через противовоздушный заслон наших зенитных батарей где-то в середине октября, но, как грозе предшествует особая предгрозовая напряженность, так и сентябрьская Москва была настороженно притихшей в ожидании неотвратимого.
В Москву я вернулась уже в конце августа, к началу учебного года, но занятия в школах были отменены, и можно было сколько угодно бродить по улицам, вглядываясь в затемненные, с бумажными крестами окна – считалось, что это предохраняет стекла от действия взрывной волны, – пытаясь понять, есть ли за ними жизнь.
Шла эвакуация. Груженные скарбом грузовики, чемоданы, сумки, узлы в руках прохожих, пустынные улицы и переполненные вокзалы, – все говорило о том, что москвичи покидают свой город. Наша квартира тоже опустела. Уехали один за другим соседи, эвакуировалась в Караганду Луиза, остались только мы с бабушкой. Если не считать Лорки, Васьки и Джека.
* * *
Мое раннее детство. Я вновь и вновь обращаюсь к нему и всегда с нежностью. Оно не было омрачено, как это нередко бывает, всевозможными запретами. Меня и брата окружали умные взрослые, которые стремились не сужать, а всячески расширять наш детский мир радостью общения с интересными людьми, – например, нас не прогоняли при приходе гостей, с домашних репетиций – с книгами, театром и с самым разнообразным зверьем. Черепахи, хомячки, ужи и ежи постоянно обитали в нашей квартире. Но особая роль принадлежала, конечно, собакам и Лорке.
* * *
Лорка появился в моей жизни в день, когда мне исполнилось ровно 5 лет. В те счастливые безоблачные дни, ДО ТОГО, что случилось потом, каждое лето я проводила на папкиной даче в Серебряном бору, где все время жила в предощущении, что завтрашний день будет еще лучше и радостней, чем сегодня, хотя и сегодняшний дивно хорош. И, конечно, чудеснейшим из чудесных должен, просто обязан быть день моего рождения.
Когда он настал, я проснулась рано-рано, раньше всех. По желтой сосновой стене плясали тени – это ветер играл с ветками сирени, росшей под окном. Одна из ее мохнатых, в цвету, ветвей вторглась в комнату, и на подушке, среди осыпавшихся сиреневых цветов – кровать стояла возле самого окна – был один с пятью лепестками. Все знают, что это к счастью, тем более в день рождения. Как и положено, я сжевала цветок и огляделась – в такой день предсказания должны сбываться немедленно. Но хотя заглянула во все углы и даже под кровать, нигде ничего не было.
Тогда я отправилась в столовую. И тут сразу увидела ЭТО. Оно стояло на столе и было накрыто большим черным платком. Я тотчас сдернула его – и… Передо мной в большой стальной клетке сидел настоящий живой попугай. Он был большой и зеленый, он посмотрел на меня круглым красным глазом, чуть склонил голову набок и сказал: Др…рл…л. При этом черный изогнутый клюв его раскрылся, а во рту задрожал блестящий черный язычок.
– А! Вы уже познакомились?! – улыбающийся папка стоял в дверях. – Здравствуй, Лорка, – обратился он к птице, и попугай опять произнес «Дррлл» очень приветливо.
– Головку, – приказал папка и просунул в клетку палец.
Попугай тотчас подошел, нагнул голову и стал подставлять то одну, то другую щеки, чтоб его гладили. Он запрокидывал голову назад, прикрывал от удовольствия глаза, он всем своим видом выражал покорность и блаженство.
Как только папа вышел, я тотчас сунула палец в клетку. В ту же секунду попугай метнулся, – и… От боли потемнело в глазах, палец был прокушен чуть не до кости. Я уже открыла было рот, чтобы задать рева, как заметила красный попугаин глаз, в нем было торжество. Птица нагло издевалась надо мной, и это была моя птица, которую лично мне подарили на день рождения, которая обязана была мне повиноваться. Ну, нет! Я сунула в клетку другой палец – и в него тотчас вонзился черный блестящий клюв. Теперь уже два пальца были в крови, а попугай как ни в чем не бывало расхаживал по жердочке, высоко поднимая голенастые ноги и злорадно выкрикивал свое ДРРЛЛ.
Слезы разъедали глаза, в носу хлюпало, но я просто не могла отступить и, закусив губу, чтобы не зареветь в голос, снова сунула в клетку палец. Однако и в третий, и в четвертый раз повторилось то же самое: попугай не желал меня признавать. На правой руке нетронутым оставался один мизинец, но он был такой маленький, что я решила «начать» другую руку. При этом, однако, заметила, что, пока я над этим раздумывала, попугай не расхаживает победоносно из угла в угол, а тоже словно размышляет. Тем не менее указательный палец левой руки также оказался в его клюве. Но вместо того, чтобы прокусить, он просто держал его, явно раздираемый сомнениями. Как можно спокойней «папиным» голосом я сказала:
– Лорка, головку!
Попугай выпустил палец, отошел в угол клетки и задумчиво произнес свое дррллл. Когда в комнату вошла Луиза Федоровна, победа была полной, и на ее суматошные возгласы по поводу «нанесенных этой ужасной птицей ребенку увечий», я с достоинством возразила: ничего особенного, просто мы знакомились.
В мое детство Лорка вошел не забавой – личностью. Как объяснил отец, кличку свою он получил «по породе» – принадлежал к разновидности австралийских попугаев лорри. Но сколько я ни рассматривала в зоопарке этих и других попугаев, никогда не могла обнаружить Лоркиного двойника. Он был крупнее зоосадовских и ярче по расцветке: весь ярко-зеленый, но щеки желто-оранжевые, а в хвосте перья самые разные: красные, синие, желтые, изумрудно-зеленые.
Если характеризовать Лорку как человека, то главное в нем было чувство собственного достоинства. Он бывал капризен, несносен, сварлив и, наоборот, ласков, кроток, нежен, но он никогда не заискивал и не подлизывался, как иные кошки или собаки. Войдя в семью, он тут же определил к каждому из нас свое отношение, которого и придерживался неизменно. К отцу питал нежную симпатию, бабушку уважал, а бонну Луизу, напротив, презирал, Адриана терпел, а к маме относился с возвышенным восхищением. Услышав ее голос, он вытягивал шею и напряженно ждал появления. Чем красивее было на ней платье (особенно ему нравилось красное, блестящее, концертное), тем восторженней он ее приветствовал, превращая это приветствие в своеобразный ритуал: он наклонял голову в одну, потом в другую сторону, разглядывал ее со всех сторон, «цокал» и, наконец, произносил неизменное свое дррллл, полное восторга. Когда же мама говорила:
– Здравствуй, птицын, здравствуй, милый, – она тоже его любила и никогда не забывала поздороваться, Лорка гордо вскидывал голову, раз-другой прохаживался по жердочке, особенно высоко поднимая ноги, «шикарно» разворачивался и приседал в галантном поклоне, вновь издавая свое дрлканье.
Но совсем по-особому относился Лорка ко мне, раз и навсегда признав своей Хозяйкой и Повелительницей. И чем дольше он у нас жил, тем чаще в его повадках и отношениях с нами проглядывало что-то почти человеческое. Мне не составило труда выучить его таким «штукам», как подавать правую и левую лапки, – не путая никогда! – галантно кланяться, даже пританцовывать с приспущенными крыльями и «лихими» разворотами. Правда, как ни билась, никак не могла научить его говорить. Часами иногда простаивала перед клеткой, повторяя:
– Здравствуй, Лорка, здра-вствуй, здра-вствуй… – но в ответ всегда слышала только всегдашнее дрлл.
Нет! Лорка не хотел учиться человеческому языку. Его собственный был так выразителен, так богат оттенками: презрение, насмешку, нежность, – все выражало его дррллл.
Как-то Адриан назвал Лорку интеллигентом, пояснив, что в переводе с латинского слово это обозначает понимающий. И в самом деле иногда казалось, что Лорка понимает абсолютно все.
* * *
– Наш Колюша – это то, что называется, обаятельный человек, – говорил об отце буквально влюбленный в него брат Адька, а ведь ему он приходился лишь отчимом…
Когда голубой линкольн отца въезжал в ворота нашего дома в Карманицком переулке, все ребячье население с воплем «Дядя Коля приехал», не дожидаясь приглашения, набивалось в машину, и каждый получал возможность не только прокатиться, но и подудеть. Финансист по должности – он был председателем Торгбанка СССР, но артист по натуре, отец был неистощимым выдумщиком. Несколько его рассказов было опубликовано в «Огоньке», а по моему спецзаказу, «чтоб было и грустно, и смешно, и чтоб все кончалось хорошо» он сочинял очаровательные истории, которые потом пересказывались во дворе и классе. Меня он совершенно обожал. Не признавая взрослого имени Роксана и укороченного Ксана (он хотел, чтобы я именовалась Светланой, но мама настояла на своем), он называл меня чаще всего «мой Ксаненок» и готов был исполнить любое, самое абсурдное желание…
* * *
Где он теперь? Почему нет рядом сейчас, когда так трудно, папки, доброго, неунывающего, бесконечно любящего?! Я видела, что бабушке неприятны мои расспросы и что, объясняя отсутствие отца длительной командировкой, она неискренна, но никакого другого ответа не получала. И все-таки однажды, когда я проявила особую настойчивость, у нее в сердцах вырвалось: «Откуда мне знать? Может, в командировке, а, может, живет себе преспокойно на своей даче?..»
Тогда я поняла, что должна узнать все сама и в ближайший выходной, посадив в корзинку Лорку, отправилась с ним в Серебряный бор на папину дачу.
От автобусной остановки до нужной просеки было довольно далеко и, чем ближе я к ней подходила, тем ярче представляла себе то до мелочей привычное, что сейчас предстанет передо мной: заросшие травой цветочные клумбы, куст черники возле калитки, между сосной и березой старый гамак с дырой посередине, которую нужно особым образом затыкать подушкой (у новых знакомых подушка обычно проваливалась и их со смехом тренировали). Представляя все это, снова всем существо ощутила, как соскучилась по этому, такому дорогому миру, который принадлежал мне с рождения и не должен, не мог быть разрушен…
Всякая дорога имеет конец. Вот уже передо мной знакомая просека, забор, калитка, наконец дача № 26 – внизу под номером фамилия владельца: Попов Николай Васильевич. Да, все, как всегда! Песчаная дорожка от калитки ведет к дому, под окном куст сирени, невдалеке старая рябина, на которую обычно сажали «подышать свежим воздухом» Лорку. Он уже высовывается из корзины и тянется к «своей» ветке. Я помогла ему вскарабкаться и на душе стало совсем легко.
И тут я увидела гамак. Он висел на прежнем месте, но это был ДРУГОЙ ГАМАК – новый, самодовольный, прочный. И сразу улетучилась безмятежность, внутри стало холодно, словно проглотила вдруг ледяную сосульку. Но ноги продолжали шагать к дому, а оттуда мне навстречу выходил папка… Я увидела его сразу, как только появился в глубине темного коридора, а он меня – он был близорук и без пенсне – лишь когда уже вышел на террасу. Но увидев, не бросился или хотя бы шагнул навстречу, а напротив, отшатнулся и быстро огляделся по сторонам. «Боится, что меня здесь увидят» – поняла я – глаза наши встретились, и он догадался, о чем я подумала. И сразу бросился и обнял. Он целовал, гладил с нежностью волосы, но глазами избегал встречаться и говорил торопливо, совсем иначе, чем прежде: расспрашивал про отметки, здоровье бабушки, а ответов не слушал, забрасывал шелухой новых ненужных слов.
– Здравствуй, Ксана. Ведь ты Ксана?
Та, которая сперва со мной поздоровалась, а у ж потом решила уточнить имя, возникла рядом неожиданно. Это была рыжеволосая женщина с мясистым в крупных веснушках лицом. Очевидно, она тоже вышла из дома, так как была в халате.
– Знакомься, моя жена, – суетливо представил ее отец, – Берта Яковлевна, известный критик… – Отец заговорил еще торопливей:
– Мы ведь развелись с мамой… твоей (он добавил это «твоей», явно отрезая ее от себя)… Это произошло еще до… до этого (видимо, он избегал слова арест), просто не говорили, чтобы не волновать тебя и Адриана, хотя Адриан ведь не мой сын, по существу мы чужие…
То, что Адька не его сын, а от первого неудачного и недолговечного маминого брака ни для кого не было тайной, но чужие?! Он словно хлестнул меня этим словом, и сам это почувствовал и рыжая жена тоже.
– Какой чудесный попугай! – воскликнула она, очевидно, чтобы переменить тему и протянула к Лорке руку. Но тотчас отдернула! И закричала, с ужасом взирая на располосованный чуть не до кости палец. Растерявшийся, еще более суетливый отец сунул ей разом покрасневший платок и кинулся к Лорке.
– Что ты? Что с тобой, Лорка? Лорочка, успокойся… Головку… – Но вместо того, чтобы склонить голову и прижаться к любимой руке, весь какой-то взъерошенный Лорка грозно шипел, не разрешая отцу приблизиться, – нет! он не прощал предательства.
Несмотря на уговоры, я не пошла в дом и не «выпила чайку». Возле калитки отец вдруг обхватил мою голову и, глядя в глаза прежними бесконечно любящими глазами, зашептал:
– Если бы ты знала, как это страшно… Я ни в чем не виноват, но я знаю, они придут… и я их все время жду, понимаешь, хоть бы скорее…
Его арестовали в конце 1938-го на этой самой даче. Перед тем сняли с работы, исключили из партии, новая жена исчезла из его жизни так же внезапно, как и появилась. Обо всем этом мне рассказывала уже после посмертной реабилитации отца его сестра. Она единственная его изредка навещала. Она же передала мне фотографию, которая до последнего дня стояла на его тумбочке перед кроватью. На фотографии стриженная девчонка с попугаем на плече.
* * *
Лорка прожил у нас 8 лет. Старость пришла к нему внезапно и, несомненно, главную роль сыграла в этом война. Он панически боялся воздушной тревоги. Весь день он ждал ее, весь день не мигая смотрел на черную тарелку репродуктора, так как очень скоро понял, что внезапно обрывающая очередную передачу тишина (теперь радио никогда не выключали) – предвестник зловещего. Объявление воздушной тревоги вселяло в него ужас. Услышав монотонно повторяемое диктором: «Граждане, воздушная тревога», он забивался в самый угол клетки, и крупная дрожь сотрясала его тельце…
В октябре у Лорки появился еще один враг – холод. В московских квартирах не топили, температура мало чем отличалась от уличной, а промозглая сырость проникала повсюду.
Чтобы как-то Лорку согреть, бабушка сшила нечто вроде попугайного жилета. Лорка без сопротивления разрешал его на себя надевать – он вообще стал очень кроток, но согревался плохо, все дрожал. Очевидно, собственного тепла ему уже не могло хватить, поэтому теперь его сажали за пазуху, когда только могли. Там он прижимался всем телом к груди, словно впитывая чужое тепло, и сидел тихо-тихо, стремясь не помешать, не надоесть. Иногда я совсем забывала о его присутствии, пока он сам не напоминал о себе деликатным царапаньем – про сился в «туалет» – ни разу не нарушил он правил гигиены. За пазухой он ел, только, находясь там, он напоминал иногда прежнего Лорку.
Так уж устроен человек, что он привыкает ко всему, даже к воздушным налетам. Вскоре тесное и душное бомбоубежище стало мне казаться чуть ли не хуже самой бомбежки, и все чаще под разными предлогами я стала увиливать от спуска в подвал и оставалась дома. Здесь мне иногда удавалось заснуть особым прерывистым сном, когда сознание ни на секунду не покидает мысль «я сплю под бомбежкой». Но больше всего хотелось, хоть как-то, участвовать в борьбе с «проклятой фашистской гадиной» и с этой целью однажды удалось пробраться на чердак, а оттуда на крышу. Здесь дежурили «белобилетники» и мальчишки постарше меня, мечтающие скорее попасть на фронт, а пока геройски сражающиеся с зажигалками.
Было уже часов одиннадцать, но совсем светло. По крыше плясали синие тени, отсветы шарящих по небу прожекторов. Весело ухали зенитки, выпуская в темное небо яркие мячики вспышек, вокруг которых колыхались розовые дымные облачка. «Как красиво и совсем не страшно», – только успела я подумать, как вдруг совсем рядом что-то шмякнулось, завертелось, задымилось.
– Что стоишь? Туши! – и Валька Трошин, Адрианов одноклассник, уже сам ухватил зажигалку железными щипцами и сунул ее носом в песок. Но она успела прожечь железную крышу, и по чердачным стенам и балкам стали расползаться огненные языки. К ним тотчас с песком и водой ринулись дружинники, засыпая, заливая, втаптывая огонь в темноту.
Зажигалки в этот вечер сыпались обильно, меня никто не прогонял, и я тоже включилась в борьбу с ними, это наполняло гордостью.
Вдруг яркий луч прожектора вонзился мне прямо в лицо. Отстраняясь от него в темноту, я проследила за направлением луча и увидела, что он «поймал» необычайно низко летящего «Мессера» – была видна даже свастика на его крыльях. Со всех сторон к «Мессеру» побежали другие лучи, скрестились, образуя на небе все уярчающееся световое пятно, в центре которого барахтался, стремясь во что бы то ни стало вырваться из светового плена «Мессер», а зенитки заухали еще громче, и вокруг самолета, прошивая небо, засветились дорожки трассирующих пуль.
– Заюлила фашистская гадина! – услышала я над ухом чей-то торжествующий голос, но тут самолет сделал еще один резкий рывок и внезапно «выплюнул» из себя какой-то предмет.
– Фугаска! – произнес тот же голос. – Держись, ребята!
Судорожно вцепившись в чердачный выступ, я изо всех сил вжималась в него, слушая, как свист летящей фугаски переходит в визг, затем в оглушительный грохот. Распластанная на крыше, я почувствовала, как дрогнул, задышал подо мной весь многоэтажный дом, затем вновь обрел устойчивость, – и наступила тишина, только доотзванивались осколки разом лопнувших стекол. Это была печально знаменитая фугаска, угодившая в Вахтанговский театр и разрушившая его почти до основания.
Едва очухавшись, я побежала вниз узнавать, что с бабушкой. Бомбоубежище игнорировали многие, в том числе и бабушка, потому я первым делом помчалась домой.
Еще не входя в комнату, поняла, что бабушки дома нет – на вешалке не висело ее пальто, и повернулась, было, бежать в убежище, как вдруг услышала какое-то шипение и отчетливое:
– Тревога… Тревога…
«Странно, – подумала, – голос какой-то не дикторский», – и заглянула в комнату. На полу своей клетки сидел Лорка и, раскачиваясь, как заведенный, объявлял воздушную тревогу. «Заговорил!» – поразилась я, но в это время близко снова ухнуло, и я опрометью бросилась в бомбоубежище.
По лестнице бежали дружинники, кто-то пустил слух, что подвал завалило. По счастию, этого не случилось, но от взрывной волны что-то произошло с проводкой, погас свет, началась паника. Пока страсти улеглись и мы с бабушкой вернулись домой, прошло уже много времени. Светало. Налет кончился. Было тихо, мирно, шли не спеша.
Уже поднялись на наш четвертый этаж, как вдруг увидели зеленое Лоркино перышко, затем другое, третье… Дверь в квартиру была открыта, наверное, впопыхах я ее не захлопнула, и порыв ветра выдул навстречу целую горсть легких перьев.
Вбежали в дом. В квартире не осталось ни одного целого стекла, ветер хозяйничал, как хотел, было очень холодно. Дверца Лоркиной клетки была открыта, очевидно, распахнулась от удара взрывной волны, а сама клетка пуста. Из кухни доносилось злобное урчанье. Там на полу голодный кот Васька приканчивал то, что еще оставалось от Лорки. Бабушка прогнала кота, щеткой собрала перья в совок. Одно из них зелено-синее с красным и желтым осталось на подоконнике. Когда-то в прежние добрые дни я собирала Лоркины перышки, а иногда обменивала их на что-нибудь во дворе. Разноцветные ценились особенно: на такое можно было получить стеклянный шарик для игры в лунку или перочинный ножичек.
Вернулась из кухни бабушка, спросила:
– Может, все-таки поедешь?
Бабушка уговаривала меня эвакуироваться вместе со школой в Саратов, где специально открывался интернат. До сих пор я все колебалась: ехать – не ехать, но теперь решилась: «Поеду».
Ветер подхватил разноцветное Лоркино перышко и выпорхнул с ним за окно.
Мой Левитан
Известно, что достопримечательности города реже всего посещаются его собственными жителями. Москвичи не исключение. Возможность посетить Третьяковку в любой день – не сейчас, так потом – оказывается иногда большим препятствием, чем любые расстояния. Сколько раз я «угрызалась», сколько раз давала себе слово завтра же заполнить этот возмутительный пробел в своем культурном развитии, но завтра сменяло послезавтра, шли дни и месяцы, а мы с Третьяковкой, как две параллельные прямые, никак не пересекались. Но в день эвакуации почувствовала: без этого не могу уехать из Москвы, и с утра помчалась в знаменитый Лаврушинский переулок.
Против ожидания у кассы стояла очередь. Гимнастерки соседствовали с ватниками ополченцев, с самой разной, но серой и зябкой осенней одеждой, ярких красок тут не было совсем. Зато сколько их было в самой Третьяковке!
Едва перешагнув порог, сразу помчалась к передвижникам, о которых так много рассказывал Адька, обладатель большого количества открыток-репродукций. Первый зал, куда влетела, был Левитановский. Он же стал и последним. Я так и не смогла оторваться от этих омутов, золотых берез, сочной зелени и нежной голубизны. «Все-таки в действительности так не бывает, все-таки он приукрашивает», – подумала я, со вздохом бросая прощальный взгляд на «Золотую осень».
Времени оставалось в обрез. Забежав домой за вещами, сразу отправилась на Речной вокзал.
Возле причала покачивался теплоход. На его белоснежном борту золотыми буквами сияло «Левитан». И это поразившее меня название, многократно повторяющееся на шлюпках и спасательных кругах, и сам теплоход – нарядный, щеголеватый, откровенно прогулочный, никак не вязались с войной и эвакуацией. К тому же день распогодился: выглянуло солнышко, рассиялось, заиграло веселыми зайчиками по водной ряби, заскользило по лицам провожающих. Но при ярком солнечном свете стало заметней, как постарела бабушка. В потертой «с залысинами» обезьяньей жакетке, когда-то модной, теперь нелепой, в съехавшей набок еще более нелепой бывшей маминой красной шляпке, из-под которой косматились седые волосы, она стояла чуть в стороне от общей толпы и неотрывно смотрела на меня. А я то всматривалась в ее осунувшееся лицо, в любимые мудрые глаза, то отвлекалась на толпу, солнце, теплоход, на котором никогда прежде не плавала. То и дело к нам подбегали ребята, носившиеся с пристани на теплоход, и рассказывали, как чудесно там все устроено, и все остальное как-то затушевывалось перед великолепием предстоящего путешествия. Невольно приходили в голову наивные, но утешительные мысли, что «наши немцев заманивают, потому и отступают, а потом, как дадут», что пройдет месяц-два, и все снова будет хорошо… – да мало ли какими иллюзиями тешит нас воображение, когда не хочет радовать жизнь.
Наконец, все погрузились, загудел прощальный гудок, и полоса воды между теплоходом и берегом стала все расширяться, отрезая уезжающих от остающихся, унося меня куда-то в неведомое. Последнее, что увидела – бабушкину спину на зеленом косогоре. Как медленно, как трудно взбирается бабушка наверх. Теплоход уже доплыл до излучины, а она все никак не достигнет гребня косогора. Наконец, она скрылась за ним, и в эту минуту я совершенно ясно поняла, что больше не увижу ее никогда.
Пожелтевшие от времени письма. Тоненькая пачка, – то, что сохранилось от переписки бабушки с мамой. Мы звали бабушку Наночкой, она нас Адюша и Ксаночка. Адюшку, первенца, любила особенно и в одном из писем, отмечая его одаренность, писала, как ей нравятся его рисунки «в духе Левитана». Если он всерьез этим займется, может стать незаурядным художником. Но Адриан не стал художником, я же вовсе никогда не умела рисовать. Впрочем, в то время я ничего не знала об этих письмах.
А «Левитан», взбивая за кормой снежную пену, все набавлял ходу и, чем дальше, тем живописней вставали по обеим сторонам сперва Москвы-реки, а затем уже и Волги пейзажи. «А ведь он (Левитан) сам бывал здесь, рисовал эти самые места», – подумалось вдруг. Словно продолжая мои мысли, заходящее солнце вдруг коснулось верхушек склоненных к воде золотых берез, и они предстали в такой немыслимой красоте, что гений живописца померк перед мастерством природы. И снова все отступило: печальное, военное, тревожное будто растворилось в спокойствии осени, в ее умиротворенности. Думалось, как хорошо плыть, радовали чистенькие каюты, цветы на столиках, печенье, выданное к чаю, и то, что в одной каюте со мной ребята из нашего дома – толстая Елка (так звали ее и в классе, и во дворе, хотя настоящее имя Елена) и ее брат-близнец Вовка. Правда, в каюте находилась еще их мама, нанявшаяся, чтобы не разлучаться с детьми, в интернат воспитательницей, и а ее «наличие» меня несколько смущало, но, впрочем, должны же быть какие-то издержки, если все остальное так хорошо.
Ровно в 10 часов мама уложила нас спать. Но мне не спалось: захлестывали впечатления, да и Елка с ее габаритами (нам на двоих полагалось одно место) была не лучшим «компаньоном на койку».
Часто, натруженно стучало сердце теплохода – под каютой находилось машинное отделение, где-то что-то позвякивало, тренькала ложка о края стакана, скрипела-поскрипывала дверь… Вскоре к этим шумам прибавился еще один – храп мамы. Его мощь свидетельствовала: спит крепко. А раз так, можно попытаться улизнуть на палубу. Но на верху меня сразу заметил помощник капитана и турнул обратно вниз. Я уже ступила на трап, как увидела притаившегося за каким-то ящиком Вовку и вмиг оказалась рядом с ним.
Теплоход плыл в полной и абсолютной тьме: только мерцала зеленая волжская волна и дрожал огонек папиросы помощника капитана, облокотившегося на поручни. К нему подошел кто-то из команды.
«Ну, кажется, на этот раз обошлось». Помощник промолчал, пристально всматриваясь за борт. Подошедший опять заговорил, указывая на что-то в темноте:
– Большая баржа. Тоже дети?
– Детский дом из-под Вологды. Полторы тысячи ребят, – ответил помощник и пошел было прочь. Но вдруг остановился.
– Слышишь? – теперь он спрашивал, а тот, второй, молчал, видимо, прислушиваясь. – Эх! Сглазил! Долетели-таки, сволочи!
Оба они тотчас побежали куда-то, а вслед за тем появились и тоже побежали еще какие-то люди в матросской форме.
Почему молчит береговая артиллерия? – прошептал Вовка. Откуда мне было это знать, да и не до того мне было: ровный, неотвратимо приближающийся гул самолетов ввинчивался в уши, заползал под кожу, леденил сердце. Мы оба до боли в глазах вглядывались в небо, но лиловая ночь была непроницаема, словно ничего, кроме этого накатывающегося гула, не существовало вообще. И так мы были этим поглощены, что даже не услышали взрыва. Или, вернее, сперва мы его увидели. Там, позади, где осталась баржа, неожиданно вспыхнул свет. Белый. Снопом вверх. И грохнуло. А затем еще и еще. Словно разбуженные загрохотали, наконец, береговые зенитки, им в ответ заухали новые взрывы, и ночь расцветилась горящим прямо на воде бензином, трассирующими пулями, разгорающимся пожаром на барже. Огромным костром он полыхал посреди реки. И в свете этого костра один за другим проносились «Мессеры», расстреливая тонущих детей.
Все шлюпки с «Левитана» были спущены. В черной, маслянистой, горящей воде они вылавливали, увертывались, опрокидывались. Внезапно костер на барже завертелся волчком и разом погас. Образовав огромную воронку, втянувшую в себя все, что было поблизости, баржа затонула. И, словно исполнив свой долг, «Мессеры» разом развернулись и стали удаляться.
«Левитан» остался цел. На его палубе дрожали мокрые дети, – те, кого удалось спасти. Матросы разводили их по каютам. Мы с Вовкой тоже. Когда все уже, казалось, было позади, я увидела «забытую» девочку. Она лежала на корме ничком, без движения, и я испугалась, что она мертвая. Но девочка дышала. Вместе с Вовкой мы притащили ее в свою каюту, где было уже двое спасенных ребят, переодели, растерли, напоили горячим чаем. У девочки были огромные ресницы и огромные серые глаза. Но больше, казалось, ничего не было. Почти бестелесная от худобы, она словно отсутствовала, совершенно ко всему безучастная. Только на вопрос, как ее зовут, выдохнула:
– Тамарочка.
– Что же ты так плохо кушаешь? – спросила Елкина мама, очевидно, убежденная, что еда – спасенье от всех детских бед. – Вот еще печенье, ешь, Тамара.
– Тамарочка, – поправила девочка, не притрагиваясь к печенью.
Я уложила ее рядом с Елкой и еще с одной детдомовкой на свое место в серединку, а сама пристроилась на полу, на коврике. Так и спали остальные пять суток своего плаванья. Теперь «Левитан» еле плыл – сказывался перегруз. Погода тоже, как назло, испортилась: лил и лил дождь; и как-то все тоскливее, неуютнее становилось на душе. Но не погода была тому главной причиной, а «мамочка», которая относилась ко мне со все растущей неприязнью.
Однажды, просыпаясь, услышала какой-то шепот. Прислушалась. «Мамочка» убеждала Вовку держаться от меня подальше.
– Почему это? – возразил Вовка.
– Потому что она прежде всего дочь врагов народа.
Очевидно, в лице у меня что-то дрогнуло, шепот оборвался, ну а я тотчас поднялась и, полуодетая, вышла на палубу. Тут же следом выскочил Вовка, за ним – Тамарочка. Вовка в запальчивости начал мне говорить, что он «плевал на то, кто чья дочь, что он сам знает, с кем ему дружить», а Тамарочка протягивала мне кофту. В ее огромных глазах поблескивали слезы.
– Ну, что ты? Что ты? – забыв об «инциденте», наперебой стали мы успокаивать, соображая, чем бы ее развеселить. И придумали.
В тот же день из чемоданных ремней и казенных полотенец мы соорудили качели. Вызванный спешно «мамочкой» помощник капитана, глядя на робко улыбающуюся Тамарочку, вместо того, чтобы выругать за полотенца, наоборот, похвалил, сказав, что надо и в других каютах что-нибудь сотворить, а то ребятня совсем закисает.
Но качели все же сыграли роковую роль в моей судьбе. Когда «Левитан» наконец причалил к пристани, выяснилось, что только часть ребят будет помещена в Саратовский интернат, а часть отправлена в село Боары в открывающийся там детский дом. Специально прибывшая в Саратов, весьма внушительных размеров директриса детдома почему-то была заинтересована, чтобы «ее часть» была как можно большей и прямо на пристани стала требовать «своих» детей. Она размахивала какой-то бумагой и все попытки доказать, что ребята из одной школы и их нельзя делить, разбивались об эту бумагу. Когда же дело дошло до дележки, Елкина мама в число отправляемых на село первой вписала меня.
Возле пристани стояли подводы, на которых предстояло продолжить путешествие. Я помахала отчаливающему «Левитану» и, крепко держа за руку Тамарочку, пошла выбирать себе «карету».








