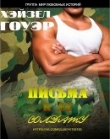Текст книги "Синьора да Винчи"
Автор книги: Робин Максвелл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
НОЧНЫЕ СОБРАНИЯ
ГЛАВА 15
Погода установилась теплая и приятная. Мое бытие со временем стало, что называется, вполне уютным, но вовсе не однообразным. Впрочем, какая может быть однообразность, если телом ты женщина, а живешь как мужчина?
Одолжив у Бенито на денек их семейного конька – Ксенофонта из-за старческого упрямства было не запрячь, – я процокала верхом мимо каменных домов городской окраины и направилась по улице Фаенца к северо-западу, на лоно природы.
По пути мне попадались непримечательные деревенские домишки на скромных наделах, где крестьяне трудились из рода в род. Однако встречались мне и более широкие участки земли, разбросанные то здесь, то там и ставшие в последнее время модным поветрием. Ими владели богатейшие флорентийские семейства. Вокруг элегантных вилл зеленели сады и виноградники, возвышались амбары, паслись табуны и стада – и все это благодаря усилиям множества наемных рук.
Чередующийся перед глазами контраст двух видов собственности неожиданно подтолкнул меня к размышлениям о противоречивости моей собственной доли. Непреложным благословенным даром свыше оставался для меня один Леонардо. Казалось, парки, неумолимо обрушивавшие на Катерину, жительницу Винчи, удар за ударом, теперь почему-то милостиво улыбались и благоволили Катону, флорентийскому аптекарю.
Я принялась рассуждать, какие права приобрела, став мужчиной. Мне необязательно теперь было читать стоиков, чтобы лучше противостоять безобразным нападкам и мелочным провинциальным сплетням, направленным на меня – безнравственную женщину. Мне больше никто не запрещал свободно прогуливаться по городским улицам и рынкам, даже в одиночестве. Я могла говорить о чем угодно и как мне нравится, а учиться тому, чему мне самой заблагорассудится. Люди с уважением выслушивали меня и считались с моим мнением. Я вступала с ними в разнообразные дебаты – о медицине, скотоводстве или политике, – и никто не называл меня при этом ведьмой, сварливой бабой или извращенкой.
«Но что я получу взамен за возвращение из рая в царство Аида? – задалась я вопросом. – Освобождение от грудных обмоток и право носить корсаж? Избавление от лишних волос и возврат нежного голоса?» То, что столь ничтожные приобретения враз лишат меня всех свобод, прочного положения и доброй репутации, которые я смогла заслужить в обществе, показалось мне абсурдным, однако я с сожалением призналась себе, что так оно и есть.
Помимо Лукреции Торнабуони де Медичи, стоявшей во главе богатейшего и просвещеннейшего семейства во всей Европе, почитаемой равно за свой ум и материнские достоинства, что само по себе большая редкость, уделом остальных женщин даже в счастливом браке, то есть при знатном, любящем и зажиточном муже и выводке здоровых детишек, оставались зависимость, покорность и угодливость. От них требовались лишь христианское благочестие и семейные добродетели, их мнения никто не спрашивал и не стал бы слушать. А те бедняжки, кому в мужья и отцы достались изверги, невежи или пьяницы, были обречены на жизнь ничуть не лучшую, чем у рабынь.
Ритуальное омовение, которое я совершила вечером накануне первого появления Лоренцо в моей лавке, воистину, отворило мне ворота в совершенно иной мир. Я испытала невероятное по своей глубине перерождение, сравнимое разве что со скачком Леонардо из моего чрева в руки Магдалены.
«Рождение, – отыскивала я различные варианты слова в закутках памяти. – Возрождение. Rinascimento. Скольким в жизни выпал этот редкий дар – начать все сызнова? Многим ли приходит в голову, что подобное вообще осуществимо?»
Я уже предвкушала конец своего недолгого путешествия – еще один подарок Провидения. Лоренцо пригласил меня на выходные на их семейную загородную виллу Кареджи. Мне не терпелось встретиться с его матерью Лукрецией, все еще носившей траур по мужу, и с веселым очаровательным Джулиано. Будет там, конечно, и Клариче с детьми – малышом Пьеро и дочкой Маддаленой. Может быть, Сандро Боттичелли тоже оторвется ненадолго от своих картин и присоединится к нам. Я поняла, что истосковалась по непритязательной, но превосходной пище, которой меня наверняка попотчуют за столом у Медичи, и улыбнулась своему мелочному желанию, как и стремлению поскорее насладиться красотой природы: среди городской суеты и толкотни я была напрочь лишена ее.
Маршрут, который Лоренцо набросал для меня в виде карты, в конце концов вывел меня к перекрестку, отмеченному каменным столбом. На нем я различила гравировку: стрелку, упиравшуюся в тонкую и узкую трехлинейную бороздку и всем известные «шесть шаров» – эмблему Медичи. Шары обозначали лекарские пилюли, поскольку отдаленные предки в их роду были врачами.
Солнечные зайчики, пробивавшиеся сквозь узорчатую листву и плясавшие у меня на плечах, на коленях, на боках лошади, придали толику волшебства моему приближению к элегантно вытянутому белокаменному особняку – вполне скромных очертаний, но прелестному благодаря лоджии, опоясывавшей его целиком на уровне третьего этажа. Слева простирались оливковая роща и пастбище, на котором пощипывали травку коровы, а справа раскинулись обширные виноградники и полоса разнотравья, больше напоминавшая цветущую горную лужайку, нежели ухоженный участок богатых и чопорных владельцев.
«Вот оно, совершенство, – подумала я. – Чистое, беспримесное. Иллюзия пасторальной простоты посреди изобильного великолепия».
И тут моим глазам предстало самое желанное зрелище – Лоренцо на пороге особняка, воплощенная улыбчивость, простирал руки мне навстречу. При виде его я ощутила ответный душевный порыв. Я сумела разглядеть красоту там, где другие усматривали лишь неказистость. Его чересчур смуглое лицо в моих глазах представало экзотически привлекательным, задиристый подбородок являлся свидетельством силы, а сплюснутый нос лишний раз напоминал о мужественности. Если бы я по-прежнему оставалась женщиной, то непременно выбрала бы его себе в любовники.
– Вижу, ты отыскал нас без труда.
– Отыскал место превыше всех похвал! – Я восхищенно обвела рукой лужайку, рощу и виноградник.
– Лучше его нет на свете, – с искренним благоговением сказал Лоренцо. – По моим стихам я сужу, что ничто не вдохновляет меня так, как природа.
– Даже любовь ей уступает? – поддразнила я.
Лоренцо, выпрягая коня из повозки, ответил не сразу.
– Сейчас да. Но потом, когда-нибудь, я все же надеюсь повстречать большую любовь.
Он отвел коня на пастбище и через калитку впустил его в коровий загон.
– Дама в моих сонетах не совсем настоящая, – признался он. – Скорее, поэтический вымысел, идеал… Пойдем, Катон, бери котомку. Я покажу тебе твою спальню.
Я подхватила с повозки суму и вслед за Лоренцо вошла на виллу Медичи. Вестибюль по бокам окаймляли две массивные мраморные лестницы. Симметрично изгибаясь, они уводили на второй этаж. Справа располагалась просторная гостиная, слева – столовая. Простая неброская мебель сразу напомнила мне о непритязательной кухонной утвари в городском дворце. Слуг, к своему удивлению, я нигде не заметила, дом, похоже, был полностью безлюден.
Мы стали подниматься по лестнице справа, минуя с полдюжины ниш, в которых были выставлены работы античных авторов: древнеримское мозаичное изображение женской головы, изящная мраморная рука – возможно, все, что сохранилось от прежней античной статуи. Лоренцо кивком указал мне на статую обнаженного юноши с крылышками. Пухлощекий отрок в нише сжимал в объятиях дельфина, едва ли не превосходившего его по величине.
– Из боттеги Верроккьо, – пояснил Лоренцо. – По-моему, в нем есть что-то от Леонардо.
При мысли, что судьбы моего сына и этого благородного семейства так тесно и прихотливо переплелись, мое сердце преисполнилось радостью.
Мы поднялись на третий этаж, где Лоренцо показал мне мою спальню. Я даже не заметила, какая в ней обстановка: мое внимание тут же привлекли двойные створки, ведущие на лоджию виллы. Я не мешкая подошла к ним, распахнула двери настежь и ступила на крытую галерею, разом обозрев с высоты зеленые холмистые просторы и дали. Городские очертания отсюда были неразличимы. «Обман зрения, – подумала я. – Флоренция совсем рядом и… где-то там». Эта комната будет моей на несколько дней – неслыханная честь!
– Благодарю вас, Лоренцо. Здесь замечательно!
– Я так и знал, что тебе понравится. Когда месяцами сидишь в городе и перед глазами у тебя только камень да мрамор, пусть в виде каких угодно прекрасных зданий, недолго и отупеть! А ты, я знаю, вырос на лоне природы…
Мне захотелось крепко обнять Лоренцо за его доброту, но вместо этого я кинула котомку на широкое, ровно застеленное ложе и принялась доставать свои вещи.
– Можешь складывать все сюда, – указал он на расписной сундук с кувшином и чашей, стоявшими на крышке. – Если хочешь, можешь смыть дорожную пыль.
Увидев, как загадочно он улыбается, я спросила:
– Ваша мать тоже приехала? А Джулиано? И супруга?
– Нет, – ответил Лоренцо, улыбаясь еще шире и таинственнее. – На этот раз ты познакомишься с другой моей семьей.
– Что же это за семья? – поинтересовалась я, но Лоренцо уже уходил прочь по коридору, крикнув напоследок:
– Как освежишься, приходи в садик за домом. Мы все там.
Плеснув в лицо прохладной воды, я вдруг застыла, пораженная небывалостью момента. Вот я стою в одиночестве в «своей» комнате на вилле Медичи, рядом с дверью, ведущей на роскошную лоджию, и чистейшим белоснежным полотенцем собираюсь утирать лицо после умывания.
«Жизнь так беспредельно щедра ко мне, – решила я, – что сыплет дары, словно из рога изобилия».
Я вытерлась, притворила дверь в комнату для полного уединения и переоделась в чистое белье. Затем щеткой причесала и почистила от пыли волосы, решив не надевать шляпу: ее напыщенная строгость была бы здесь не к месту. Надев поверх белья чистую мантию, я открыла дверь в коридор – там было тихо и пустынно.
Участок позади виллы Кареджи существенно отличался от пространства перед ее фасадом. От него веяло манерностью – итальянцы в последнее время очень жаловали этот стиль. Все здесь было симметричным: аккуратные изгороди, кусты и яркие цветущие газончики. Совершенную разбивку сада нарушали только два необычных объекта, однако прекрасно гармонировавшие с их окружением.
Одним из них было дерево, неимоверно старое, исполинское, с толстенным стволом, раскинувшим узловатые ветви наподобие тяжелого и плотного балдахина. Листва свисала с ветвей так обильно, что сам древесный великан напоминал огромное зеленое чудо-юдо. Обладай он голосом, то ревом своим, верно, потряс бы землю до самого ее основания.
Второй объект был рукотворным – неземной красоты округлое строение, похожее на храм в греческом стиле, сплошь составленное из стройных беломраморных колонн. Венчал его позолоченный купол в виде безупречно правильного полушария.
Меня вначале все же потянуло к дереву, поскольку именно оттуда долетали голоса и смех. Шагая по извилистым дорожкам среди безукоризненной симметрии сада, я слушала, как скрипит под подошвами гравий, и забиралась все дальше, пока не остановилась перед зеленеющим левиафаном, благоговея перед его древностью и величавостью. Затем в древесной тени я приметила группку мужчин, возлежавших на турецких коврах, расстеленных ярким узором посреди лужайки. Ковры были щедро уставлены графинами с вином, глиняными блюдами с виноградом, дощечками с сырами и хлебом и плошками с темно-зеленым оливковым маслом для макания.
Вскоре мужчины один за другим заметили меня, и среди компании воцарилось молчание, так что стало слышно, как стукаются над головой друг о друга ветви. Где-то на ближнем пастбище жалобно заблеял козленок, но тут же успокоился, отыскав материнское вымя.
– Это мой друг Катон, – неожиданно прозвучал голос Лоренцо. – Кое-кто из вас уже знает его, а остальные к вечеру отнюдь не пожалеют, что свели с ним знакомство.
Подобная рекомендация слегка ошеломила меня, тем более что, несмотря на мои всегдашние самоуверенные повадки, я ее вряд ли заслуживала. Среди собравшихся я сразу узнала гениального переводчика, богослова и целителя Марсилио Фичино, достославного поэта Анджело Полициано, которому приписывали любовный роман с Лоренцо, и первейшего флорентийского книгопродавца Веспасиано да Бистиччи.
Обняв за плечи, Лоренцо ввел меня в круг своих приятелей и сначала перечислил мне прежних знакомых, с изящной простотой назвав их по именам. Затем он приступил к тем, кого я увидела впервые.
Самым пожилым в собрании был Леон Баттиста Альберти, Лоренцо представил его мне с величайшей церемонностью и почтением. Услышав его имя, я буквально онемела: Альберти был признанным во Флоренции корифеем учености и культуры. Его называли аватаром благости и принцем эрудиции. Из-под его пера вышли авторитетные труды по архитектуре, живописи, скульптуре и даже по искусству жить. «Артистизм, – провозгласил однажды Альберти, – применим к трем занятиям: прогулка по городу, выезд верхом и беседа». Среди прочего он публиковал и сочинения по оптике – наблюдения за свойствами света. От всеохватного кругозора Альберти не ускользало ничто, хоть немного выбивавшееся из общего ряда познаний о мире. Все это парадоксальным образом не мешало ему одновременно быть замечательным атлетом, который, по слухам, без разбега успешно перепрыгнул через человека. Среди всех исключительных людей Флоренции мой Леонардо выделял и превозносил именно Альберти.
– Позвольте выразить вам свое глубочайшее почтение, синьор, – вымолвила я.
Наградой за мои слова явилась сердечная улыбка.
– Это Джиджи Пульчи, – представил мне Лоренцо краснощекого, довольно полнотелого человека. – Он наш любимый похабный поэт.
– Я сардонический забавник, – с добродушной усмешкой поправил его Пульчи.
– Да, и не только, – не стал спорить Лоренцо и продолжил:
– А вот Антонио Поллайуоло. Среди флорентийских живописцев он величайший из мастеров.
– Я искренне восхищаюсь вашим живописным циклом о подвигах Геракла в гостиной Медичи, – сказала я. – Мой племянник Леонардо да Винчи учится у вас писать обнаженную натуру.
Поллайуоло, мускулистостью напоминавший собственных персонажей, польщенно кивнул мне.
– Кристофоро Ландино. – Лоренцо подвел меня к высокому сухопарому человеку, чья улыбка обнаружила отсутствие нескольких передних зубов. – Ты, Катон, несомненно, слышал о нем. Кристофоро не только блестящий преподаватель риторики, но и переводчик Данте на тосканский язык. А вон там… – Обойдя со мной вокруг дерева, Лоренцо подвел меня к лысоватому человеку в коричневой мантии. Слегка ссутуленные плечи выдавали в нем ученого, привыкшего корпеть над книгами. – Граф Пико делла Мирандола.
Это имя я тоже слышала не впервые. Мирандола выполнил великолепный перевод иудейского мистического писания, Каббалы, и мой папенька испытывал перед ним прямо-таки священный трепет.
– Узнать вас – величайшая честь для меня, – в который уже раз вымолвила я.
Блеск и исключительность собрания ослепили меня, и я не переставала задаваться вопросом, какая причина свела вместе столь глубокие и несходные друг с другом умы.
– Сюда, садись с нами. – Лоренцо расчистил для меня место на шелковом турецком ковре, у ног Альберти. Несмотря на морщины, избороздившие лицо знаменитого старика, его ясные зеленые глаза светились остро и проницательно. – Мы как раз обсуждали древние Афины времен Сократа и Платона и черты их сходства с современной Флоренцией.
– Сходства и различия, – настойчиво поправил Джиджи Пульчи.
– Сходство в том, что Флоренция также приглашает величайших европейских философов, художников, ученых и писателей, предлагая им щедрое покровительство, – авторитетно заявил Кристофоро Ландино.
– Сходна и атмосфера в ней, благоприятствующая культурным достижениям и новым незаурядным идеям, – добавил Фичино.
– Афины истребили все мужское население Киона и Милоса, а женщин продали в рабство, – угрюмо высказался Лоренцо, уставив взор в землю, – совсем как ваш достохвальный правитель, обрекший Вольтерру на осаду и разграбление.
– Ты сделал это ненамеренно, – поспешно успокоил его Полициано. – Ты допустил ошибку и сам же искупаешь свою вину.
– У греков был публичный театр, а у нас нет, – перешел к различиям книготорговец Бистиччи. – Замарав себя теми двумя бойнями, они подстегнули Еврипида написать об этом героическую пьесу – «Троянки».
– А у нас во Флоренции мы все под пятой Церкви, гораздой только на искоренение ереси через инквизицию, – заметил Пико.
– Верно, – подхватил Поллайуоло. – Но мы все здесь – будь то писатели или архитекторы, мыслители или художники – ищем пути передать те послания и таинства, которыми сами так дорожим, выразить их символически: в живописи, в скульптурном оформлении соборов или в музыкальных каденциях.
Мне сразу вспомнилось «Рождение Венеры». Сколько загадок из мифологии и язычества зашифровал Сандро Боттичелли в созданных им образах женской красоты и всей природы! Сегодня он не присутствовал на собрании, но я без лишних расспросов поняла, что он здесь – желанный гость и член «семьи».
– Нам незачем падать духом! – подбодрил приятелей Фичино. – Веселость есть самое подходящее свойство для философа.
– Если ты не перестанешь твердить нам, что веселость и наслаждение суть высшие блага, плодотворные для познания, то мы поневоле возрадуемся, – съязвил Джиджи Пульчи. Последнее слово он произнес таким скорбным тоном, что все в компании рассмеялись.
– Пойдемте, – вставая, позвал Фичино. – Пора начинать наше собрание.
Все поднялись следом за ним, оправляя туники и разминая затекшие конечности.
«Наше собрание»? Какое еще у них замышляется собрание?
Ответ явился сам собой: собравшиеся углубились в сад по одной их гравиевых дорожек, уводившей к круглому греческому павильону. Я отыскала глазами Лоренцо – обняв Полициано за плечи, он кивнул мне, приглашая присоединиться к ним.
Я, приотстав от всех, двинулась за ними следом. Дружеская болтовня среди друзей совершенно прекратилась, и их легкомысленная с виду прогулка по мере приближения к зданию приобрела черты неторопливо шествующей вереницы. Лоренцо распахнул высокие дверные створки, и прославленные флорентийцы друг за другом скрылись внутри храма.
Лоренцо задержался, дожидаясь меня с той же загадочной улыбкой.
– Добро пожаловать в Созерцальню, – сказал он, – в наш храм Истины.
Я глядела на него, ничего не понимая.
– Входи на свой страх и риск, – вполне серьезно добавил Лоренцо. – Во всей Европе нет зала опаснее этого.
Я переступила порог. Лоренцо затворил двери и запер их изнутри на засов.
Я попала в помещение, какое не измыслила бы даже в самых сумасбродных фантазиях. Каннелированные колонны, [20]20
Имеющие на стволе вертикальный желобок – каннелюру.
[Закрыть]соединенные дугообразными перемычками, очерчивали ровную окружность храма, целиком выстроенного из белейшего, превосходной полировки мрамора. От строения веяло основательностью и постоянством, но одновременно его облик был преисполнен некой нематериальности, полупрозрачности. Солнечный свет проникал сюда из-под свода, вызолоченного изнутри так же, как и снаружи. Посреди храма в полу я увидела округлое углубление с кристально чистой водой, в самом его центре ярко и неиссякаемо пылал факел.
Вошедшие, степенно продвигаясь по залу, заполнили его целиком, молчаливо ступая вдоль мраморных скамей, расположенных по периметру. Я примкнула к исполненной благоговения процессии, встав за Пико делла Мирандолой, и, обойдя треть окружности, оказалась напротив стенной ниши, в которой был выставлен мужской бюст греческой работы. Еще не успев прочесть имя на каменном пьедестале, я уже знала, что передо мной Платон. Тончайшей работы изваяние украшал венок из зеленого лавра. Я услышала, как Пико шепчет давно почившему философу слова признания.
Шествие продолжало двигаться дальше, и вскоре я увидела следующую нишу. Ее обитателем был, судя по окладистой длинной бороде, некий премудрый старец. «Гермес Трисмегист», – гласила надпись на латыни. У меня разом перехватило дыхание, а на лбу выступила испарина: эти люди не побоялись обожествить Гермеса Трижды Величайшего!
Миновав его бюст, Пико уселся неподалеку на мраморную скамью. Слыша за собой шаги Лоренцо, я собралась с духом и взглянула на статую в третьей нише. Поскольку первые две оказались совершенно вопиющими с точки зрения христианского сознания, я теперь была готова ко всему. На самом деле я ожидала чего угодно, но только не этого.
Передо мной в полный рост предстала Исида. Весь пол в нише и у ног богини ворожбы и врачевания, материнства, девственности и сладострастия был завален охапками свежих цветов и душистых трав. Ее шею обвивал сплетенный кем-то венок из пионов.
Я смешалась и буквально оцепенела при виде статуи, так что подошедшему вплотную Лоренцо пришлось шепнуть мне на ухо, чтобы я заняла место на скамье. Только тогда я вышла из невольного транса.
Лоренцо едва заметно поклонился изваянию и тоже сел поблизости от меня. Теперь, как я убедилась, все собравшиеся расположились на равном расстоянии друг от друга. Широко раскрытыми глазами каждый из присутствующих взирал на горящий факел посреди водоема. В храме царила тишина, никто не двигался, только от дыхания слегка вздымались и опадали плечи и моргали веки. Безмолвное созерцание затянулось. В иной обстановке я давно смутилась бы или встревожилась, но здесь – странное дело! – общее молчание подействовало на меня умиротворяюще. Оно настраивало на общение.
Внезапно, без единого произнесенного слова, грезы сами собой рассеялись и, словно повинуясь некоему неслышному сигналу, все задвигались, послышались легкие смешки и тихие разговоры.
Марсилио Фичино поднялся и обвел глазами собрание, задерживая взгляд на каждом из приветливо улыбавшихся ему лиц. Я вдруг поняла, что мне на удивление легко и свободно в этой обстановке непередаваемого величия.
– Приветствую всех вас, – произнес Фичино, – членов Платоновской академии и Братства магов.
Платоновская академия! Эти слова поразили меня, словно громом. По городу и раньше ползали слухи о тайных религиозных обществах всевозможных вероисповеданий – «ночных собраниях», однако о тех, кто поклонялся у алтаря «гениальному греку», люди решались говорить разве что шепотом. Культ подобного рода, по мнению Церкви, являлся апофеозом ереси и торжеством порока.
– Сегодня среди нас, – продолжал Фичино, – присутствует гость, Катон Катталивони, ученый и аптекарь. Он явился сюда по высочайшей рекомендации Лоренцо де Медичи, и когда мы с ним наконец разберемся… – Фичино улыбнулся, а среди собравшихся послышались добродушные смешки, – досточтимый Катон, если будет на то его желание, вольется в наше братство поиска Мировой Истины.
– Начнем же, зачем мешкать! – раздались возгласы.
Фичино сел, и тогда, не вставая со скамьи, заговорил Лоренцо. Его голос, несмотря на внушительность обстановки, оставался таким же естественным и доброжелательным, как и во время наших дружеских бесед.
– В тысяча четыреста тридцать восьмом году, через тысячу восемьсот шестьдесят шесть лет после рождения Платона, мой дед Козимо основал Академию. С Востока тогда впервые потоком хлынули к нам древние книги и рукописи, и тотчас нашлись образованные люди с пытливым умом, большей частью гуманитарии или священники, готовые в поте лица штудировать идеи античности. До тех пор над Европой столетиями сгущались мрак и гнет, свирепствовали чума и суеверия. Церковь совала нос в каждый дом, в каждый закуток, наводя ужас на мужчин, женщин и даже на малолетних детишек посулами геенны огненной и вечного проклятия… за их главный грех – рождение на свет Божий!
– Затем мой дед отыскал Силио, – Лоренцо с признательностью взглянул на Фичино, – и доверил ему приступить к переводу всех сочинений Платона. За другие переводы взялись и выполнили их с неизменным усердием Поджо Браччолини, Кристофоро и Пико. А Веспасиано, да благословенно пребудет его сердце, – Лоренцо послал улыбку книгопродавцу Бистиччи, – обратил торговлю книгами в почетную профессию. А теперь в помощь нашим занятиям Силио перевел и «Корпус Герметикум».
– Расскажи Катону об изначальной Академии, – попросил Пульчи.
– Джиджи, почему бы тебе самому не рассказать о ней? – предложил Лоренцо и с видом выполненного долга откинулся на спинку скамьи.
– В триста восемьдесят третьем году до Рождества Христова греческий Платон, которому тогда было сорок лет, приехал в Италию, – чрезвычайно горделиво объявил Пульчи. – Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, что именно он осматривал здесь и изучал, зато нам доподлинно известно, что по возвращении домой Платон вдохновился идеей основать школу и под ее эгидой собрать ученых, преподавателей и студентов…
– Это Италия вдохновила Платона! – ко всеобщему одобрению, воскликнул Полициано.
– …с единственной целью, – как ни в чем не бывало продолжил Пульчи, – совместно предаться изучению разнообразных умозрительных дисциплин: философии, математики, астрономии, биологии, медицины. Греки, которых мы ныне весьма почитаем, в те времена ничуть не меньше преклонялись перед египтянами.
– Первейшей любовью Платона, разумеется, оставалась философия, – подхватил эстафету Ландино, – поэтому в первое время он в диалогах всячески защищал от очернителей своего обожаемого приснопамятного учителя Сократа.
– Защищал и от убийц, – не в силах скрыть волнение, добавил Леон Баттиста Альберти. – Только помыслите: предстать перед публичным судом и пойти на казнь лишь за то, что ты учил юных афинян иметь свое мнение и изрекать истину! Горький парадокс состоит в том, что нанимали Сократа отцы тех самых юношей, которым он преподавал!
– Выходит, Афины, перед которыми мы благоговеем, по сути, не являлись идеальным государством? – не выдержав, подала я голос.
Отвечать мне начали разом несколько человек, но певучий голос Антонио Поллайуоло перекрыл всех:
– Попытка установить демократию в конечном итоге подверглась обструкции со стороны даже таких мудрецов, как Платон. Прочие же формы управления – олигархия и плутократия – потерпели еще более сокрушительный провал.
– Однако наш Лоренцо весьма увлечен мыслью об «идеальном государстве», описанном в «Республике» Платона, – заявил Полициано. – Он мечтает и Флоренцию перекроить по ее образцу.
– Винюсь, мечтаю, – признался Лоренцо. – Но спешу заметить, что мы отвлеклись от представления Катону нашей Академии в сторону политики, хотя наше общее кредо – философия.
– Вот именно, – поддержал его Фичино. Он встал со скамьи и, неторопливо двинувшись вокруг водоема, заговорил веско и с достоинством:
– Философия, по нашему глубокому убеждению, есть наивысшее из человеческих призваний, посвящение в мистику и эзотерику, доступное лишь немногим. Следуя учению Платона, мы оценили и освоили искусство ведения дискуссий. Мы стоим за осознанный подход к познанию и действительности и не позволяем себе отгораживаться от каких бы то ни было новых веяний. В любой момент каждый из нас готов пересмотреть свои мнения и позиции.
Завершив полный круг, Фичино остановился прямо передо мной. Я вдруг оробела, осознав привилегию получить назидание от наставника самого Лоренцо де Медичи.
– Мы, академики, умеем распознать наших врагов, – продолжил суровым голосом Фичино. – Они суть алогичность и аморальность. Безрассудные помыслы и поведение. – Фичино прямо-таки сверлил меня взглядом. – Катон, презренна жизнь вне поиска Истины и Добродетели. Среди нас есть такие, и в первую очередь Пико, – он кивком указал на Мирандолу, – кто пытается языческие и оккультные учения примирить с церковной доктриной и со Священным Писанием. Но все мы без исключения исповедуем герметизм, согласно которому человек отнюдь не ничтожество, не заложник первородного греха и не убожество, взывающее к спасению. Мы сходимся на том, что каждый человек божествен по своей сути, но волею судьбы обретается в несовершенном мире. Герметическое учение возвышает души людей, тогда как Церковь втаптывает их в грязь!
Так мало-помалу продвигалось мое вступление в это удивительное братство, чья родословная, подобно золотым нитям, тянулась издревле, из цельнотканого полотна античности. Оно ярчайшей звездой светилось посреди нашей разумной Вселенной. Многое услышанное в тот день я помню по сию пору, но с еще большей ясностью я вспоминаю благословения, которые на каждом новом витке беседы мысленно посылала папеньке. Без его доскональных познаний и требовательности ко мне как к ученице никогда бы мне не заседать в том избранном кругу, тем более не суметь уследить за ходом дискуссии, даже вставляя в нее иногда собственные комментарии и замечания.
И в тот самый день я непостижимым образом влюбилась в Лоренцо де Медичи, породнилась с ним душою. Не скрою, я была благодарна ему и за доверие ко мне, и за покровительство, обеспечившее мне вхождение в его ближний круг. Я восхищалась им и просто как человеком, правителем, желавшим руководствоваться только высшими принципами, поэтом с нежным и чувствительным сердцем и исследователем, не ведавшим ничего превыше природы с ее тайнами.
Но основой всего стала любовь, и для меня несущественно было, что он чувствует по отношению ко мне. Взаимная или неразделенная, тайная или откровенная, любовь незаметно выкристаллизовалась во мне и засверкала всеми гранями, подобно чистейшему полупрозрачному мрамору в храме Истины. С нынешнего момента я про себя называла возлюбленного «мой Лоренцо», точно так же, как сын был для меня – «мой Леонардо».
Беседа заняла не один час, и постепенно я стала замечать, что солнце больше не струит лучи через отдушину в куполе. От мраморных скамей повеяло холодом, и академики беспокойно заерзали на своих местах. В конце концов они почти наскоро вознесли благословения Платону, Гермесу и Исиде и без дальнейших проволочек потянулись наружу, где вечерняя заря уже сменялась сумерками.
Со смехом и дружескими подначками мы, хрустя гравием, двинулись по регулярному саду к темневшей невдалеке вилле. Некоторые по пути остановились, чтобы помочиться, и я вдруг сообразила, что и мне не помешает отлить. Приметив подходящий куст, я отвернулась и начала орошать его из «рожка».
– Наслаждаешься?
Голос за моей спиной прозвучал так неожиданно, что я резко дернулась и на миг выпустила из рук «рожок».
Правда, тут же его подхватила, но струя, к моему смущению, разбрызгалась вкривь и вкось.
– Хо-хо, извини! – засмеялся Лоренцо, встав со мной рядом и тоже начав мочиться. – Надеюсь, не наше собрание виной, что ты стал таким пугливым?
– Вовсе не собрание, – с трудом вернув себе прежний апломб, ответила я, – а один его член, который подкрался ко мне исподтишка и…
Я пожалела, что не подыскала иных слов, но Лоренцо проявил великодушие и воздержался от каламбура. Он вместо этого промолчал, быстро сделал свое дело и удалился, ободряюще хлопнув меня по плечу. Что ж, на этот раз миновало…