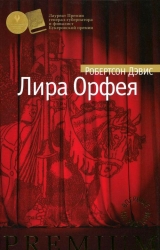
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Две волшебные шишки. Очевидно, шишки с голубых елей в лесу Мерлина обладают особо волшебными свойствами.
– А что, в шишках нынче есть что-то двусмысленное? – спросил Холлиер. – Простите, я не очень разбираюсь в современном сленге.
– Шишки теперь означают женскую грудь, – объяснил Пауэлл. – Выпуклости, понимаете? «У нее отличные шишки». Возможно, это словечко больше распространено в Англии, чем здесь.
– А, понимаю. Я подумал про «шишку» в единственном числе, что означает головку полового члена. Возможно, об этом предмете будет говорить сам Великодушный Рогоносец.
– Ради бога, перестаньте шутить, – сказал Артур. – Дело очень серьезное. Вы что, не понимаете? Мы что, правда собираемся выкинуть кучу денег из наследства дяди Фрэнка на оперу про голубых мальчиков, шишки и сношения через дупло? Мария, скажи мне, я уже поседел? Я отчетливо ощущаю, как у меня съеживается кожа на голове.
– Мне, как специалисту по Рабле, отвратительны эти жалкие потуги на полускрытую непристойность, – заявила Мария.
Пенни не очень элегантно выплюнула на тарелку горсть виноградных косточек.
– Но зато у вас есть музыка. Во всяком случае, планы и наброски.
– Да, но годится ли она? – спросила Мария. – Если это на том же уровне, что и Планше, мы пропали. Сидим в дыре, как Артур говорит. Хороший ли Гофман композитор? Кто-нибудь знает?
– Я, конечно, не судья, – сказала Пенни. – Но я думаю, что очень неплохой. Имейте в виду, я в музыке не специалист. Но когда я была в Лондоне, Би-би-си передавало «Ундину» Гофмана в цикле ранних романтических опер, и я, конечно, послушала. Даже записала, и эти записи у меня с собой, если кому интересно. У вас есть магнитофон?
Мария взяла кассеты и вставила одну в стереопроигрыватель, ловко спрятанный в шкафу рядом с Круглым столом. Даркур убедился, что у всех налито, и члены Фонда Корниша – в самом ужасном упадке духа со дня основания фонда – приготовились слушать. На всех лицах читалась безнадежность, но у Пауэлла – в меньшей степени. Ему, как человеку театра, было не привыкать к провалам и безднам творческого процесса.
Артура первого встряхнула и оживила музыка.
– Слушайте, слушайте! Он использует голоса в увертюре! Вы когда-нибудь слышали такое?
– Это голоса влюбленного и Духа Воды, взывающих к Ундине, – объяснила Пенни.
– Если он и дальше продолжает на том же уровне, может быть, все обойдется, – сказал Артур.
Он был страстным меломаном, плохим пианистом-любителем и ужасно сожалел, что дядя Фрэнк не оставил ему свою завидную коллекцию музыкальных рукописей. Тогда незавершенная опера оказалась бы в надежных руках самого Артура.
– Да он умелый композитор, – произнесла Мария.
И в самом деле. Сотрудники Фонда Корниша приободрились – в меру своей способности к восприятию музыки. Даркур понимал, что слышит: он и с Фрэнсисом Корнишем когда-то познакомился на почве общей любви к музыке. Пауэлл утверждал, что музыка – одна из стихий, в которых он живет; он хотел расширить свой опыт театрального режиссера постановкой оперы и именно поэтому так уговаривал Фонд Корниша заняться «Артуром Британским». Холлиеру в детстве медведь на ухо наступил, но драматические сюжеты Холлиер любил и понимал, а «Ундина», безусловно, была драматична, – правда, это не мешало ему время от времени клевать носом. К концу первого акта все заметно приободрились и опять потребовали выпивки – но не для того, чтобы утишить боль поражения, а чтобы отметить удачу.
«Ундина» – длинная опера, но Фонд Корниша мужественно дослушал ее до конца. Было уже почти четыре часа утра; они просидели за Круглым столом больше девяти часов. Но, кроме Холлиера, все были бодры и счастливы.
– Если таков Гофман-композитор, мы снова оседлали свинью, как говорится, – сказал Артур. – Надеюсь, я не выдаю желаемое за действительное, но, по-моему, это просто отлично.
– Он и правда призывает лиру Орфея, чтобы открыть подземный мир чувств, – заметила Мария. – Он часто повторял эту фразу. Должно быть, она ему очень нравилась.
– А вы слышали, как он использует деревянные духовые? Не просто дублирует струнные, как норовили даже лучшие итальянцы того времени; нет, у него они создают свое отдельное настроение. О, волшебные глубокие звуки флейт! Это романтизм, верней верного, – сказал Пауэлл.
– Новый романтизм, – заметила Мария. – Можно уловить отзвуки Моцарта – нет, не отзвуки, а бережные воспоминания, с любовью; а в грандиозные моменты – бетховенскую крепкую плоть. И слава богу, в особо напряженных местах он достигает выразительности не за счет того, что дербанит в литавры. По-моему, это прекрасно! О Артур!..
От облегчения и радости она бросилась мужу на шею и поцеловала его.
– Я рад, что мы сначала выслушали его письмо к Планше, – сказал Даркур. – Теперь мы знаем, куда он двигался и чего надеялся достичь в «Артуре». Музыка не как подпорка для сценического действия, но как само действие. Как жаль, что ему не удалось довершить задуманное!
– Да, да, это все прекрасно; я не хочу лить на ваши восторги холодную воду, но как наименее музыкальный человек среди собравшихся должен заметить, что у нас все-таки нет либретто, – вмешался Холлиер. – Исходя из того, что белиберда Планше не годится, – конечно, вы все с этим согласны. Значит, либретто нет. А хватит ли у нас музыки на оперу, кто-нибудь знает?
– Я заходил в библиотеку посмотреть, – ответил Артур. – Там есть большая пачка нот, но я, конечно, не могу судить, в каком состоянии эта музыка. Кое-где на нотах что-то нацарапано по-немецки – видимо, предложения по сценическому действию или указания мест, на которых это действие должно происходить. Я не умею читать старонемецкий почерк, так что ничего не могу сказать.
– А слова?
– Я не видел никаких слов, но я могу ошибаться.
– Как вы думаете, мы можем вручить Шнак эти бумаги и предоставить ей простор для деятельности? Она знает немецкий? Может быть, переняла хоть немного от родителей. Конечно, это будет не поэтический немецкий. В старших Шнаках нет ничего поэтического, – сказал Даркур.
– Я не хочу показаться назойливым, но каково наше положение в отсутствие либретто?
Пауэлл потерял терпение:
– За этим столом собралось столько башковитых людей! Неужели мы все вместе не сможем составить одно либретто?
– Стихи? – переспросил Даркур.
– Да, стихи для либретто, – ответил Пауэлл. – Я видел десятки либретто, и ни одно из них не достигало головокружительных поэтических высот. Ну же! Составление либретто – это не для слабодушных.
– Боюсь, в отношении музыки я буду пятой спицей в колеснице, – заметил Холлиер. – Но что касается кельтских легенд, они по моей части. Я прекрасно помню роман Мэлори. Все мои познания – к вашим услугам. Я могу подделывать поэтические строки на позднесредневековом английском не хуже кого другого.
– Отлично, – сказал Пауэлл. – Вот мы и снова оседлали свинью, как, в весьма кельтском духе, выразился Артур.
– О нет, не торопитесь, – осадил его Холлиер. – Нам понадобится время даже после того, как мы выберем нужный вариант Артуровой легенды. Их, знаете ли, много: кельтская, французская, немецкая и, конечно, версия Мэлори. А как мы собираемся трактовать образ Артура? Кто он – бог солнца, воплощенный в легенде людьми, не до конца обращенными в христианство? Или просто dux bellorum, вождь-военачальник бриттов, возглавляющий борьбу против пришлых саксов? Или мы выберем утонченный вариант Марии Шампанской и Кретьена де Труа? Или решим, что Гальфрид Монмутский все же знал, о чем пишет, сколь бы маловероятным это ни казалось? Теннисоновского Артура можно сразу сбросить со счетов – он насквозь добродетельный и благородный, послефрейдовская публика на такое не купится. Одно решение вопроса, каким мы хотим видеть Артура, может занять много месяцев упорных раздумий.
– Мы хотим видеть его героем оперы начала девятнадцатого века, и конец делу, – отрезал Пауэлл. – Нам нельзя терять ни секунды. Я, кажется, четко объяснил, что Стратфордский театральный фестиваль позволит нам организовать девять или десять представлений «Артура» в следующем сезоне. Я уговорил их поставить его в расписание как можно позже, то есть в конце августа. Остался едва-едва год. Надо пошевеливаться.
– Но это абсурдно! – уперся Холлиер. – Успеем ли мы создать либретто, не говоря уже о музыке? И, кроме того, я думаю, певцам и театральным работникам тоже нужно будет время.
– С певцами и театральными работниками нужно будет подписать контракт не позже чем через месяц, – сказал Герант. – Боже мой, вы хоть примерно представляете, как работают оперные певцы? Лучшие из них связаны контрактами на три года вперед. Для нашего масштаба лучшие звезды не нужны, даже если бы мы могли их заполучить; но и умных певцов следующего разряда непросто будет найти, особенно для никому не известной вещи. Им придется втискивать нашу оперу в очень напряженные расписания. А еще оформитель, и плотники с малярами для декораций, и костюмы… Хватит пока, а то я сам испугаюсь.
– Но либретто! – воскликнул Холлиер.
– Либретто должно пошевеливаться. Тому, кто за него отвечает, придется немедленно взяться за работу и работать быстро. Не забудьте, что слова нужно будет впихнуть в существующую музыку, какая бы она ни была, а это дело непростое. Мы не можем позволить себе расслабуху с солнечными богами и Кретьеном де Труа.
– Ну, если вы так подходите к делу, то мне лучше сразу удалиться. У меня нет никакого желания связывать свое имя с халтурой, – заявил Холлиер и налил себе еще стакан виски из графина.
– Нет-нет, Клем, ты нам очень нужен, – поспешила заверить Мария.
Она до сих пор питала нежность к человеку, который – кажется, уже так давно – сорвал цвет ее невинности: почти рассеянно, словно не замечая, что делает. Конечно, вряд ли Мария, современная девушка, обладала чем-то таким архаичным, как цвет невинности, но это слово подходило к палеопсихологическому образу мышления Клемента Холлиера.
– Я берегу свою репутацию ученого. Мне жаль настаивать, но это факт.
– Клем, ну конечно ты нам нужен, – вмешалась Пенни Рейвен. – Но, я думаю, только в качестве консультанта. Саму писанину лучше оставить старым рабочим лошадкам вроде нас с Симоном.
– Как пожелаете, – с пьяным достоинством сказал Холлиер. – Я безо всяких сожалений признаю, что у меня нет опыта работы в театре.
– Опыт работы в театре – именно то, что нам понадобится, и притом солидный опыт, – сказал Пауэлл. – Я собираюсь вас вытащить из этой кутерьмы, и я намерен действовать кнутом, – надеюсь, никто не будет на меня в обиде. Если мы хотим создать хоть какую-то постановку, нам придется собрать воедино кучу разнородных элементов.
– Я, как член ученого сообщества, предположительно играющий роль акушерки при вашем начинании, смею напомнить, что вы забыли один важный элемент, который будет иметь большой вес во всем этом деле, – сказала Пенни.
– А именно?
Особого научного руководителя, которого выписали для Шнак. Светило, которое приедет в университет, чтобы в течение года выступать в роли «композитора с проживанием» специально для участия в нашем проекте.
– Уинтерсен все намекает, но так и не назвал имя, – заметил Даркур. – Пенни, ты знаешь, кто это?
– Знаю. Они наконец договорились. Это не кто иной, как сама доктор Гунилла Даль-Сут.
– Боже ты мой! Что за имя! – воскликнул Даркур.
– Да, а что за дама! – отозвалась Пенни.
– Не слыхал про такую, – заметил Артур.
– Как не стыдно! Ее считают преемницей Нади Буланже,[26]26
Надя Буланже (1887–1979) – французский музыкант, дирижер, педагог.
[Закрыть] музой, воспитательницей талантов и творительницей чудес. Шнак – поистине удачливое дитя. Но еще про Гуниллу говорят, что она – Страх Божий, так что Шнак лучше остерегаться, а то ей достанется на орехи.
– С какой же стороны света явится сие грозное воплощение божества? – спросил Артур.
– Из Стокгольма. Разве имя и фамилия вам ни о чем не говорят?
– Надо думать, нам колоссально повезло?
– Не могу сказать. Кто она – Снарк или Буджум? Поживем – увидим.
6
ЭТАГ в чистилище
Мне нравится этот Пауэлл. Настоящая театральная душа. Боже, как вспомню, каково мне приходилось, когда я ставил оперы в Бамберге и даже в Берлине – и не всегда знал, где взять нужное число музыкантов для оркестра! Да и что за музыканты! Днем – портные, вечером – кларнетисты в театре! А певцы! Но хуже всего был хор. Помню, иные хористы украдкой бегали за сцену, когда хор был не занят, и возвращались через пару минут, вытирая рот тыльной стороной руки! И еще все актеры носили кальсоны под трико: вельможи при дворе какого-нибудь князя Егосиятельство выглядели так, словно только что ввалились в театр с ледяных пустошей Лапландии. Теперь все стало гораздо лучше. Порой мне удается проникнуть на постановку какой-нибудь оперы Вагнера – того самого Вагнера, который так любезно обо мне отзывался и указывал на мое влияние в своем превосходном использовании лейтмотива. Поверьте, мне хочется рыдать – в той мере, в какой может рыдать тень, – до того чисто вымыты эти певцы! Все мужчины, кажется, побрились в самый день представления. Иные женщины толсты, но ни одна из них не беременна больше чем на пятом месяце. Многие из этих актеров умеют играть! И играют – хоть и не всегда хорошо. Без сомнения, в опере многое изменилось с моих бамбергских дней.
А про деньги нечего и говорить! Артисты, занятые в моем «Артуре», могут каждую пятницу являться к театральному казначею, точно зная, что им выплатят полное жалованье за всю неделю. Как хорошо я помню обещания своего времени – и ненадежность этих обещаний! Конечно, мне, как директору театра – то есть человеку, которому порой приходилось дирижировать оркестром и малевать декорации, – жалованье обычно выплачивали, но его было трагически мало. Эти современные люди театра, кажется, не чувствуют, что они живы, а я, думая об их легкой жизни, порой забываю, что я мертв. Точнее, мертв в той же степени, что и все остальные обитатели чистилища.
Я наконец-то смею надеяться. Может быть, мне не суждено остаться в чистилище навеки. Если Герант Пауэлл поставит моего «Артура» и хотя бы пять человек высидят до конца представления, то я обрету свободу и моя душа возобновит свой прерванный полет, mors interruptus, [27]27
Прерванная смерть (лат.).
[Закрыть] выражаясь научно.
Конечно, виноват я сам. Да, я ушел раньше времени, но следует признать, что я сам ускорил свою кончину – так же верно, как если бы прибег к петле или ножу. Моя смерть наступила от бутылки и от… впрочем, довольно. Назовем это «смертью от романтизма».
Однако по великому милосердию Всевышнего существование в чистилище – вовсе не сплошные слезы раскаяния. Мы можем и смеяться. И как же я смеялся, когда эта женщина-профессор – в мое время такого не было; ученая женщина могла быть bas bleu, [28]28
Синий чулок (фр.).
[Закрыть] но никогда не подумала бы вторгнуться в университет, – когда эта женщина-профессор, как я уже сказал, читала письма Планше Кемблу.
Мне они были в новинку. Я помню его письма ко мне, источаемую ими живость и самоуверенность. Он вовсе не сомневался, что я, который не писал опер уже несколько лет – кажется, семь, – с радостью приму его развязную помощь. Но эти письма Кемблу, в которых он рапортует о нашей переписке, были для меня чем-то новым; они представили мне всю историю в новом, забавном свете. Бедняга Планше, трудолюбивый гугенот, столь твердо намеренный потрудиться на благо мадам Вестрис и ее великолепных конечностей. Бедняга Планше, уверенный, что оперная публика не усидит спокойно, когда играют или поют что-то серьезное. Конечно, Планше представлял себе оперу в виде дурного Россини – или в виде Моцарта, изуродованного самовлюбленным бандитом Бишопом. Ковент-Гарден Планше – это театр, где никто не слушает происходящего на сцене, пока не завизжит или не затрубит очередная Великая Глотка; где люди приходят в ложи с корзинами жареной птицы и шампанского и набивают животы прямо посреди действия; где все зрители подходящего возраста, от четырнадцати до девяноста, флиртуют, кивают друг другу и посылают из ложи в ложу billets doux, [29]29
Любовные записочки (фр.).
[Закрыть] обернутые вокруг пакетиков со сластями; где сопрано, стяжав достаточно настойчивые аплодисменты, приостанавливает ход оперы и исполняет какую-нибудь популярную песенку – после моей смерти это зачастую был «Дом, милый дом», монументальный вклад Бишопа в историю музыки; где драгоценности сопрано – настоящие, полученные за упорное лежание под старыми богатыми вельможами – интересуют зрителей не меньше, чем ее голос; по мере увядания Великой Глотки взгляды все сильнее приковывает Великий Бюст, и чем больше он, тем больше на нем уместится бриллиантов. Ревнивые соперницы называют их «медалями за доблесть».
В Германии – даже в Бамберге – мы знали театр лучше этого и трудились, чтобы зачать Романтизм и произвести его на свет.
Я рыдал – о да, мы, обитатели чистилища, можем рыдать и часто предаемся этому занятию, – вновь услышав мою «Ундину», исполненную лучше, чем я когда-либо слышал при жизни. Как хорошо теперь играют оркестры! В том оркестре, который извлекла bas bleu из хитроумной музыкальной машинки, пожалуй, не было ни одного портного! «Ундина» осталась моей последней попыткой перетащить оперу из восемнадцатого века в девятнадцатый. Я вовсе не отвергаю Глюка и Моцарта, но следую за ними в своих попытках вытащить в сознание нечто большее из бессознательной части человеческой души. Так мы обратились от их формальных комедий и трагедий к мифам и легендам, чтобы освободиться от цепей классицизма. И сюжет «Ундины» – да, моей прекрасной сказки о водяной нимфе, которая становится женой смертного и в конце концов уносит его с собой в подводное царство, – разве не говорит о стремлении современного человека исследовать глубины, лежащие под поверхностью его собственной души? Я знаю, что сейчас мог бы разработать этот сюжет гораздо лучше, но я и тогда неплохо справился. Вебер – мой щедрый, добрый друг Вебер – хвалил искусство, с которым я объединил музыку и действие в прекрасной мелодической концепции. Такая похвала, и из такого источника!
И вот наконец, после долгого ожидания, может быть, и из моего «Артура» что-нибудь выйдет. «Нет либретто», – сказали они. У них есть лишь яйца-болтуны, которые так ловко высасывал Планше. Куда они пойдут за либретто? Но я верю в Пауэлла. Думаю, он знает об Артуровом мифе больше, чем все остальные, особенно профессора. Смею ли я надеяться, что моя музыка, мои наброски зададут тон всей работе? Конечно. Я должен надеяться.
Жаль, я понимаю не все, что они говорят. Кто такие Снарк и Буджум, которых упомянула bas bleu? Звучит словно некая великая битва из трудов Вагнера. О, это докучное ожидание! Надо полагать, оно и есть мука или наказание, переносимые в чистилище.
III
1
Симон Даркур сидел у себя в кабинете, в колледже Плоурайт, и обдумывал план преступления. Это, несомненно, было преступление, ибо он задумал обворовать сначала университетскую библиотеку, а затем – Канадскую национальную галерею. Княгиня Амалия выразилась предельно ясно: цена информации о Фрэнсисе Корнише, которой она готова поделиться, – наброски к рисунку, который она использует для рекламы своей марки косметики. Княгиня преподносила его публике как рисунок старого мастера, хоть и не называла имя этого мастера. Но тонкость линий, виртуозное владение техникой серебряного карандаша и, превыше всего, умение воспроизвести девственную красоту – непорочную, но сознающую свои силы – недвусмысленно говорили о ком-то из старых мастеров.
Фотографии княгини Амалии уже много лет появлялись в разделах светских сплетен модных журналов, где она публиковала свою рекламу. Было видно, что эта прекрасно сохранившаяся аристократка, лет, быть может, пятидесяти с небольшим, принадлежит к тому же роду, что и невинное дитя на рисунке в рекламе. О магия аристократии! О романтика древнего рода! Как передавалась красота, подобно благословению, через четыре века! Аристократизм, конечно, не купить в магазине, но ведь могла же крупица волшебства перейти от княгини Амалии в ее лосьоны, мази и краски! Дамы – и, как стало известно, немало джентльменов – поспешили записаться на прием к умелым визажисткам из салонов княгини. Визажисткам предстояло (это занимало целый день) установить, какой старый мастер живописал именно тот тип красоты, к которому принадлежит клиент, и какие краски этот мастер использовал, чтобы запечатлеть красоту на века. (В обширном списке мастеров ближе всех к современности был Джон Сарджент.) Предположительно только княгиня Амалия могла воспроизвести нужные краски в косметике. Процедура была очень дорогая, но, конечно, стоила того, ибо вводила клиента в мир великого искусства, творений величайших художников. Чтобы тебя увидели как человека с картины старого мастера – неужели это не стоит больших денег? «Расхватывают, как горячие пирожки» – этой вульгарной фразой рекламщики описывали успех кампании. Не старайтесь выглядеть по последнему писку моды. Откройте в себе – в глубинах своей души – свое лучшее «я», модель гениального художника!
Конечно, если выплывет на свет, что портрет благородной девы из числа предков княгини Амалии на самом деле нарисован канадцем, знавшим княгиню девчонкой, миллионы долларов вылетят в трубу. Во всяком случае, так сказали бы специалисты по рекламе. Если какой-нибудь любопытный, роясь в запасниках Национальной галереи, обнаружит наброски к этой великолепной мистификации – наброски, сделанные рукой канадца, подделывателя картин и проходимца, ибо никем другим он быть не мог, – княгиня, опять-таки по выражению рекламщиков, ударит своим прекрасным лицом в грязь. Во всяком случае, так казалось княгине, чувствительной, как, по общему мнению, подобает аристократам.
Княгиня хотела получить эти наброски; она предложила за них определенную цену – информацию, которая, по намекам княгини, гарантирует успех книги Даркура, биографии покойного Фрэнсиса Корниша, ценителя искусств и благодетеля своей страны.
Даркура снедала лихорадка биографа – алчное стремление заполучить необходимую информацию. У него не было ни малейшего доказательства, что княгиня действительно знает нечто важное, но он был убежден в этом и готов на отчаянный поступок, чтобы выведать, что именно она знает. Он нутром чуял, что она поможет заполнить огромную дыру, зияющую посреди его книги.
Книга была близка к завершению – насколько книга может быть к этому близка, если в ней не хватает важной части. Даркур уже написал заключительные главы о последних годах жизни Фрэнсиса, когда тот вернулся в Канаду и стал меценатом, покровителем художников, ценителем с международной репутацией, щедрым дарителем картин современных и старинных художников Национальной галерее. И действительно, Фрэнсис подарил галерее все свои папки с рисунками. Многие, без сомнения, принадлежали старым мастерам; среди этих рисунков прятались наброски к портрету княгини Амалии. Но книга о собирателе искусств и покровителе художников, даже очень хорошо написанная, не обязательно захватит читателя. Читатели биографий любят жареные факты.
Даркур закончил и первую часть книги, описание детства и юности Фрэнсиса; учитывая, каким скудным материалом он пользовался, это была просто гениальная работа. По скромности Даркур не применял к себе слово «гениальный», но знал, что поработал на славу, изготовив прочные кирпичи из трухи и соломы. Ему повезло, что покойный Фрэнсис Корниш никогда ничего не выбрасывал и не уничтожал. Среди личных бумаг Фрэнсиса – тех, что попали в университетскую библиотеку, – нашлось несколько альбомов с фотографиями, сделанными дедушкой Фрэнсиса, старым сенатором, основателем фамильного состояния. Старый Хэмиш был страстным фотографом-любителем; он без конца запечатлевал улицы, дома, рабочих и более высокопоставленных жителей Блэрлогги, городка в долине реки Оттавы, где прошло детство Фрэнсиса. Все фотографии были аккуратно подписаны викторианским почерком сенатора. Вот они – бабушка, красавица-мать, импозантный, но какой-то одеревенелый отец, тетушка, семейный доктор, священники, даже кухарка сенатора Виктория Камерон и нянька Фрэнсиса Белла-Мэй. Было и много фотографий самого Фрэнсиса, хрупкого, темноволосого, настороженного мальчика – уже с тем самым, красивым, но словно омраченным тенью лицом, за которое княгиня Амалия прозвала взрослого Фрэнсиса le beau ténébreux. Опираясь на эти фотографии, которые сенатор звал «солнечными картинами», Симон Даркур возвел вполне убедительное сооружение – описание ранних лет Фрэнсиса. Оно было настолько хорошо, насколько позволяли обширные изыскания Даркура, подкрепленные его живым воображением (которое он, однако, умел обуздывать).
Для биографии книга была написана прекрасно: биографическая литература полагается на свидетельства, но в гораздо большей мере – на домысел биографа, если в его распоряжении нет дневников и семейных бумаг, чтобы заполнить пробелы. Однако лучшая биография – это разновидность беллетристики. Биографический труд невозможно отфильтровать, очистить от личности биографа, его симпатий. Дневников в распоряжении Даркура не было. Лишь несколько табелей из блэрлоггских школ Фрэнсиса и из Колборн-колледжа, где Фрэнсис учился позже; какие-то записи и бумаги из университета. Личных документов очень мало, но Даркур сотворил чудеса с теми, что были. Однако, чтобы ожить, книге не хватало сердца. Что, если у княгини есть частица этого сердца, пусть больного, ревматического? Тогда книга оживет, заполнится дыра, зияющая на месте лет, когда Фрэнсис вроде бы изучал изобразительное искусство и развлекался в Европе. По временам Даркур приходил в отчаяние. Он обрадовался бы даже расписке об уплате за услуги борделя. А теперь ему представился увесистый шанс получить данные, которые помогут заполнить зияющую пропасть между полным надежд молодым канадцем, словно сквозь землю провалившимся после Оксфорда, и Фрэнсисом, возникшим в 1945 году в образе искусствоведа, сотрудника комиссии, возвращающей украденные картины и скульптуры законным владельцам. Ценой этих данных было преступление. Да, преступление, что уж тут играть словами.
Но Даркур не поддавался угрызениям совести. Конечно, он священник, хоть и зарабатывает на жизнь преподаванием греческого языка; он по-прежнему иногда надевает священнический воротничок, но тот уже давно не сковывает его дух. Сейчас Даркур ощущал себя в первую очередь биографом, а биографы испытывают только очень специфические моральные терзания. Колебания Даркура вызывал не вопрос, как решиться на кражу, а совсем другой: как украсть и не попасться. Он так и видел заголовки в газетах: «Профа повязали на попытке подломить галерею». Выступать на суде в роли обвиняемого будет чудовищно стыдно. Конечно, его не посадят – в наше время сажают только за неуплату налогов. Но, конечно, оштрафуют и, несомненно, заставят ходить отмечаться в полицию, ежемесячно докладывать, как его успехи на новой работе – преподавании латыни на курсах Берлица.
Так как же это сделать? Даркур припомнил, что Шерлоку Холмсу случалось разгадывать преступление, поставив себя на место преступника, – это помогало открыть если не мотив, то хотя бы метод. Но сколько Даркур ни погружался в глубины преступной души, никакого решения он там не находил. Все, что дали ему эти попытки, – мысленный образ самого себя в черной маске, свитере с высоким горлом и кепке, натянутой по самые брови. Воображаемый Даркур выходил из здания Национальной галереи с большим мешком через плечо. На мешке крупными буквами значилось: «ВОРОВСКАЯ ДОБЫЧА». Это был фарс, а Даркур сейчас нуждался в большой дозе элегантной комедии.
Уж не видит ли он себя чем-то вроде супермена, Клерикального Медвежатника Даркура? Может, за темными одеяниями священника и скромным достоинством преподавателя древних языков таится острый ум, планирующий кражи, которые ставят в тупик лучшие умы полиции? Может, это и есть его истинное лицо? О, если бы это было так! Но умные жулики из книг живут в мире, где мысль обладает абсолютной силой и где тщательно продуманные планы никогда не идут насмарку. Даркур прекрасно понимал, что живет совсем в другом мире. Для начала он обнаружил – уже, можно сказать, на склоне лет, – что не умеет думать. Конечно, он мог при необходимости выстроить логическую цепочку, но, когда речь заходила о его личных делах, мозги превращались в кашу, и он принимал важные решения «по наитию», неким мысленным скачком, не имеющим ничего общего с мышлением, логикой или любым другим атрибутом первоклассного преступника, о каких пишут в детективах. Даркур создавал решение, как талантливый повар создает суп: бросает в кастрюлю все, что подворачивается под руку, добавляет пряности и вино, делает еще что-то – и выходит нечто божественно вкусное. Рецепта нет, результат предсказуем лишь в самых общих чертах. Можно ли так планировать преступление?
Если воспользоваться другой метафорой – Даркур вечно переключался с одной метафоры на другую, стараясь только не смешивать их, чтобы не получилась каша, – он словно крутил в кинозале головы обрывки пленки, на которых проделывал разные вещи разными способами, пока наконец не натыкался на план действия. Как ему совершить нужное преступление?
Оно должно состоять из двух частей. Насколько он помнил, предварительных набросков к портрету княгини Амалии было пять; они лежали в большой связке папок с рисунками старых мастеров из коллекции Фрэнсиса. Эти наброски Даркур должен извлечь и увезти в Нью-Йорк. Он знал, что папки никто не рассматривал подробно и уж точно не вносил в каталог; они лежат в запаснике Национальной галереи в Оттаве. В каталог их не внесли, но наверняка видели – Даркур надеялся, что мельком. Их хватятся, но припомнят ли в деталях? Скорее всего, их перенумеровали. И действительно, Даркур сам составил очень приблизительный каталог, когда, исполняя завещание Фрэнсиса Корниша, отправил кучу бумаг в Оттаву. «Карандашный набросок головы девушки», что-нибудь в этом роде. О, если бы только нетерпеливый юноша Артур не настоял на том, чтобы картины, книги, рукописи и прочую ценную рухлядь его дяди изъяли из обширного дядиного жилища и склада как можно скорее! Но Артур настоял, а красть картины из большой государственной галереи – непростое дело.
Однако – и это было очень большое «однако», преисполненное надежд, – личные бумаги Фрэнсиса Корниша попали в университетскую библиотеку, а с ними – рисунки, которые, как показалось Даркуру, были дороги хозяину скорее по воспоминаниям, чем из-за их художественной ценности. Тут были картины, принадлежащие к оксфордскому периоду жизни Фрэнсиса, когда он, кроме копирования рисунков старых мастеров из Эшмоловского музея, рисовал с натуры. Даркур предположил, никого не спрашивая, что Национальной галерее эти рисунки ни к чему, хоть они и неплохи. А что, если их подменить? Утащить пять картинок из библиотеки и вложить их в папки в галерее? И никто не узнает. Кажется, решение найдено. Осталось понять, как воплотить его в жизнь.








