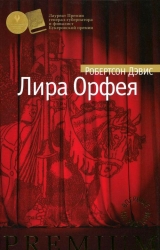
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
4
ЭТАГ в чистилище
Старушка Вдаль-Ссут! Да понимает ли Пауэлл, кто такая доктор Гунилла Даль-Сут, если так ее называет? Но мне кажется, он сказал это любя – таков уж его театральный обычай; у людей театра очень мало уважения к чему бы то ни было, кроме того, что они видят в зеркале.
Доктор вселяет в меня надежду. Это человек, которого я понимаю. Заслышав звуки лиры Орфея, она узнаёт их и не боится следовать за ними, куда бы они ее ни завели.
Я обожаю доктора. Не как мужчина женщину, но как художник – друга. Она удивительно похожа на того, кто при жизни был моим самым близким и дорогим другом, – Людвига Девриента. Он был прекрасным актером и сострадательнейшим, милейшим человеком.
Какие вечера мы проводили вместе в таверне Люттера, через площадь от моего дома! Но почему же в таверне? Почему я был не у домашнего очага, с милой, верной, долготерпеливой женой Михалиной?
Думаю, потому, что Михалина меня слишком сильно любила. Она была такая заботливая! Когда я писал свои сказки, полные ужаса и гротеска, и мои нервы были словно раскалены, и я боялся, что моя душа навсегда затеряется в опасном подземном мире, откуда приходили мои сказки, – Михалина сидела рядом, следила, чтобы мой стакан был всегда полон, и порой держала меня за руку, если я дрожал, – ибо я дрожал, когда идеи приходили слишком быстро и были слишком страшны. Я клянусь, это именно она спасла меня от безумия. И как же я ее наградил? Конечно, не ударами, резкими словами и грубостью, в отличие от многих мужей. В бытность мою судьей я наслушался ужасных историй про домашних тиранов. Мужчина может быть респектабельнейшим из обывателей для своих знакомых, но чудовищем и дьяволом для своих домашних. Только не я. Я любил Михалину, уважал ее, давал ей все, что позволяли мои немалые заработки. Но я всегда сознавал, что жалею ее, а жалел я ее потому, что она была мне так предана, никогда не допрашивала, обращалась со мной не как с возлюбленным, а как с хозяином.
Конечно, по-другому и не могло быть. Слишком быстро после нашей свадьбы я взял ученицу, Юлию Марк, и полюбил ее всей душой и всем сердцем; все обворожительные женщины в моих книгах – это портреты Юлии Марк.
Все дело в ее голосе. Я учил ее петь, но мало чему мог научить – такой у нее был дар и такой голос, какие редко встречаются. Конечно, я мог привить ей тонкий вкус., научить составлять музыкальные фразы, но, садясь за клавикорды, я терялся в мечтаниях о любви, и выставил бы себя дураком – а может, и байроническим демоном-любовником, – если бы Юлия хоть как-то меня поощряла. Ей было шестнадцать лет, и она знала, что я ее люблю, хоть и не знала, насколько сильно, потому что была слишком молода, и преклонение такого, как я, казалось ей в порядке вещей. Очень молодые девушки уверены, что созданы для того, чтобы их любили; порой они даже бывают добры к любящим, но не понимают их по-настоящему. Должно быть, Юлия втайне мечтала о каком-нибудь молодом офицере, блистательном, в мундире, со сногсшибательными усами, который должен был покорить ее своей доблестью и аристократическими манерами. И что ей был учитель музыки, маленький человечек со странным острым личиком, который репетировал с ней гаммы, пока она не научилась их петь с чарующей точностью, никогда не фальшивя? Приятный пожилой мужчина, почти на двадцать лет старше ее; в тридцать шесть его бакенбарды, скобками обрамляющие крысиную мордочку, уже начали седеть. Но я любил ее, пока не понял, что, может быть, умру от этой любви, – а Михалина знала, но не сказала мне ни единого ревнивого слова, не упрекнула меня.
Так чем все кончилось? Когда Юлии было семнадцать лет, ее мать, тупая мещанка, нашла ей выгодную партию – некоего Грепеля, в возрасте под шестьдесят, но богатого. Надо думать, решила, что судьба богатой вдовы – лучшее будущее для ее дочери. Добрая женщина не знала, что Грепель весьма прилежно пьет. Он был не из тех, кто во хмелю буянит и хорохорится, и не из романтических, меланхолических пьяниц – он просто упорно квасил. Я до сих пор не позволяю себе думать, какова была семейная жизнь Юлии с Грепелем. Возможно, он ее бил, но вероятнее, что он просто был груб, мрачен, обижал ее и никогда не узнал и не желал знать ничего важного о том, чем была или могла бы стать моя Юлия. Как бы то ни было, через несколько лет их брак был расторгнут; по милосердию Господню дело рассматривалось и развод утверждался не в моем суде. От прекрасного голоса к тому времени не осталось и следа, и от моей Юлии – тоже; она превратилась в достойную жалости обеспеченную женщину, основное занятие которой – изливать свои несчастья подружкам за бесчисленными чашечками кофе и нездорово жирными пирожными. Но я сохранял в своем сердце прекрасную девушку шестнадцати лет и теперь вижу, что во многом придумал ее сам. Ибо Юлия тоже в душе была мещанкой, и все мои труды как учителя ничего не могли бы с этим поделать.
Кто такие мещане? О, среди них попадаются очень милые люди. Они – соль земли, но не ее перец. Мещанин – это человек, который совершенно спокойно живет в совершенно неизведанном мире. Полагаю, что моя милая, милая, верная Михалина тоже выла мещанкой, ибо она никогда не пыталась исследовать какой-либо мир, кроме мира своего мужа, а этого было недостаточно, поскольку Э. Т. А. Гофман не мог любить ее так же страстно, как Юлию.
Была ли это трагедия? О нет, нет, мои дорогие высокообразованные друзья. Мы же знаем, что такое трагедия. Это – героические фигуры, которые повествуют миру о своих страданиях и требуют, чтобы мир благоговейно трепетал. Мелкий судейский чиновник, желающий быть великим композитором, а на деле ставший необычным писателем, и его преданная жена-полька не могут быть героями трагедии. Таким обычным людям теш не место. В лучшем случае они могут стать материалом для мелодрамы, в которой тяжкие жизненные превратности перемежаются комическими и даже фарсовыми сценами. Эти люди не живут под свинцовым небом трагедии. Для них меж тучами порой появляются просветы.
Таким просветом, редким днем хорошей погоды, была для меня дружба с Людвигом Девриентом. Человеком, решительно не принадлежащим к царству мещан. Он был из великой театральной семьи, сам прекрасный актер, человек такого магнетизма и красоты, что, может быть, удовлетворил бы и девичьи мечты Юлии Марк. Меж нами была дружба и взаимная симпатия, которая полностью устраивала нас обоих, – мы оба принадлежали к числу людей, которых как раз стало модно называть романтиками. Мы исследовали мир, насколько могли. К своему прискорбию, должен сказать, что компасом в этих исследованиях обычно служила бутылка. Бутылка шампанского. В те дни оно еще не стало невозможно дорогим, и мы могли прибегать к нему часто и усердно. Этим мы и занимались вечер за вечером в таверне Люттера, и кучка друзей приходила послушать, как мы беседуем и бродим по миру, о котором мещане ничего не знают.
Когда я умер – в возрасте сорока шести лет, от осложнений разных хворей, не последней из которых было употребление шампанского, – Девриент выставил себя посмешищем в глазах непонимающих людей и завоевал уважение тех, кто способен понять. После моих похорон он пошел к Люттеру и славно напился. Во хмелю он не был буен, не делал глупостей и не шатался, но полностью уходил в тот, другой мир, который мещане отказываются исследовать и даже боятся нанести на свои аккуратные карты вселенной. Людвиг сунул в карманы две бутылки шампанского, пошел на кладбище и уселся на моей могиле; и всю холодную ночь 25 июня 1822 года он беседовал со мной в своей наилучшей манере. Часть вина он выпил, а часть вылил на могилу. Я не мог ему отвечать, но та ночь, без сомнения, была лучшей из проведенных нами вместе и очень скрасила мне одиночество первых загробных дней.
В этой женщине я будто вновь вижу Девриента или что-то от него. Поэтому, когда вечеринка окончилась, я пошел рядом с ней по осенним улицам этого странного, но не враждебного города. Я довел ее до дому, а потом всю ночь напролет сидел у ее постели. Говорил ли я с ней в ее снах? Пусть ответят те, кто разбирается в этом лучше меня, но я надеюсь, что да. В докторе Гунилле я узнал еще одного романтика; на это звание претендуют многие, но оно дается от рождения, и нас таких мало.
IV
1
Мистер Мервин Гуилт наслаждался происходящим. Вот, думал он, какова должна быть практика юриста – в шикарных апартаментах сидят незаурядные люди, и он, Мервин Гуилт, раздает им наставления для их же блага, черпая из сокровищницы своего понимания закона и человеческой природы.
Каждый дюйм мистера Мервина Гуилта был преисполнен юриспруденции. Это даже слабо сказано, потому что дюймов в мистере Гуилте было сравнительно мало, а натуры законника – очень много. Он не мог быть никем иным. Он всегда носил воротник-бабочку, как бы намекая, что лишь несколько минут назад снял адвокатскую мантию и беффхен[43]43
Беффхен – элемент профессиональной одежды средневековых ученых, английских и канадских адвокатов, а также литургического одеяния протестантских священнослужителей; представляет собой белый нагрудник в виде двух ниспадающих лент. Воротник-бабочка (воротник с острыми углами, отогнутыми под 45°) также является деталью одежды канадских адвокатов.
[Закрыть] и теперь пытается приспособить величественные манеры и риторику, подобающие в суде, к нуждам повседневной жизни. Он всегда ходил в темном костюме-тройке – на случай, если его срочно вызовут в суд. Он питал особое пристрастие к латыни; пусть римские священники перестали кутать свои требы в этот язык, как в покров тайны, но Мервин Гуилт оставался ему верен. Как объяснял мистер Гуилт, этот язык столь ёмок, столь точен, столь соответствует духу юриспруденции во всей своей философии и в своих звуках, что незаменим как орудие, когда надо сломить волю оппонента или клиента. Юриспруденция же до сих пор как-то не очень жаловала мистера Гуилта, но он был в любой момент готов принять ее внезапные милости.
– Для начала, – сказал он, улыбаясь сидящим вокруг стола, – я хотел бы подчеркнуть, что желание моего клиента разрешить этот вопрос не запятнано интересами ad crumenam,[44]44
От кошелька (лат.).
[Закрыть] то есть он не ищет денег, но вызвано исключительно его врожденным уважением к ius natural,[45]45
Естественное право (лат.).
[Закрыть] то есть к тому, что справедливо и законно.
Он улыбнулся Марии, потом Холлиеру, потом Даркуру. И даже крупному мужчине с большими черными усами, которого представили просто «мистер Карвер». Наконец он улыбнулся – особо лучезарно – своему клиенту Уолли Кроттелю, сидящему рядом.
– Верно, – сказал Уолли. – Не думайте, что я в это влез, только чтоб урвать.
– Уолли, позволь, я буду говорить, – сказал мистер Гуилт. – Давайте выложим карты на стол и посмотрим на дело ante litem motam, то есть до его перенесения в суд. Вот смотрите: отец мистера Кроттеля, покойный Джон Парлабейн, по своей кончине оставил рукопись романа под заглавием «Не будь другим». Верно?
Мария, Холлиер и Даркур кивнули.
– Он оставил ее мисс Марии Магдалине Феотоки, ныне миссис Артур Корниш, и профессору Клементу Холлиеру, назначив их распорядителями своего литературного наследства.
– Не совсем, – сказал Холлиер. – Он оставил рукопись и письмо с просьбой, чтобы ее напечатали. Термин «распорядители литературного наследства» не употреблялся.
– Это мы еще увидим, – сказал мистер Гуилт. – Возможно, он подразумевался. Пока что у меня и моего клиента не было возможности исследовать это письмо. Думаю, настало время его предъявить. Вы со мной согласны?
– Совершенно исключено, – сказал Холлиер. – Это письмо носило глубоко личный характер, и лишь малая часть его была посвящена роману. Все, что Парлабейн хотел предать публичности, он написал в других письмах, которые отправил в газеты.
Мистер Гуилт театрально порылся у себя в портфеле и вытащил какие-то газетные вырезки.
– Вы имеете в виду те части, где упоминается о его несчастливой решимости покончить с собой из-за пренебрежения, которым был встречен его великий роман?
– А также те, в которых подробно описывалось чудовищное убийство профессора Эркхарта Маквариша, – сказал Холлиер.
– Это не имеет отношения к рассматриваемому нами делу, – возразил мистер Гуилт, с негодованием отметая нетактичное упоминание.
– Имеет, конечно, – сказал Холлиер. – Он знал, что убийство наделает шуму и привлечет внимание к его книге. Он сам так говорил. Он предложил рекламировать его книгу как «роман, ради публикации которого автор пошел на убийство». Или что-то в этом роде.
– Давайте не будем отвлекаться на то, что не имеет отношения к делу, – чопорно сказал мистер Гуилт.
– Может, он съехал с катушек и сам не знал, что несет, – предположил Уолли Кроттель.
– Уолли! Говорить буду я, – сказал мистер Гуилт и сильно пнул Уолли под столом. – Пока у нас нет неопровержимых доказательств обратного, будем предполагать, что покойный мистер Парлабейн отдавал себе полный отчет в своих словах и поступках.
– Я полагаю, его правильней называть «брат Джон Парлабейн», даже несмотря на то, что он сбежал из монастыря и порвал связи с орденом Священной миссии. Не следует забывать, что он был монахом, – сказала Мария.
– В наше время многие обнаруживают, что не совсем подходят для религиозной жизни, – сказал мистер Гуилт. – Нас не волнует точный статус мистера Парлабейна на момент его прискорбной кончины – felo de se,[46]46
Самоубийство (лат.).
[Закрыть] и кто без греха, пусть первый бросит камень. Нас волнует то, что он приходится отцом моему клиенту. И мы сейчас говорим о статусе моего клиента как наследника мистера Парлабейна.
– Но откуда мы знаем, что Уолли – его сын? – спросила Мария. Она, как женщина, хотела сразу перейти к сути дела, и церемонные подходы мистера Гуилта ее раздражали.
– Потому что так всегда говорила моя покойная мамка, – объяснил Уолли. – «Парлабейн – твой отец, верней верного; только с ним изо всех мужиков у меня бывал настоящий организм». Так моя мамка всегда говорила…
– Извини! Извини! Позволь мне вести эту беседу, – перебил его мистер Гуилт. – Мой клиент вырос в семье покойного Огдена Уистлкрафта, чье имя навеки вошло в анналы канадской поэзии, и его жены, покойной Элси Уистлкрафт, которая неоспоримо является матерью моего клиента. Мы не собираемся отрицать, что миссис Уистлкрафт и покойного Джона Парлабейна связывала страсть, – назовем это отношениями ad hoc,[47]47
Непостоянный, преходящий (лат.).
[Закрыть] возможно имевшими место два или три раза. Зачем нам это отрицать? Кто осмелится бросить камень? Какая женщина выходит замуж за поэта? Конечно, женщина, способная на сильные страсти и глубокое женское сочувствие. Ее жалость простерлась и на этого друга семьи, с которым их роднил обширный литературный темперамент. Жалость! Жалость, друзья мои! И сострадание к великому, одинокому, ищущему гению. Вот в чем все дело.
– Нет, – упрямо сказал Уолли. – Это все организм.
– Оргазм, Уолли! Ради бога, сколько раз я должен тебе повторять? Оргазм! – прошипел мистер Гуилт.
– А мамка всегда говорила «организм», – не сдавался Уолли. – Я-то знаю. И не думайте, что я на нее в обиде. Мамка есть мамка, и я ей по гроб жизни благодарен, и мне не стыдно. Мерв, ты же сам чего-то такое говорил, вроде по-латыни, «де мортос» или что-то вроде. Ты сказал, это значит «не след хаять свою родню».
– Уолли! Хватит! Беседовать буду я.
– Угу, но я только хочу объяснить про мамку. И Уистлкрафта – он не любил, когда я называл его папкой, но вообще был добрый. Он никогда со мной про все это не говорил, но я знаю, что он не держал обиды на мамку. Большой обиды. Он как-то сказал, стихами: «не лови стыдом, когда могуч и был идет на приступ», как говорит тот крендель.
– Какой же это крендель? – Даркур подал голос впервые за весь вечер.
– Ну этот крендель, у Шекспира.[48]48
Приведена искаженная цитата из пьесы У. Шекспира «Гамлет», акт III, сц. 4: «…не зови стыдом, // Когда могучий пыл идет на приступ». Пер. М. Лозинского.
[Закрыть]
– Ах, у Шекспира! Я думал, это Уистлкрафт сам сочинил.
– Нет, это Шекспир. Уистлкрафт готов был смотреть сквозь пальцы на всю эту историю. Он понимал жизнь, хоть и не был докой по части организма.
– Уолли! Обрати внимание, что здесь присутствует дама.
– Ничего, – сказала Мария. – Я думаю, меня можно назвать женщиной, знающей свет.
– И прекрасной специалисткой по творчеству Рабле. – Холлиер улыбнулся Марии.
– Ага! Рабле? Это француз, из старых? Покойник? – спросил мистер Гуилт.
– Подлинно великие люди бессмертны, – сказала Мария и вдруг поняла, что цитирует свою мать.
– Очень хорошо, – сказал мистер Гуилт. – Значит, мы можем беседовать более свободно. Вы все тут люди ученые, университетские, и нет нужды напоминать вам о великих переменах, происшедших за последние годы в общественном мнении, можно даже сказать – в общественной морали. Разделение между приемлемым и безнравственным – как в газетах, так и в современной беллетристике, хоть я и не могу уделять много времени чтению беллетристики – практически исчезло. Сдержанность речи – где она? Безнравственность – где она? Мы живем в век полной фронтальной наготы в театре и кино. Со времени процессов над авторами «Улисса» и «Леди Чаттерлей» закон был вынужден начать все это учитывать. Если вы, миссис Корниш, изучаете Рабле – я его, признаться, не читал, но у него сложилась определенная репутация даже среди людей, незнакомых с его творчеством, – следует предположить, что вы привыкли к нарушениям пристойности. Но я отклоняюсь от темы. Давайте вернемся к тому, что нас интересует на самом деле. Мы признаем, что покойная миссис Уистлкрафт вела не совсем моральную жизнь…
– Но ее нельзя назвать безнравственной, – заметила Мария. – Сейчас сказали бы, что она была эмансипированной женщиной.
– Совершенно верно. Вижу, миссис Корниш, у вас почти мужской ум. Давайте продолжим. Мой клиент – сын Джона Парлабейна…
– Доказательства, – перебил мистер Карвер. – Где ваши доказательства?
– Простите, друг мой. Я не знаю, какое отношение вы имеете к этому делу. Я предположил, что вы в каком-то смысле amicus curiae – друг суда, – но если вы собираетесь вмешиваться и советовать, я должен знать, почему это и кто вы такой.
– Меня зовут Джордж Карвер. Я работал в полиции, потом вышел в отставку. Сейчас понемножку занимаюсь частными расследованиями, от нечего делать.
– Понимаю. И вы расследовали это дело?
– Не сказал бы. Возможно, буду, если будет что расследовать.
– То есть, будучи свидетелем нашей сегодняшней встречи, вы считаете, что расследовать нечего?
– Пока нет. Вы ничего не доказали.
– Но вы думаете, что вам известно нечто имеющее отношение к делу.
– Я знаю, что Уолли Кроттель устроился на работу охранником в это здание, сказав среди прочего, что работал в полиции. Это не так. В полицию его не взяли. Недостаточный уровень образования.
– Возможно, он проявил неосмотрительность, но это не имеет никакого отношения к делу. А теперь слушайте: я сегодня с самого начала сказал, что мы с моим клиентом полагаемся на ius naturale – естественную справедливость, то, что законно и правильно, то, с чем повсеместно согласятся достойные люди. Я утверждаю, что мой клиент имеет право на всяческие материальные блага, проистекающие от публикации романа его отца «Не будь другим», поскольку мой клиент – законный наследник Джона Парлабейна. И еще я утверждаю, что профессор Клемент Холлиер и миссис Артур Корниш помешали публикации книги по личным соображениям. Все, чего мы требуем, – это признание естественного права моего клиента, иначе мы будем вынуждены обратиться к закону и настаивать на возмещении после публикации книги.
– Как вы это себе представляете? – спросил Даркур. – Невозможно заставить кого-либо опубликовать книгу.
– Это мы посмотрим, – ответил мистер Гуилт.
– Если посмотрите, то увидите, что никто не хочет ее публиковать, – сказала Мария. – Когда разразился скандал, многие издатели попросили разрешения ознакомиться с книгой и отвергли ее.
– Ага! Чересчур скандальная оказалась, а? – воскликнул мистер Гуилт.
– Нет, чересчур скучная, – ответила Мария.
– Книга представляла собой в основном изложение философии Джона Парлабейна, – объяснил Даркур. – Его философия была лишена оригинальности, и автор все время нудно повторялся. Он перемежал длинные философские пассажи автобиографическим материалом – эти вставки он считал литературными, но я вас уверяю, что они таковыми не были. Чудовищно скучная вещь.
– Автобиографическим? – оживился мистер Гуилт. – Он наверняка изобразил живых людей, и вышел бы отменный скандал. Политиков небось? Больших шишек из мира бизнеса? И потому издатели не захотели браться за книгу?
– Издатели прекрасно чувствуют, где приемлемое, где безнравственное и где интереснейшая область их соприкосновения, – заметила Мария. – Как говорит мой любимый писатель Франсуа Рабле: «Quaestio subtilissima, utrum chimaera in vacuo bombinans possit commedere secundas intentiones».[49]49
«Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить вторичные интенции» (лат.). Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Ч. 2, гл. 7. Пер. H. М. Любимова.
[Закрыть] Я знаю, что могу говорить по-латыни, ведь вы прекрасно владеете этим языком.
– Ага, – сказал мистер Гуилт, выражая этим междометием массу юридических тонкостей, хотя в его глазах явственно замерцало непонимание. – И как же именно вы применяете эту прекрасную юридическую максиму к интересующему нас делу?
– Ее можно очень приблизительно истолковать как предположение, что вы стоите на банановой кожуре, – объяснила Мария.
– Хотя нам и во сне не привиделась бы возможность опровержения ваших прекрасных argumentum ad excrementum caninum,[50]50
Довод из собачьих экскрементов (лат.).
[Закрыть] – заметил Холлиер.
– Что он говорит? – спросил Уолли у своего консультанта.
– Говорит, наши аргументы – дерьмо собачье. Но мы не обязаны сносить такое обращение от людей только потому, что у них есть деньги и положение в обществе. У нас все равны перед законом. А с моим клиентом обошлись несправедливо. Если бы книгу опубликовали, он имел бы право на долю прибыли, а может, и на всю прибыль от публикации. Но вы не стали публиковать книгу, и мы хотим знать почему. Именно за этим мы сюда пришли. Я думаю, мне следует изъясняться более прямо. Где рукопись?
– Не думаю, что вы имеете право задавать такие вопросы, – сказал Холлиер.
– У суда будет такое право. Вы говорите, что издатели отвергли рукопись?
– Если совсем точно, – ответила Мария, – один издатель сказал, что готов за нее взяться, если ему разрешат отдать ее «литературному негру», который попробует что-нибудь сделать из сюжета, выкинув всю философию и морализаторство Парлабейна. Издатель сказал, что из книги может выйти сенсация – подлинная исповедь убийцы. Но это шло совершенно вразрез с тем, чего хотел Парлабейн, и мы отказались.
– То есть книга была непристойной и содержала узнаваемые портреты реальных людей, а вы их прикрываете.
– Нет-нет; насколько я помню этот роман – ту часть, которую я прочел, – он вовсе не был непристойным. На взгляд современного читателя, – сказал Холлиер. – Там были упоминания о гомосексуальных сношениях, но Парлабейн описывал их так завуалированно и туманно, что эти сцены в общем невинны по сравнению с описанием того, как он убил беднягу Маквариша. Не столько непристойны, сколько скучны. Он не был хорошим беллетристом. Издатель, о котором упомянула миссис Корниш, хотел сделать книгу действительно непристойной, но мы не согласились унижать таким образом нашего давнего коллегу Парлабейна. Что непристойно и что нет – это вопрос вкуса; можно любить пряное, но не должно любить мерзкое. А мы не доверяли вкусу этого издателя.
– Вы хотите сказать, что не прочитали весь роман? – произнес мистер Гуилт, тщательно изображая недоверие.
– Его было невозможно читать. Даже преподавателю, который по должности прочитывает огромную массу нудных документов. Моя природа взбунтовалась где-то на четырехсотой странице, и последние двести пятьдесят остались непрочитанными.
– Совершенно верно, – сказала Мария. – Я тоже не смогла дочитать.
– И я, – сказал Даркур. – Хотя, я вас уверяю, приложил все усилия.
– Ага! – воскликнул мистер Гуилт. Этими словами он словно прыгнул на них, подобно тигру. – Вы признались, что ничего не знаете об этой книге, которую ее автор считал одним из величайших произведений художественной литературы в жанре философского романа за всю историю человечества! И все же вы посмели не дать книге ходу! Уму непостижимая наглость!
– Ее никто не хотел печатать, – объяснил Даркур.
– Прошу вас! Не перебивайте! Сейчас я говорю не как представитель закона, а как человеческая душа, заглядывающая в бездну омерзительного интеллектуального и морального падения! Слушайте меня! Если вы не передадите нам рукопись, чтобы мы могли исследовать ее и передать на экспертизу специалистам, то вам грозит судебное преследование, а уж суд возьмет вас за живое, можете мне поверить!
– И нет никаких других вариантов? – спросила Мария. Казалось, эта угроза не взволновала ни ее, ни двух преподавателей.
– Мы с моим клиентом хотим огласки не больше, чем вы. Знаю, может показаться странным, что адвокат советует вам не идти в суд. Но я предлагаю заключить полюбовное соглашение.
– То есть вы хотите, чтобы мы от вас откупились? – уточнил Холлиер.
– Это не юридический термин. Я предлагаю полюбовное соглашение в сумме, скажем, миллион долларов.
Холлиер и Даркур, у которых был опыт публикации книг, в голос расхохотались.
– Вы мне льстите, – сказал Холлиер. – Вы знаете, сколько платят университетским преподавателям?
– Вы не один в этом деле, – улыбнулся мистер Гуилт. – Я полагаю, миссис Корниш без труда найдет миллион долларов.
– Конечно, – согласилась Мария. – Я швыряю такие деньги нищим на паперти.
– Шутки неуместны, – сказал мистер Гуилт. – Миллион – наше последнее слово.
– На каких основаниях?
– Я уже упоминал о ius naturale, – сказал мистер Гуилт. – Обыкновенная справедливость и человеческая порядочность. Напомню еще раз: мой клиент – сын Джона Парлабейна, и на момент своей смерти покойный не знал, что у него есть сын. В этом вся суть. Если бы мистер Парлабейн об этом знал на момент составления завещания, неужели он оказался бы способен пренебречь правами собственного ребенка?
– Насколько я помню мистера Парлабейна, он был способен на что угодно, – пробормотал Даркур.
– Ну так закон не позволил бы ему ущемить права прямого наследника. Сейчас не восемнадцатый век, знаете ли.
– Думаю, пора и мне вставить свои два цента, – вмешался мистер Карвер. Весь вечер он сидел очень неподвижно – как большая кошка. Сейчас он был похож на бодрствующую и очень зоркую кошку. – Вы не сможете доказать, что ваш клиент – сын Джона Парлабейна.
– Ах, не смогу?
– Да, не сможете. Я навел справки и нашел как минимум трех свидетелей – думаю, при желании нашлось бы и больше, – которые имели доступ к телу миссис Уистлкрафт в ее жаркие и знойные дни. Простите за непристойность, но один из моих информаторов сказал, что она была известна под кличкой «Оплата при входе», а бедняга Уистлкрафт слыл рогоносцем и посмешищем, хоть и был порядочным человеком и хорошим поэтом. Кто же отец ребенка? Мы этого не знаем.
– Еще как знаем, – возразил Уолли Кроттель. – Что вы скажете про организм, а? Что скажете? У нее никогда не было организма ни с кем из этих людей, которых вы упомянули. Она сама так говорила; всегда была очень откровенной. А без организма откуда ребенок-то возьмется? А? Без организма – никуда.
– Уж не знаю, что вы читали на эту тему, мистер Кроттель, но вы глубоко ошибаетесь, – заявил мистер Карвер. – Взять хоть мою жену: у нас четверо прекрасных детей, один только на прошлой неделе сдал экзамен на адвоката – да, он юрист, как и вы, мистер Гуилт. Так вот, у моей жены никогда не бывало этой штуки, ни разу за всю жизнь. Она сама мне говорила. И она совершенно счастливая женщина, вся семья ее обожает. Вы бы видели, что творится у нас дома в День матери! Может, этот ваш организм, как вы его называете, и прекрасная штука, но для дела он не нужен. Так что лопнул ваш организм. Я имею в виду, он не годится как доказательство.
– Ну, моя мамка так говорила, – сказал Уолли, храня сыновнюю верность даже в поражении.
Мистер Гуилт, кажется, лихорадочно обшаривал собственный мозг – вероятно, в поисках полезной латинской цитаты. Он решил по возможности обойтись уже использованной.
– Ius naturale, – сказал он. – Естественная справедливость. Неужели вы будете ее отрицать?
– Да, когда ее исполнения требуют под дулом пистолета, и притом незаряженного. Во всяком случае, я бы посоветовал именно так поступить, – сказал мистер Карвер с видом кошки, выпустившей когти.
– Пойдем, Мерв, – сказал Уолли. – Нам пора.
– Я еще не закончил, – ответил его консультант. – Я хочу добраться до сути дела: почему они скрыли завещание?
– Завещания не было, – сказал Холлиер. – Было личное письмо.
– Самое близкое к завещанию, что осталось от покойного Джона Парлабейна. И еще я хотел бы знать, почему эти люди отказываются предъявить corpus delicti, под которым, поспешу заметить, я имею в виду не тело покойного Джона Парлабейна, хотя эти слова часто неверно толкуют именно в таком смысле, но материальный объект, имеющий отношение к преступлению. Я говорю о рукописи романа, послужившей предметом данного спора.
– Потому что у нас нет причин ее предъявлять, – ответил мистер Карвер.
– Ах, нет?! Ну что ж, посмотрим!
Мистер Карвер опять стал ласковой кошечкой с бархатными лапками. Выражение, к которому он прибег, оказалось несколько неожиданным в устах бывшего сотрудника Королевской канадской конной полиции, ныне – частного сыщика.
– Хренушки! – сказал он.
Мистер Мервин Гуилт медленно поднялся со своего места, всячески демонстрируя негодование и что-то нечленораздельно бормоча. Он удалился с видом человека, который уходит лишь для того, чтобы вернуться с новыми силами, и клиент потащился следом за ним. Мистер Гуилт выказал свои чувства лишь тем, что изо всех сил хлопнул дверью.
– Слава богу, избавились от них, – сказала Мария.
– От Гуилта – может быть. Насчет Кроттеля я бы на вашем месте не был так уверен, – сказал мистер Карвер, поднимаясь со стула. – Я про него кое-что знаю. Такие люди могут повести себя очень мерзко. Вы, миссис Корниш, лучше держите ухо востро.
– Почему именно я? Почему не профессор Холлиер?
– Психология. Вы женщина, притом богатая. Люди вроде Уолли очень завистливы. С профессора, извините меня за прямоту, взять нечего, а богатая женщина – сильное искушение для таких, как Уолли. Я просто хочу предупредить.
– Спасибо, Джордж. Вы были великолепны, – сказал Даркур. – Вы пришлете мне счет?
– Подробный и полный, – ответил Карвер. – Но я должен сказать, что сам получил удовольствие. Этот Гуилт мне никогда не нравился.
Мистер Карвер отказался от предложения выпить и ушел, ступая бесшумно, как кошка.
– Где ты нашел этого замечательного человека? – спросила Мария.
– Мне удалось помочь его старшему сыну, когда он был студентом. Я немножко попреподавал ему латынь – ровно столько, сколько надо, – объяснил Даркур. – Джордж – мой ключ к подземному миру. Такой ключ нужен каждому.
– Если это все, то я пойду, – сказал Холлиер. – Мне надо закончить кое-какую работу. Но, Мария, простите меня – вам, как научному сотруднику, следовало бы знать, что никогда ничего нельзя выбрасывать. Если мы начнем выбрасывать вещи, что останется ученым будущего? Это же элементарная цеховая солидарность. Начните выбрасывать вещи, и что тогда делать исследователям?








