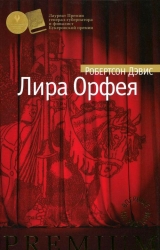
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
5
Фонд Корниша собрался во всем великолепии. Пять его сотрудников сидели за Круглым столом, на котором красовалось Блюдо изобилия. Чудодейственное блюдо ломилось от разнообразных августовских плодов. Лиловые грозди винограда, покрытые аметистовой пыльцой, свисали с разных ярусов. «В кои-то веки эта уродливая штука даже мне кажется красивой», – подумала Мария.
Люди, живущие среди красивых вещей, привыкают к ним и перестают замечать. Ни Мария, ни остальные члены фонда не обращали внимания на обстановку комнаты, в которой стоял Круглый стол. Очень высокий потолок комнаты (в виде соборного свода, как выразился архитектор) в свете вечереющего дня казался еще выше и сумрачнее обычного. Под сводом шел ряд ленточных окон, через которые виднелось зеленовато-синее небо и первые звезды; ниже на стенах висели прекрасные картины из коллекции Артура, выбранные и купленные им самим, ибо покойный Фрэнсис Корниш, у которого прекрасных картин хватило бы на небольшой музей, не оставил племяннику ни одной. Был тут и рояль, но в такой просторной комнате он не подавлял всю остальную обстановку, как это иногда случается с роялями. По правде сказать, в комнате было не очень много мебели. Артур любил простор, и Мария была счастлива в незахламленном пространстве – родительский дом, в котором она выросла, был забит мебелью под завязку даже до того, как мамуся вернулась к цыганским обычаям и устроила себе свинарник в подвале под всей этой красотой. Даркур однажды назвал подвальный табор «затхлой лавкой древностей сердца моего»,[17]17
Цитата из стихотворения Йейтса «Бегство цирковых животных» (The Circus Animals’ Desertion), где в числе прочего используются образы, заимствованные из карт Таро.
[Закрыть] и Мария рассердилась на него, потому что он был совершенно прав.
Сотрудники фонда сидели за Круглым столом при свечах, которым тайно помогали скрытые под карнизом светильники. Человека, впервые попавшего сюда, изумила бы и, возможно, привела в благоговейный трепет эта картина, апофеоз богатства, высокого положения, элегантной тишины и спокойствия – привилегий, даруемых богатством и высоким положением. Таким человеком оказалась Пенелопа Рейвен; комната ее потрясла, и Пенелопа твердо решила не подавать виду.
От сегодняшнего вечера ждали очень многого. Даже Холлиер раньше времени вернулся из очередной поездки в Трансильванию, где искал свои любимые культурные окаменелости (как он это называл). «Какой он красивый! – подумала Мария. – Как нечестно, что его красота придает дополнительный вес всему, что он говорит. Симон совсем не красивый, делает для фонда намного больше, чем Холлиер. Артур красив, но не изысканной красотой Холлиера; зато Артур запускает движение колес и кипение котлов, как Холлиеру не дано. Наверно, я, для женщины, так же красива, как Холлиер – для мужчины, а я знаю, как мало толку от красоты, когда надо по-настоящему делать дело».
Про Геранта Пауэлла, пятого члена фонда, Мария вовсе не думала. Пауэлл ей не нравился; точнее, не нравилось, как он смотрит на нее – с вызовом; он был красив в актерском стиле: масса волнистых темных кудрей, тонко вырезанные, как у лошадки-качалки, ноздри, большой подвижный рот; как и других хороших актеров, Пауэлла было лучше не разглядывать слишком близко. «Если вдруг Фонд Корниша придется когда-нибудь изображать на сцене, – подумала Мария, – на роль Холлиера нужно выбрать Пауэлла: его преувеличенная красота будет хорошо видна даже с последних рядов, откуда тонкую красоту самого Холлиера не различить».
Пришли все, и все с нетерпением ожидали доклада Пенелопы Рейвен: она с победой вернулась из-за границы, где искала либретто «Артура Британского», и теперь собиралась поведать о находке.
– Я нашла либретто, – сказала она. – Это оказалось сравнительно нетрудно. Подобные проекты напоминают «Охоту на Снарка»: в последний момент Снарк всегда может оказаться Буджумом. Я подумала, что либретто может оказаться в библиотеке Британского музея, среди театральных бумаг. Но, как вы, наверно, знаете, чтобы найти там что-нибудь – если речь идет о подобных малоизвестных вещах, – нужна сметка исследователя, чутье на диковины и обыкновенная слепая удача. Конечно, я перерыла оперные архивы в Бамберге, Дрездене, Лейпциге и Берлине – и не нашла ничего. Ни бумажки. Куча всякого про Гофмана, но про эту оперу – ничего. Мне нужно было все прочесать, чтобы не выбросить на ветер ваши деньги. Но у меня было подозрение, что нужные бумаги окажутся в Лондоне.
– Из-за этого Планше, – сказал Артур.
– Нет. Не из-за него. Я шла по следам Чарльза Кембла. Извините, я прочитаю вам небольшую лекцию. Кембл принадлежал к знаменитой театральной семье: все вы слышали о миссис Сиддонс – она приходилась ему сестрой и была величайшей актрисой своего времени. Вы знаете ее портрет, «Миссис Сиддонс как муза трагедии», работы Рейнольдса. Чарльз Кембл был управляющим и арендатором театра Ковент-Гарден с тысяча восемьсот семнадцатого по тысяча восемьсот двадцать третий. Несмотря на множество успешных постановок, театр едва сводил концы с концами. Не по вине Кембла. Такова уж была театральная экономика того времени. Владельцы театра требовали чудовищную арендную плату, и даже умелые театральные управляющие часто оказывались в беде… Чарльз обожал оперу. Он вечно уговаривал композиторов писать новые оперы. Он был невероятно добрый человек и поощрял всех, у кого был талант. Кембл не выпускал из поля зрения нашего Джеймса Робинсона Планше, потому что Планше давал результаты: он умел работать в театре, и сотрудничество с ним означало успех. Кембл слыхал про Гофмана – все Кемблы были прекрасно образованны, что вовсе не обычная вещь среди тогдашних людей театра. Надо полагать, Кембл читал по-немецки или, может быть, слышал какую-нибудь оперу Гофмана, будучи в Германии. Он уговорил Гофмана создать для него оперу и настоял на том, чтобы либретто писал Планше, – тому не было еще и тридцати, и он уверенно шел к успеху и славе… Итак, работа началась. Планше и Гофман переписывались, но, боюсь, их переписка утеряна. Бедняга Гофман уже болел, и не успело из этой затеи хоть что-нибудь выйти, как он умер. Гофман и Планше цапались, как кошка с собакой, в чрезвычайно вежливом эпистолярном стиле того времени. Надо полагать, Планше даже обрадовался, когда из оперы ничего не вышло. Потом он вместо нее написал небольшую вещицу под названием «Дева Мэриан», на музыку одного ловкого халтурщика по фамилии Бишоп… Вся история, насколько мне удалось ее раскопать, нашлась в бумагах Чарльза Кембла в Британском музее. Хотите послушать?
– Конечно хотим, – сказал Артур. – Но первым делом успокойте нас: вы в самом деле нашли какое-то либретто к нашей опере?
– О да. Еще и какое! Оно у меня есть, прямо тут. Но, думаю, дело сильно прояснится, если я зачитаю вам часть переписки Кембла и Планше.
– Валяйте, – сказал Артур.
– Вот первое найденное мною письмо Кемблу.
Дражайший Кембл!
Я обменялся посланиями с герром Гофманом, и, сколько я могу судить, наши с ним цели разнятся, ибо он обладает лишь самым отдаленным представлением об английском театре в том, что касается оперы. Но я уверен, что мы с ним придем к согласию, когда я объясню ему все обстоятельства нашего положения. Кстати говоря, мы переписываемся по-французски, и я должен сказать, что причиной наших разногласий хотя бы отчасти, возможно, служит его несовершенное владение этим языком.
Как Вы знаете, я люблю работать быстро, а поскольку сейчас у меня множество дел, я написал Гофману, как только Вы мне сообщили, что он готовит пиесу для наступающего сезона в Ковент-Гардене. Я изложил на бумаге план, замысел которого вынашивал уже некоторое время – замысел пиесы с феями и эльфами, которую можно с тем же успехом привязать к королю Артуру, как и к любому другому популярному герою. Вкратце план таков: король Артур и его спутники, пресытившись удовольствиями охоты, задумывают учредить Круглый стол, дабы способствовать поддержанию рыцарства в Англии. Королева Гвиневра жалуется на это (тут можно вставить комический дуэт между Артуром и королевой, которая думает, что он ею пренебрегает). Артур знает, как с этим бороться: он зовет своего волшебника Мерлина и просит перенести королевский двор tous sans exception[18]18
В полном составе, без исключения (фр.).
[Закрыть] ко двору турецкого султана, чтобы посмотреть, как с дамами обращаются там. Мерлин призывает главных эльфов и фей во главе с царем Обероном и царицей Титанией, чтобы они произвели необходимое волшебное действие. Но правители Страны фей также в раздоре между собою; они отказываются выполнить поручение. (Здесь можно вставить балет фей – это очень красиво и, по общему согласию, даст верный успех у публики.) Мерлин просит помощи у Пигвиггена, единственного эльфа среди Артуровых рыцарей. Объединив свои колдовские чары, Мерлин и Пигвигген переносят британский королевский двор в Туркестан. Оживленная сцена завершает первый акт.Второй акт разворачивается в Туркестане. Это предоставляет возможности, которыми, я уверен, ваш мистер Грив блистательно воспользуется для создания зрелищных сцен, поражающих зрителей своей роскошью. Турецкий султан начинает осаждать королеву Гвиневру, возбуждая ревность Артура. (Здесь отличная возможность вставить комические интриги Пигвиггена.) К немалому огорчению Артура, его главный рыцарь, Ланселот, влюбляется в королеву. Ланселот и Артур ссорятся, и ничто не решит их разногласий, кроме дуэли. В действие опять вмешивается Пигвигген, который знает, что Элейна, Лилейная дева, любит Ланселота и он ранее поощрял ее любовь. Элейна должна появиться еще в первом акте. Турецкий султан не дозволяет поединков у себя в государстве. В удачный момент появляются Оберон и Титания, которые уже помирились. Они переносят весь Круглый стол обратно в Британию. Здесь я подумываю о сцене, в которой Двор Фей, со свечами в руках, ведет британцев прочь от Туркестана; они переваливают через гору в темноте. (Вы знаете, что в запасниках Ковент-Гардена есть такая гора: ее три года назад использовали в «Барбароссе», и ее легко будет приспособить для повторения тогдашнего превосходного успеха.) Сильный финал второго акта.
Третий акт происходит опять в Британии. Идут приготовления к поединку Артура и Ланселота, но сперва мы видим торжественную процессию Семи Поборников Христианства,[19]19
Семью поборниками христианства называют святых Георгия (Джорджа), Андрея (Эндрю), Патрика, Дионисия (Дени), Иакова (Яго), Антония Падуанского и Давида, небесных покровителей Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии и Уэльса соответственно.
[Закрыть] – конечно, их всех играют дамы; с особенным комическим пылом выступают француз Дени и испанец Яго. Выйдет весьма стильно, если святой Антоний споет по-итальянски, Дени – по-французски, а Яго – по-испански. За этим можно вставить комические арии с подчеркнутым акцентом: святого Патрика – с ирландским, святого Давида – с валлийским, святого Андрея – с шотландским; может быть, можно даже устроить комическую битву между этими тремя святыми, и английский святой Георгий их примирит, покорив всех трех. Под водительством святого Георгия – здесь нужно вставить парад герольдов и великую демонстрацию щитов и гербов, это смотрится великолепно и почти ничего не стоит – Артур и Ланселот готовятся к поединку. Как вы думаете – взять настоящих лошадей? Лошади – верное дело с английской публикой. Поединок прерывается появлением Элейны, Лилейной девы из Астолата: ее тело приплывает по течению реки в челне. Она как будто бы мертва. В руке у нее свиток, гласящий, что она была возлюбленной Ланселота и он ее покинул. Гвиневра обвиняет Ланселота, он сознается, Элейна вскакивает с погребального одра и заявляет свои права на бывшего возлюбленного. Артур и Гвиневра мирятся при помощи Мерлина и Пигвиггена. Святой Георгий провозглашает победу рыцарского духа и Круглого стола. Грандиозный патриотический финал.Излишне объяснять Вам, так хорошо знающему ресурсы своего театра, что я готовил этот план с расчетом на певцов, которые свободны прямо сейчас, за исключением мадам Каталани, которая удалилась от дел, но готова вернуться на сцену: нам удастся соблазнить ее партией Гвиневры, если мы предоставим достаточно возможностей для ее прекрасной колоратуры, что вовсе не трудно. Если у Гофмана не получится, наш друг Бишоп напишет что-нибудь в своем обычном цветистом стиле. А другие актеры – кто же, как не Брэм на роль Артура, Дюрасет – Ланселота, мисс Коз – Элейны, Кили – Мерлина (он уже потерял голос, но я вижу Мерлина второстепенной комической фигурой) и мадам Вестрис – Пигвиггена, в костюме, выигрышно подающем ее великолепные конечности? Ренч превосходно справится с ролью Оберона, так как он умеет танцевать, а мисс Пейтон, достаточно миниатюрная, несмотря на свою растущую корпулентность, – с ролью Титании. Из Огастеса Бэрроуза выйдет превосходный святой Георгий. Мило, не правда ли?
Можно было бы подумать, что мы отлично разложили всю оперу, оставив простор для всяческой фантазии, гротеска и прочего, на каковые, по вашему уверению, герр Гофман – большой мастер. Но нет. О нет!
Наш немецкий друг отвечает мне со множеством комплиментов на очень формальном французском – он польщен нашим сотрудничеством, сознает, какую славу принесет ему работа для Ковент-Гардена, и прочая и прочая, – а потом начинает читать мне типично немецкую лекцию об опере. По его мнению, время оперы, подобной предложенной мною, – подумайте, он назвал ее «восхитительной рождественской сказкой для детей!» – давно прошло и настало время замыслов, более серьезных с музыкальной точки зрения. В его опере не будет отдельных номеров или песен, связанных диалогом, но непрерывный поток музыки; к ариям прибавится recitativo stromentato, так что оркестру, по сути, некогда будет отдохнуть – оркестрантам придется весь вечер пилить и дудеть! И музыка должна быть драматической, а не просто давать предлог для демонстрации голоса особо одаренных певцов – «исполнителей на человеческой гортани, этом сильно переоцененном инструменте», как он выразился! (Интересно, что сказала бы мадам Кат?) И еще у каждого персонажа должен быть свой музыкальный «девиз», под которым герр Гофман разумеет фразу или инструментальный росчерк, обозначающий только этого персонажа; этот «девиз» можно представлять различными способами согласно духу действия. Он утверждает, что это произведет поразительный эффект и возвестит новый способ написания опер! Да уж, конечно – и заодно выгонит всех зрителей из театра, я в сем не сомневаюсь!
Прекрасно. Музыка – это его дело, я полагаю, хоть я и сам не полный невежда в сей науке, как уже несколько раз имел возможность доказать. Но когда он смеется над моим наброском драматической части пиесы – думаю, у меня есть право говорить откровенно. Он хочет вернуться назад, к оригинальным легендам об Артуре, и драматизировать их «серьезно», как он говорит, а не в духе un bal travesti.[20]20
Бал-маскарад (фр.).
[Закрыть] Думаю, это намек на моих Семь Поборников, изображаемых дамами: я совершенно уверен, что публика будет в восторге, поскольку дамы в рыцарских доспехах сейчас, если можно так выразиться, на пике моды – частью потому, что показывают ноги, но что из того? Полосатые трико для каждой «поборницы» в цветах национального флага соответствующей страны дадут превосходный эффект и понравятся той части зрителей, которую не увлекает музыка. Оперный театр – не монастырь и никогда им не был. Далее герр Гофман говорит о «кельтской атмосфере» Артуровой легенды, явно не понимая, что артуровские легенды давно перешли – по праву завоевания – в собственность Англии, а следовательно, и в собственность ее оперного театра.Но не беспокойтесь, дорогой друг. Я сейчас пишу ответ, который разъяснит герру Гофману многие вещи, явно доселе ему неизвестные. Я уверен, что мое письмо возымеет немедленный эффект и наше дальнейшее сотрудничество будет весьма дружественным.
Засим имею честь подписаться,
Ваш покорный слуга
Джеймс Робинсон Планше.18 апреля 1822 года
– Господи боже мой! – воскликнул Артур.
– Не беспокойся, – заметил Герант. – Я такое все время вижу. Театральный народ только так и общается. Это называется «творческий фермент, порождающий всякое великое искусство». Точнее, так это называют, когда хотят выразиться деликатно. Надо думать, есть еще письма?
– И какие! – сказала Пенни. – Слушайте, сейчас я вам прочитаю второе.
Дорогой Кембл!
Преодолев свое вполне объяснимое огорчение – ибо я взял себе за правило никогда не говорить и не писать, будучи во гневе, – я вновь написал нашему другу Гофману в манере, кою Эйвонский Бард именует «утешительной». Я повторил свои основные тезисы и подкрепил их отрывками из стихов, подходящих для использования в опере. Например, я предложил начать оперу хором охотников. Что-нибудь воодушевленное, и побольше медных духовых в оркестровке, со словами вроде этих:
Пошли мы на охоту
Ранехонько с утра:
Охота нам угрохать
Ба-альшого кабана!
Нас ждала с кабаном незадача:
Перепутали мы, не иначе,
Но волшебный наш друг
Поразил всех вокруг
И копьем кабана охреначил.
Засим должна последовать уморительно смешная песня Пигвиггена (я уже упомянул, что его будет играть мадам Вестрис?) об охоте на кабана (с некоторой игрой на слове «охота», как то: «мы отправились на охоту» и «ему охота»), а затем охотники повторяют припев.
В этой сцене должен быть очень явным мотив волшебства. Желательно, чтобы в декорациях и одежде доминировал голубой цвет, символизирующий волшебную силу Пигвиггена, – он быстр и ловок, подобие Пака, в противоположность тяжеловесной, комической магии Мерлина. Может, вставить здесь еще песню? Пигвигген должен понравиться всем зрителям, и дамам, и джентльменам: первым – как очаровательный мальчик, вторым – как очаровательная девушка в голубых одеждах мальчика. Сей трюк был столь хорошо известен Барду! Я предложил в письме к герру Г., чтобы Пигвигген пел примерно следующее:
Король равнялся с мудрецом:
Кто красен жезлом, кто лицом,
Чья кровь знатней и голубей,
Кто всех сильнее и мудрей?
– Боюсь, у современной публики эти строки вызовут нездоровое оживление, – заметил Даркур. – Прости, Пенни, я не хотел тебя перебивать, но в наше время упоминать о жезлах, голубом цвете и мальчиках, которые на самом деле девочки, следует с большой оглядкой.
– Погоди, то ли еще будет, – ответила Пенни и продолжала читать письмо:
Любовная пиния Ланселота и Гвиневры составляет основную романтическую тему оперы. Я набросал дуэт, чтобы Гофман начал его обдумывать. Я не композитор – хоть и не чужд музыке, как уже говорил, – но, думаю, эти стихи помогут создать нечто подлинно прекрасное человеку, обладающему даром композитора, – как, мы имеем основания полагать, Гофман. Итак, Ланселот стоит под окном Гвиневры.
Ночь темна, и ярко светят
Звезды над водой,
О, любимая, мы встретим
Эту ночь с тобой.
Будет литься эта песня,
Будет лютня подпевать,
Будет голос твой чудесный
Страсть и нежность пробуждать.
Ночь темна, и ярко светят
Звезды над водой,
О, любимая, мы встретим
Эту ночь с тобой.
– Простите, можно вас побеспокоить на предмет еще капельки виски? – вполголоса спросил Холлиер у Артура.
– Всенепременно. Если там и дальше в том же духе, то мне самому понадобится большой стакан, – ответил Артур и передал Холлиеру графин. Оказалось, что Даркуру и Пауэллу тоже необходимо выпить.
– Я должна заступиться за Планше, – сказала Пенелопа. – Всякое либретто при чтении звучит очень плохо. Но послушайте, что отвечает ему Гвиневра из окна:
Ах, боже мой, бушуют страсти
В моей груди!
Ах, я твоя, ты – мое счастье,
Ко мне приди.
Я неприступной, вероятно,
Тебе кажусь —
Пока в любовь я безвозвратно
Не погружусь.
Дальше, насколько я поняла, по замыслу Планше Ланселот уговаривает Гвиневру вступить с ним в сношения через дупло, где они будут оставлять друг другу условные знаки.
– Только не это, – сказал Пауэлл. – Сначала голубые мальчики, а теперь сношения в дупло прямо на сцене. Нас разгонит полиция.
– Будьте любезны, перестаньте пошлить, – сказала Пенни. – Не все любовные песни так сентиментальны. Послушайте, что должен петь турецкий султан, когда Круглый стол прибывает к его двору. Красота Гвиневры его немедленно сразила. Он поет:
Я думал о пери и гуриях,
О звездах арабских ночей,
Но эта прекрасная фурия!
Сравнится ли кто-нибудь с ней?
Какая страсть! Какая страсть! Какая страсть
В любом ее движении!
Когда б мечта моя сбылась, сбылась, сбылась —
Дарить ей наслаждение!
– Пенни, вы серьезно нам это предлагаете? – спросила Мария.
– Планше, безо всякого сомнения, предлагал это серьезно – и с полной уверенностью. Он знал свой рынок. Это либретто начала девятнадцатого века – я вас уверяю, что в ту эпоху людям нравилось именно такое. Эпоха регентства, ну или достаточно близко к ней. Любители музыки насвистывали и пели «Избранные парафразы из концертов», играли их на шарманке и барабанили на своих любимых лакированных «фортепьянах». В те времена, бывало, ставили Моцарта, из которого выбрасывали целые куски и заменяли их веселенькими новыми мелодиями Бишопа. Это потом опера стала очень серьезным делом, почти священнодействием, и ее стали слушать в благоговейной тишине. В эпоху регентства люди считали оперу забавой и обходились с ней по-свойски.
– И что ответил Гофман на эту чушь? – спросил Холлиер.
– Мне кажется, «чушь» – немного слишком сильное слово, – заметила Пенни.
– Подобный юмор совершенно омерзителен! – воскликнул Артур.
– Планше очень свысока относится к прошлому, а я этого терпеть не могу, – сказала Мария. – Он вертит Артуром и его рыцарями, как будто у них нет ни капли человеческого достоинства.
– О, это верно. Очень верно, – согласилась Пенни. – Но разве мы от него чем-нибудь отличаемся – со всеми нашими «Камелотами»,[21]21
«Камелот» – мюзикл (1960) и фильм на его основе (1967) по мотивам серии романов T. X. Уайта «Король былого и грядущего» (The Once and Future King, 1958), пересказывающих рыцарский роман «Смерть Артура» (Le Morte D’Arthur, ок. 1450–1470) сэра Томаса Мэлори, в свою очередь являющийся интерпретацией легенд о короле Артуре.
[Закрыть] «Монти Пайтонами» и прочим? Театралам всегда льстило, когда их много-раз-прапрадедушек представляли идиотами. Иногда мне кажется, что нелишне было бы учредить Хартию прав и свобод для покойников. Но вы совершенно правы: это юмористический текст. Послушайте, что поет Элейна, когда Ланселот дает ей отставку:
Прекрасным утром летним
Прощаюсь я с надеждой:
Коль мне не быть твоею,
Навек смежу я вежды.
На ложе темной ночью
Мою получишь весть,
Услышишь тихий голос:
«Я здесь, я здесь, я здесь!»
– Прямо какая-то лебединая песнь, – заметил Артур.
– А что там с грандиозным патриотическим финалом? – спросил Даркур.
– Сейчас посмотрим… где это? А, вот:
Ликует лес, ликует дол:
Се на престол Артур взошел!
С великой радости народ
Хвалу правителю поет.
Слава, слава королю
По-ве-ли-те-лю!
– В этом даже и смысла нет никакого, – сказал Холлиер.
– И не должно быть. Это патриотизм, – ответила Пенни.
– Неужели Гофман положил это на музыку? – спросил Холлиер.
– Нет. Вот последнее письмо, которое, судя по всему, подводит черту. Слушайте.
Дорогой Кембл!
К сожалению, у меня неутешительные новости от нашего друга Гофмана. Как Вы знаете, я послал ему наброски нескольких песен для пиесы об Артуре, с обычными заверениями, положенными либреттисту, что я изменю их любым образом, по его усмотрению, чтобы они легли на сочиненную им музыку. И разумеется, что я напишу дополнительные куплеты для театральных сцен, о которых мы договорились. И когда все это будет завершено, я объединю сцены диалогами. Но, как Вы видите, он упорно застрял на своей idée fixe.[22]22
Навязчивая идея (фр.).
[Закрыть] Я полагал, что причиной наших разногласий служит язык; не знаю, насколько хорошо герр Гофман понимает по-английски. Однако он счел за благо ответить мне именно на этом языке. Прилагаю его письмо.
Достоуважаемый сэр!
Чтобы устранить всякие предпосылки для непонимания, я пишу сии строки на немецком языке с тем, чтобы мой досточтимый друг и коллега Schauspieldirektor[23]23
Импресарио (нем.).
[Закрыть] Людвиг Девриент перевел их на английский, коим я владею не в полном совершенстве. Однако же мои познания в английском языке вполне достаточны, чтобы уловить дух Ваших прекрасных стихов и объявить их полностью непригодными для задуманной мною оперы.
Большим счастьем для меня были великие изменения в музыке, происходившие на протяжении всей моей жизни, – многие музыканты даже великодушно говорят, что и я внес свою лепту в сии перемены. Ибо, как Вы, вероятнее всего, не знаете, я написал изрядное число музыкальных критических статей и удостоился даже похвалы великого Бетховена, не говоря уже о дружбе Шумана и Вебера. Бетховен сожалел впоследствии, что окончил наконец своего «Фиделио» в виде оперы с разговорными диалогами (Singspiel,[24]24
Зингшпиль, комическая опера (нем.).
[Закрыть] как мы это называем). Со времени завершения моей последней оперы «Ундина», которую Вебер столь великодушно осыпал похвалами, я много думал о природе оперы вообще; и ныне – когда мое время истекает по причинам, о которых не буду здесь распространяться, – я испытываю великое желание написать вымечтанную мною оперу или не писать вовсе никакой. И, досточтимый сэр, прошу извинить меня за прямоту, но предложенное Вами либретто вовсе не годится для оперы, как я ее вижу.
Когда я говорю о вымечтанной мною опере, это не просто сложенные вместе красивые слова, уверяю Вас; это выражение того, чем, по моему мнению, должна быть музыка и что она должна быть способна выразить. Ибо разве музыка не язык? А если да, то язык чего? Не язык ли она мира снов, мира за пределами мысли, за пределами всех языков, известных Человеку? Музыка пытается говорить с Человеком на единственно возможном языке этого невидимого мира. В своем письме Вы вновь и вновь подчеркиваете, что мы должны сказать зрителю нечто, должны добиться успеха. Но что это за успех? Я подошел к точке своей жизни – боюсь, к завершающей, – когда подобный успех более не имеет привлекательности. Мне недолго осталось говорить, а посему я желаю говорить только правду.
Я покорнейше прошу Вас пересмотреть свою точку зрения. Мы должны создать не очередной Singspiel полный шуточек и эльфийских персон, но оперу в духе будущего, насквозь пронизанную музыкой; арии в ней будут связаны диалогом, который поется под аккомпанемент оркестра, а не просто под редкое бряцание клавикорда, задающее тон певцу. Умоляю Вас, о досточтимый сэр, давайте серьезно отнесемся к британским легендам и не будем представлять короля Артура площадным шутом.
Напротив того, главной пружиной действия мне видится открытие королем Артуром любви Ланселота и Гвиневры и великое страдание, в котором король смиряется с их любовью. Все, что нужно для создания этого сюжета, есть в вашем великом английском романе «Смерть Артура». Умоляю Вас, черпайте вдохновение оттуда. Покажем зрителям эту великую любовь; великую скорбь, в которую повергает Ланселота сознание, что он предает своего друга и короля; безумие Ланселота, вызванное раскаянием. Создадим оперу о трех людях высочайшего благородства. Сделаем прощение Артура, его понимание и любовь к своей королеве кульминацией сюжета. Я предлагаю следующее название: «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Не знаю, насколько хорошо оно звучит на английском языке, но Вы, без сомнения, можете судить об этом.
Но умоляю Вас, давайте исследуем то чудесное, что таится в глубинах души. Пусть лира Орфея откроет нам дверь в подземный мир чувств.
Со всяческими уверениями в наивысочайшем к Вам почтении,
остаюсь Ваш покорный слуга
Э. Т. А. Гофман.1 мая 1822 года
P. S. Я прилагаю к сему некоторое количество грубых набросков, приготовленных мною для оперы того сорта, что мне столь желанен; надеюсь, что они донесут до Вас частицу чувства, о котором я говорил, – чувства, которое изобилует в, если выражаться модным ныне словом, романтизме.
Вот так, дорогой Кембл. Что скажете? А что сказать мне? Читая это, я так и представлял себе немцев с длинными дымящимися трубками, засидевшихся над кружками с густым темным пивом. Конечно, я знаю, о чем он говорит. Это называется Мелодрама – род театрального действа, когда стихи читают или поют под музыку; совершенно бесполезная вещь для оперы, как мы ее понимаем в Ковент-Гардене.
Но я сдержался. Никогда не выходить из себя, имея дело с музыкантами, – это хороший принцип, как Вы знаете по опыту своих сношений со вспыльчивым Бишопом, из коих Вы всегда выходите победителем благодаря своей превосходной Флегматичности. Я написал снова, пытаясь уговорить Гофмана посмотреть на дело с моей точки зрения; в мои задачи, объяснял я ему, не входит продвижение вперед границ музыки и ныряние в мутное царство снов. Я уверил его, что шутку англичане ценят превыше всего и если что говоришь англичанину, это следует говорить шутливо или вовсе не говорить, когда речь идет о музыке. (Я исключаю, конечно, жанр Оратории, ибо это совсем другое.) Я даже попытался впечатлить герра Гофмана прелестной написанной мною песенкой, предлагая сделать ее первым выступлением эльфа Пигвиггена (мадам Вестрис) для обрисовки характера персонажа:
Сидит на троне Оберон
С Титанией своей,
Но он ли правит всей страной?
Да полноте, ей-ей.
Вот я – Пигвигген, их Премьер —
Министр и советник,
Я всех важней, хотя, ей-ей,
Не так-то я заметен.
Вот с королевою король
Не поделили что-то,
Их помирить тотчас изволь:
Нелегкая работа!
Кто правит Сказочной страной?
Ей-ей, конечно, не Король!
Я здесь отнюдь не лишний:
Главней Сморчка и Шишек.
В своих одеждах голубых,
Всем правлю я – от сих до сих!
В волшебной дали голубой
Король считается со мной!
В волшебной дали голубой
Важней Пигвигген, чем король!
Осмелюсь сказать – не из тщеславия, но как человек, завоевавший достойное место в театре сочинением нескольких пиес, имевших несомненный успех, – что песенка весьма удалась. Вы согласны?
Прошло уже несколько недель, но ни строки от нашего немецкого друга. Время, однако, идет, и я пошевелю его снова, столь добродушно, сколь я умею.
Примите и пр.,
Ваш Дж. Р. Планше.
– На этом письме есть пометка, сделанная рукой Кембла: «Мне сообщили, что Гофман умер в Берлине двадцать пятого июня. Немедленно известить Планше и назначить ему встречу – надо выбрать другую пиесу и другого композитора – Бишопа? – так как опера должна быть готова к Рождеству».
За Круглым столом воцарилось тяжелое молчание. Пенни взяла гроздь винограда из Блюда изобилия.
Первым заговорил Холлиер:
– Как вы думаете, что понял бедный умирающий Гофман из всего этого мусора про голубых мальчиков, сморчки и шишки?
– Современные зрители, несомненно, воспримут это как непристойную шутку. Язык в некоторых отношениях сильно изменился со времен Планше, – сказал Даркур.
– Это уж точно, – заметил Артур.
– Может быть, с современными зрителями не все так плохо, – утешил их Пауэлл, настроенный, кажется, оптимистичнее прочих. – Помните ту песню из «Кордебалета»?[25]25
«Кордебалет» (А Chorus Line) – мюзикл 1975 г.
[Закрыть] Там все время было про «голубые дали», а пела девушка с великолепными конечностями. И у публики это вызвало Фурор.
– Не могу не согласиться насчет изменений в языке, – сказала Пенни. – Это я еще не стала вам читать наброски диалогов, которые Планше послал Кемблу. Пигвигген у него приходит в лес, «где голубые ели», а потом долго распространяется о том, что у него теперь есть две волшебные шишки.
– Что у него есть? – в ужасе переспросил Артур.








