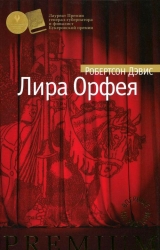
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Робертсон Дэвис
Лира Орфея
Лира Орфея открывает двери подземного мира.
Э. Т. А. Гофман
I
1
Артур, председатель-виртуоз, плавно подводил к концу очередное собрание:
– Все согласны, что эта затея совершенно безумна, абсурдна, может обойтись непредсказуемо дорого и нарушает все законы финансовой осмотрительности? Мы все высказались, в разной форме, но по существу были единодушны: ни один нормальный человек не пожелает связываться с таким проектом. Принимая во внимание основополагающие принципы Фонда Корниша, все это – прекрасные доводы за то, чтобы удовлетворить заявку с дополнением, которое мы сегодня обсуждали, и приступить к осуществлению проекта.
У него и впрямь способности к музыке, подумал Даркур. Он творит каждое собрание, как симфонию. Сначала объявляет тему, потом разрабатывает ее в мажоре и в миноре, тянет, дразнит, терзает, гоняет туда-сюда по закоулкам и наконец, когда это уже становится утомительным, подстегивает нас, мы сливаемся в оживленном финале и под завершающие звучные аккорды благополучно голосуем.
Но некоторые люди не терпят, когда что-нибудь кончается. Холлиеру непременно надо было продолжить спор.
– Даже если по какой-то дикой случайности проект окажется успешным, какая от него будет польза? – спросил он.
– Вы упустили главное, – ответил Артур.
– Я, как директор Фонда Корниша, обязан проявлять осмотрительность.
– Но, дорогой мой Клем, вы – директор особенного фонда с необычными целями. Я прошу вас задействовать воображение, что совсем нехарактерно для фондов. Я прошу вас санкционировать чрезвычайно рискованную затею в надежде на необычайный успех. Вам незачем притворяться бизнесменом. Будьте собой – смело мыслящим ученым-историком.
– Ну, я полагаю, если так подойти к делу…
– Да, я подхожу к нему именно так.
– Но я все же думаю, что мой вопрос имеет смысл. Зачем миру еще одна опера? Их и без того уже много, и в цивилизованном мире на каждый квадратный километр приходится несколько человек, которые пишут новые оперы.
– Но эта опера будет совершенно особенной.
– Почему? Потому что композитор умер, не дописав ее? Потому что эта девица, Шнак-что-то-там, хочет ее закончить и получить за это ученую степень? Не вижу, что в этом особенного.
– Вы сильно упрощаете наш план…
– И оставляете за кадром самое главное. Вы забыли, что мы собираемся поставить законченную оперу на сцене и показать ее широкой публике, – вмешался Герант Пауэлл, актер, озабоченный своей театральной карьерой. Он был уверен, что постановку оперы поручат ему.
– Думаю, не следует забывать, что все сторонники этого плана чрезвычайно высокого мнения о мисс Шнакенбург. Они намекают, что она – гений, а мы ведь как раз ищем гениев, – сказал Даркур.
– Да, но разве мы хотели заниматься шоу-бизнесом? – спросил Холлиер.
– Почему бы нет? С вашего разрешения, я повторюсь: мы учредили Фонд Корниша на деньги, оставленные человеком, который прекрасно знал и любил искусство и не боялся рисковать. Нам нужно было решить, что это будет за фонд. И мы решили. Он должен способствовать процветанию искусства и гуманитарных наук, а план, который мы рассматриваем, имеет прямое отношение и к искусству, и к гуманитарным наукам. Мы ведь договорились, что не хотим учреждать еще один фонд, который дает деньги солидным, надежным проектам и отходит в сторону, дожидаясь солидных, надежных результатов. Нынешнее меценатство поражено осторожностью и невмешательством, словно артритом. Давайте поддержим то, что нам нравится, и устроим тарарам. Мы уже сделали реверанс в сторону надежности – заработали имидж добропорядочной скучной организации, поручив Симону написать биографию нашего основателя и благодетеля…
– Спасибо, Артур. Огромное спасибо. Я даже не надеялся, что моя работа получит столь высокую оценку. Видишь, я краснею от смущения.
Симон Даркур прекрасно знал: труд биографа гораздо тяжелее, чем думает Артур. Кроме того, Симон отчетливо помнил, что до сих пор не попросил и не получил ни гроша за проделанную работу. Он, как многие литераторы, был обидчив.
– Симон, извини. Ты наверняка понял, что я хотел сказать.
– Я знаю, что ты, по-твоему, хотел сказать, но книга может оказаться вовсе не такой занудной, как ты думаешь.
– Надеюсь, что нет. Но я, собственно, подводил к тому, что книга обойдется в какие-нибудь несколько тысяч долларов. Мы, конечно, не самый богатый фонд в Канаде, но все равно нам нужно избавиться от кучи денег. Мне хочется сделать что-нибудь эффектное.
– Это ваши деньги и, надо полагать, ваше право решать, что с ними делать. – Холлиер все еще пытался выступать в роли голоса разума.
– Нет, нет и еще раз нет. Это не мои деньги. Это деньги фонда, директора которого – мы все: вы, Клем, и ты, Симон, и ты, Герант, и, конечно, Мария. Я лишь председатель, первый среди равных – раз уж у фонда должен быть председатель. Неужели я вас не убедил? Вы действительно хотите унылой надежности? Кто за надежность и скуку – поднимите руки.
Ни одна рука не поднялась. Но у Холлиера осталось чувство, что ему подставили подножку нечестным риторическим приемом. Герант Пауэлл вообще не любил заседаний и с нетерпением ждал, когда это заседание окончится. Даркур счел, что Артур обошелся с ним высокомерно. Мария прекрасно знала, что Холлиер совершенно прав и что деньги на самом деле принадлежат Артуру, несмотря на все юридические хитросплетения. Она знала также, что сама не имеет никаких прав на эти деньги, разве что ее слово, как жены Артура, имеет чуть больший вес.
Она совсем недавно вышла замуж за Артура и всем сердцем любила его, но знала: он может быть ужасным тираном, когда ему чего-нибудь хочется. А сейчас ему страстно хотелось быть удачливым, изобретательным, смелым покровителем искусств. Он тиран, думала она. Должно быть, король Артур был именно таким тираном, когда убеждал рыцарей Круглого стола, что он всего лишь первый среди равных.
– Значит, мы все согласны? – продолжал Артур. – Симон, напишешь резолюцию? Не обязательно в отточенной формулировке: мы ее потом причешем. У всех налито? А почему никто ничего не ест? Угощайтесь, перед вами Блюдо изобилия.
Это была шутка, которая, как это бывает с шутками, уже немного приелась. «Блюдо изобилия», большое сложное сооружение из серебра, стояло посреди круглого стола, за которым сидели собравшиеся. От затейливо украшенного центрального основания отходили изогнутые стержни, на концах которых были тарелочки для сухофруктов, орехов и сластей. Жутко уродливая штука, подумала Мария, – несправедливо, так как ваза была прекрасным образцом подобного рода вещей. Это был свадебный подарок Артуру и Марии от Даркура и Холлиера, и Мария ненавидела вазу, так как знала, что такая дорогая вещь на самом деле не по карману ее бывшим преподавателям. И еще ваза воплощала в себе все, что Марии не нравилось в ее браке, – бессмысленную роскошь, высокомерие богатства, величественную бесполезность. После желания сделать Артура счастливым Мария больше всего на свете хотела стать настоящим ученым. Ей до сих пор казалось, что большие деньги и великая ученость несовместимы. Но Мария была женой Артура, и, раз никто не стал угощаться из вазы, Мария для виду взяла пару орехов.
Пока Даркур трудился над резолюцией, остальные директора фонда не вполне дружелюбно болтали между собой. Артур сильно раскраснелся, и Мария заметила, что у него заплетается язык. Неужели он пьян? Он никогда не пил много. Он взял шоколадку с Блюда изобилия, но, похоже, она оказалась неприятной на вкус – он выплюнул ее в носовой платок.
– Так сойдет? – спросил Даркур. – «Собрание постановило, что фонд решил удовлетворить совместную заявку отделения аспирантуры кафедры музыковедения и мисс Хюльды Шнакенбург на материальную помощь, которая даст мисс Шнакенбург возможность сформировать и завершить рукописную партитуру, ныне хранящуюся в библиотеке отделения (в числе нотных рукописей, завещанных покойным Фрэнсисом Корнишем), оперы, которую оставил не завершенной по своей смерти в тысяча восемьсот двадцать втором году Эрнст Теодор Амадей Гофман. Работа должна быть выполнена в соответствии с оперными традициями времен Гофмана и для оркестра в соответствующем составе. Проект будет засчитан мисс Шнакенбург как частичное выполнение требований, необходимых для получения степени кандидата музыковедческих наук. Далее собрание постановило, что в случае удовлетворительного выполнения работы опера будет поставлена на сцене и показана публике под названием, которое дал ей сам Гофман, – „Артур Британский“. Ни кафедра музыковедения, ни мисс Шнакенбург еще не извещены о последней части нашего предложения».
– Это будет для них приятный сюрприз, – сказал Артур.
Он пригубил из бокала и тут же поставил его на место, будто напиток показался невкусным.
– Сюрприз, несомненно, – заметил Даркур. – Приятный ли – это вопрос. Кстати, а вы не думаете, что в протокол стоит внести полное название оперы?
– А разве она называется не просто «Артур Британский»? – спросил Герант.
– Нет. Гофман, по тогдашней моде, дал ей двойное название.
– Да, я знаю такие, – сказал Герант. – «Артур Британский, или… что-то еще». Что?
– «Артур Британский, или Великодушный рогоносец», – ответил Даркур.
– В самом деле? – спросил Артур. Его как будто беспокоила горечь во рту. – Ну, я думаю, если нам не нужно полное заглавие, не обязательно его упоминать.
Он снова сплюнул в платок, стараясь, чтобы никто не заметил. Но мог и не стараться, потому что, услышав полное название оперы, никто из собравшихся не взглянул на Артура.
Три других директора фонда смотрели на Марию.
2
Назавтра не успел Симон Даркур сесть за работу, как его оторвал телефонный звонок Марии. Артур был в больнице – у него оказалась свинка, или паротит, как эту болезнь называют врачи. Но врачи не сказали Марии того, что знал Даркур: свинка у взрослого мужчины – это серьезно. Она вызывает болезненное опухание яичек и может причинить непоправимый вред. Артур на несколько недель выбывал из строя. Но он сказал Марии, едва шевеля распухшей челюстью, что работа фонда должна продолжаться, и как можно быстрее, силами Даркура и Марии.
Как это похоже на Артура! У него был в высшей степени развит непревзойденный навык делового человека – перекладывать ответственность на других, уступая при этом лишь жалкие крохи власти. Даркур познакомился с Артуром после смерти своего друга Фрэнсиса Корниша: тот назначил Даркура одним из исполнителей своего завещания. Главным исполнителем, наделенным всей полнотой власти, был Артур. Он сразу показал себя прирожденным лидером. Как многие лидеры, временами он был жестковат, часто задевал чьи-нибудь чувства, но не из личной неприязни, а просто по недомыслию. Он был председателем совета директоров огромного Корниш-треста; крупные финансовые воротилы восхищались им и доверяли ему. Но вне деловой жизни он хорошо разбирался в искусстве, что для банкира нетипично. Точнее говоря, он любил искусство по-настоящему, а не просто благоволил к нему, как положено руководителю крупной корпорации.
Его намерения доказывало то, что он так стремительно основал Фонд Корниша на деньги, оставленные дядей Фрэнком. Артур хотел стать крупным меценатом – ради забавы и из любви к приключениям. Разумеется, фонд принадлежал ему. Для виду он учредил совет директоров, но кого туда пригласил? Клемента Холлиера, потому что Мария, как бывшая студентка Холлиера, питала к нему особую привязанность. И кем оказался Холлиер? Любителем совать палки в колеса и постоянно рассматривать вопросы с другой стороны; высочайшая репутация ученого-медиевиста не искупала его мрачной несостоятельности как человеческого существа. Еще Артур выбрал в директора Геранта Пауэлла: Пауэлл, восходящая звезда театра, обладал шармом и бурлящим энтузиазмом, типичными для людей этой породы. Он с чисто валлийским легкомыслием поддерживал самые экстравагантные начинания Артура. И еще в совет директоров вошла Мария, жена Артура; милая Мария, которую Даркур любил когда-то. Да и до сих пор еще любил – может быть, даже острее теперь, когда ему уже наверняка не грозила взаимность. Теперь он мог трудиться, как раб, на благо своей дамы, романтически упиваясь неразделенным чувством.
Таково было мнение Даркура о коллегах по фонду. Что же он думал о себе?
Миру он был известен как преподобный Симон Даркур, хороший преподаватель греческого языка и авторитетный ученый; он был заместителем декана в колледже Плоурайт, подразделении университета, где готовили магистров и аспирантов. Кое-кто считал его мудрым человеком и приятным собеседником. Но Артур прозвал его «аббат Даркур».
Что такое аббат? Разве не правда, что на протяжении столетий так называли священника, который на самом деле принадлежал к разряду старших слуг? Аббат ел за одним столом с хозяевами, но у него была комнатка при дворцовой библиотеке, где он трудился как личный секретарь, посредник и устроитель всяческих дел. В театре и литературе аббаты плели интриги и забавляли дам. В наше время уже никого не зовут аббатом, но аббаты еще нужны миру, и Даркур чувствовал себя одним из них. Однако его коробило, что Артур так бесцеремонно называет вещи своими именами.
Предположительно в былые дни аббатам платили жалованье. Даркура постоянно глодала мысль, что он не получает ни гроша, хотя выполняет обязанности секретаря фонда и вообще, как он это для себя формулировал, всячески пашет на благо фонда. Но он понимал: пока ему не платят, его независимости ничто не грозит. Независим, как свинья на льду, подумал он, – старые лоялистские онтарийские поговорки часто нежданно-негаданно всплывали у него в голове. Но если он не хочет, чтобы пострадала его университетская работа, придется пахать день и ночь – а он был из тех, кому необходима определенная доля творческого безделья, время на раскачку.
Творческое безделье – не для того, чтобы грезить или спать, но чтобы расставить информацию в голове наилучшим образом. Взять, например, жизнь Фрэнсиса Корниша: Даркур был уже в отчаянии. Он набрал массу фактов, потратил кучу денег, чтобы провести лето в Европе и выяснить все, что можно, о жизни Корниша в Англии. Оказалось, что Корниш был кем-то там в английской контрразведке, но контрразведка не торопилась об этом рассказывать. Конечно, Фрэнсис сыграл важную роль в возвращении награбленных картин законным владельцам (насколько их удавалось установить). Но тут крылось что-то еще, и Даркуру никак не удавалось выяснить, что именно. Перед началом Второй мировой войны Фрэнсис чем-то занимался в Баварии: чем глубже Даркур копал, тем сильнее уверялся, что тут-то и зарыта собака, но ему никак не удавалось посадить эту собаку на цепь. В жизни Фрэнсиса Корниша зияла огромная дыра длиной лет в десять, и Даркуру нужно было ее заполнить. Один след (возможно, горячий) вел в Нью-Йорк, но как выкроить время для поездки и кто оплатит расходы? Даркуру уже надоело тратить деньги (по его меркам немалые) на добывание материала для книги, к которой Артур относился с явным пренебрежением. Даркур твердо решил написать хорошую книгу, насколько это в его силах, но он работал над ней уже год и чувствовал, что им откровенно пользуются.
Но почему он не мог взять и обрисовать положение, потребовать платы за свою работу, объяснить, что эта книга уже обошлась ему в большую сумму, чем он когда-либо надеется за нее получить? Потому что не хотел выставить себя в таком свете перед Марией.
Он знал, что ведет себя как дурак, притом жалкий. Любому человеку было бы неприятно сознавать, что он – жалкий дурак, секретарь подставного совета директоров, обремененный тяжелейшей задачей.
А теперь, значит, у Артура свинка! Любовь к ближнему требовала, чтобы Даркур испытывал подобающее случаю сожаление. Но непокорный бес, которого Даркуру так и не удалось в себе придушить, радовался при мысли, что у Артура яйца распухнут, как два грейпфрута, и будут зверски болеть.
Злободневные заботы неумолимо требовали внимания. Даркур потратил какое-то время на административные обязанности заместителя декана, побеседовал со студентом, у которого были «личные проблемы» (из-за девушки, разумеется), провел семинар по греческому языку Нового Завета и съел питательный, но скучный обед в столовой колледжа. Затем Даркур направился к зданию, которое остальному университету казалось неприлично роскошным, – здесь располагалось отделение аспирантуры кафедры музыковедения.
Кабинет заведующего кафедрой был красив – современной красотой. Он приходился на угол здания, и две стены были полностью стеклянные: по замыслу архитектора они должны были открывать владельцу кабинета прекрасный вид на парк, простирающийся вокруг. К сожалению, стены также открывали проходящим мимо студентам прекрасный вид на заведующего, погруженного в работу – или, может быть, в творческое безделье. Поэтому завкафедрой прикрыл окна тяжелыми занавесями, так что в кабинете было темновато. Кабинет был большой; письменный стол завкафедрой казался меньше из-за соседства с роялем, клавикордами (завкафедрой специализировался на барочной музыке) и гравированными портретами музыкантов восемнадцатого века на стенах.
Уинтерсен, завкафедрой, был рад, что мисс Хюльда Шнакенбург получит деньги и в поддержку своей работы, и на проживание. Он разоткровенничался:
– Надеюсь, это решит сразу несколько проблем. Эта девушка – я буду звать ее Шнак, ее все так зовут, и она вроде бы не возражает – чрезвычайно талантлива. Я бы сказал, что большего таланта на этой кафедре не припомню ни я сам, ни мои коллеги. Через нас проходят толпы студентов, из которых многие станут прекрасными исполнителями, а иные достигнут подлинного мастерства. Но Шнак – нечто гораздо более редкое: возможно, что она – истинно талантливый композитор. Но если она будет продолжать в том же духе, то рано или поздно это доведет ее до беды и, может быть, вообще погубит!
– Эксцентричность гения? – спросил Даркур.
– Нет, если вы имеете в виду живописные выходки и склонность изливать душу. В Шнак нет ничего живописного. Сколько лет я завкафедрой – и ни разу не встречал таких грязных, грубых сопляков с омерзительными манерами. А я всякого повидал, можете мне поверить. Что же касается души – боюсь, если вы употребите это слово в присутствии Шнак, она вас ударит.
– А что ее гложет?
– Не знаю. Никто не знает. Она происходит из образцово посредственной семьи. Родители совершенно заурядны. Отец работает часовщиком в большом ювелирном магазине. Тусклый, серый – как будто родился с лупой в глазу. Мать – прискорбный ноль. Единственное, что их выделяет, – принадлежность к какой-то ультраконсервативной лютеранской секте. Они не переставая твердят, что дали дочери хорошее христианское воспитание. И кого же они вырастили? Анорексичку-неудачницу, которая не моет голову, да и вообще ничего не моет, огрызается на преподавателей и постоянно кусает кормящую руку. Но девица талантлива, и мы думаем, что ее талант – настоящий, большой, не однодневка. Сейчас она осваивает разные новейшие течения в музыке. Компьютерная музыка и алеаторика для нее уже пройденный этап.
– Тогда зачем ей работать над этими набросками Гофмана? Они кажутся чем-то совершенно устарелым.
– Это и нас всех интересует. Зачем ей нырять в прошлое на полторы сотни с лишком лет и доделывать незаконченную работу человека, которого обычно считают одаренным дилетантом? О да, Гофман написал несколько опер, и они были поставлены при его жизни, но, насколько мне известно, они весьма заурядны. В музыке он составил себе репутацию критика; он умно хвалил Бетховена раньше, чем кто-либо другой. Шуман был о Гофмане очень высокого мнения, а Берлиоз его презирал – это в своем роде похвала наоборот. Гофман вдохновил множество людей гораздо талантливей его самого. Я бы все же назвал его литератором.
– А разве это плохо? Впрочем, я знаю его лишь по одной опере – ну знаете, «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Офранцуженный вариант трех его сюжетов.
– По странному совпадению, это тоже незаконченная работа; Гиро составил оперу из нот Оффенбаха после его смерти. Я ее не люблю.
– Конечно, вы специалист. А я простой оперный любитель, и мне она понравилась. Хотя она не везде продумана: в ней есть нечто ускользающее от большинства оперных режиссеров.
– Думаю, лишь сама Шнак может объяснить, зачем ей эта работа. Но мы, преподаватели, довольны, так как этот проект хорошо укладывается в картину наших музыковедческих исследований и мы сможем присвоить Шнак ученое звание. Оно ей понадобится. С ее характером, ей жизненно необходимо набрать побольше солидных званий и дипломов.
– Вы хотите увести ее прочь от ультрамодерновой музыки?
– Нет-нет, я ничего не имею против современной музыки. Но для работы, которая будет засчитана как диссертация, нужно что-то более осязаемое. Может быть, работая над оперой, Шнак остепенится и хоть немного очеловечится.
Даркур решил, что сейчас самое время ознакомить завкафедрой с намерениями Фонда Корниша поставить новую оперу на театральной сцене.
– Боже! Они это всерьез?
– Да.
– А они вообще понимают, на что идут? Их затея может кончиться провалом, невиданным в истории оперного театра, – а это не пустые слова, скажу я вам. Я знаю, что Шнак не подведет, но материал может оказаться неблагодарным. Вы понимаете, о чем я: работа над оркестровкой, реорганизацией и прочим – это все косметическая хирургия, а ее возможности небезграничны. То, что поддержит фонд, и то, что можно создать на фундаменте, заложенном Гофманом, не обязательно привлечет публику.
– Фонд проголосовал в поддержку этого проекта. Вы же знаете, что эксцентричными бывают не только творцы; этим страдают и меценаты.
– Вы хотите сказать, что такова чья-то прихоть?
– Я ничего не говорил. Как секретарь фонда я сообщаю вам о его решении. Совет директоров фонда ознакомился со всеми факторами риска и все же готов вложить в этот проект существенные деньги.
– Да уж придется. Они хотя бы представляют, во что может обойтись полноразмерная постановка совершенно новой, никому не известной оперы?
– Они готовы вступить в игру. Но вам, конечно, придется следить, чтобы Шнак отработала эти деньги на совесть – в той мере, в какой у нее есть совесть.
– Они с ума сошли! Но я не намерен перечить чужой щедрости. Раз уж так легли карты, Шнак понадобится руководство на высочайшем возможном уровне. Авторитетнейший музыковед. Композитор не из последних. Дирижер, имевший дело с оперой.
– Три научных руководителя?
– Нет, всего один, точнее одна, если мы сможем ее заполучить. Но с вашими деньгами, надеюсь, я ее уломаю.
Он так и не сказал, кого имел в виду.








